3. Пелопоннесская война
3. Пелопоннесская война
Совсем другой характер, чем персидские войны, имеет война Пелопоннесская. Те характеризовались главным образом различием борющихся сил в вооружении и тактике. Здесь греки боролись с греками, но таким образом, что одна сторона имела на море такое же большое превосходство, какой другая имела на суше.
Вследствие этого была поставлена совсем иная задача стратегического характера. В персидских войнах стоял вопрос о крупных решениях — о том, покорит ли персидский царь Грецию или же будет прогнан оружием обратно. Наоборот, Пелопоннесская война продолжалась 27 лет, без какого-либо решительного сражения и кончилась взаимным истощением и опустошением, подобно Тридцатилетней и Семилетней войнам новейшего времени.
Разница, впервые проявившаяся между персидскими войнами и Пелопоннесской войной, постоянно наблюдается и в дальнейшей истории военного искусства: это — разница между войной на уничтожение и войной на истощение. Эти войны отличаются по своим целям и средствам, но свойственное им различие является и руководящей нитью, которую никогда не следует терять из виду тому, кто хочет разобраться в лабиринте истории. Можно прийти к самым нелепым, ложным выводам, если войну, ведущуюся по законам стратегии на истощение, оценивать по законам стратегии на уничтожение.
Дельбрюк говорит, что как в лице Мильтиада, Леонида, Фемистокла, Павзания эллины выдвинули гениальные творческие головы, которые, как только возникла необходимость в стратегии на уничтожение, поняли ее во всей глубине, разрешая поставленные перед ними задачи с классической твердостью, так в Перикле проявился человек, про которого можно сказать то же в отношении стратегии на истощение. Перикл понимал, что его город, т. е. Афины, был слабее Пелопоннесского союза, и делал отсюда с неумолимой логикой вывод, что афиняне не должны вступать ни в какие большие сухопутные битвы, не должны защищать свои владения от вражеских вторжений и опустошений и на время войны должны отказаться от всяких новых завоеваний. Наоборот, они не могут допустить ослабления своих морских сил и должны, ведя войну на море, блокируя афинским флотом вражеские берега, уничтожая торговлю городов-противников, высаживаясь там и здесь и производя неожиданные нападения на вражеские земли, наносить им еще больший вред, чем тот, который наносят враги Аттики на суше, чтобы в конце концов заставить утомленных войной противников уступить.
Спрашивается: была ли стратегия Перикла правильна или нет? Быть может, Афины могли и должны были вести войну на уничтожение, чтобы обеспечить себе господство над всей Грецией подобно тому, как Рим приобрел господство над всей Италией? Дельбрюк вел по этому поводу горячую полемику с другими буржуазными учеными, которые на самом деле утверждали и пытались доказать в ученых сочинениях, что Перикл очень заблуждался в своей стратегии. Эта распря не была лишена известного комического привкуса. После войны 1870–1871 гг. прусский милитаризм загорелся военным задором и утверждал, что старый Фриц, бывший фактически приверженцем стратегии на истощение и называвший ее всегда «хорошим методом», наоборот, следовал, будто бы, одиноко возвышаясь над своим временем, уже наполеоновской стратегии на уничтожение. Теодор фон Бернгарди, посланный в 1866 г. вместо незаменимого Мольтке военным представителем Пруссии в итальянскую главную квартиру, — следовательно, светило первого ранга прусской военной науки, — проводил эту фантазию в двух толстых томах; масса офицеров генерального штаба соглашалась с ним. Дельбрюк опровергал их, и хотя на это потребовались долгие годы, но в конце концов он восстановил историческую правду в ее правах. Между тем некоторые ученые головы и патриотически воспламененные Бернгарди умы принялись за Пелопоннесскую войну и разделали бедного Перикла, ничего не смыслившего в законах стратегии, которой следовал якобы прусский национальный герой. Весь этот сумбур Дельбрюк разъяснил доказательствами, что Перикл следовал той же стратегии, что и король Фридрих, который, если о нем судить сообразно законам стратегии на уничтожение, явился бы такой же жалкой карикатурой, какую сделали ученые из Перикла.
Но этим, собственно, еще не доказано, что Перикл был на правильном пути, тем более что Пелопоннесская война закончилась полным поражением Афин. И здесь приводимые доказательства Дельбрюка имеют, во всяком случае, большой пробел. Его труды относительно различия фридриховской и наполеоновской стратегий доходят всегда до сущности явлений, так как они доказывают, что как одна, так и другая стратегии связаны с экономическими предпосылками, изменить которые не в силах даже ее (стратегии) гениальные носители; однако в утверждении, что Перикл был прав в своей стратегии на истощение, Дельбрюк существенным образом опирается на авторитет Фукидида, каждое слово которого он настолько же считает непогрешимым, насколько считает необходимым освещать всякого другого историка древности до мозга костей светом критики фактов. Здесь мы встречаемся с одной из тех сумасбродных идей, в которые впадает иногда Дельбрюк, вследствие того что, как только он приближается на своем пути к историческому материализму, он тотчас же шарахается от него в сторону.
Фукидид, несомненно, крупный историк, и если даже он ничего не знает ни о художественном, литературном и научном, ни даже об экономическом и социальном развитии, все же он является наиболее достоверным историком древности, поскольку дело касается установления фактов в политической, в узком смысле этого слова, области. Правда, и здесь не все гладко во всех углах и концах — уже на первом шаге спотыкаешься. Вопрос о том, следовал ли Перикл в Пелопоннесской войне правильной тактике, стоит в зависимости от того, действительно ли Афины были недостаточно могущественны, чтобы победить своих врагов и захватить гегемонию в Греции. Относительно военных сил Афин перед началом войны Фукидид дает, однако, такие смутные данные, что его поклонник Дельбрюк должен пускаться в пространные вычисления, чтобы внести в них какой-нибудь смысл. У него самого остается ощущение, что он все же не достигает этим цели, тем более что другие ученые из цифр Фукидида делают выводы, совершенно обратные тем, которые хочет сделать Дельбрюк, а потому он снова пускает в ход свой козырь: «Авторитет величайшего историка будет безнадежно разрушен, будет низвергнут столп греческой литературы, если кто-нибудь сможет доказать, что в 431 г. Афины имели 60 000 граждан (т. е. могли применить в Пелопоннесской войне стратегию на уничтожение). Тогда, следовательно, Фукидид неправильно оценивает Перикла и его политику, тогда мы вообще не можем более доверять его суждениям». Дельбрюк впадает в ту самую ошибку, которую он без конца порицает у своих ученых соперников: он дает чисто словесную критику, и, стремясь возвысить Фукидида свыше всякой меры, он ставит его ниже всякой критики; если вся достоверность этого историка нужна лишь для того, чтобы истолковать в духе Дельбрюка несколько сомнительных цифр, сообщаемых им, то много с ним незачем и возиться.
Отбросим в сторону эти цифры, в которые в конечном счете нельзя внести никакого смысла, и рассмотрим с помощью критики фактов, так настойчиво рекомендуемой Дельбрюком, все рассказанное когда-то по этому поводу Фукидидом. Настоящей причиной войны он считает то, что Афины стали опасны спартанцам вследствие своей все возрастающей силы. Это сказано, правда, довольно поверхностно; много ли можно было бы сказать о войне 1870–1871 гг., если бы главной причиной ее захотели признать то, что возрастающее могущество Германии стало страшить французов? Если бы это было только тривиальностью, это было бы еще туда-сюда, но это была также и грубая ошибка, которая прежде всего указывает на то, что Фукидид вообще не понял исторического смысла Пелопоннесской войны. Сам Дельбрюк сказал как-то: «Особенно непримиримыми врагами Афин были фиванцы и коринфяне, а не спартанцы». Он написал эту фразу мимоходом в статье, которой он хотел, по примеру своего учителя Фукидида, вторично поразить «ничего не стоящего труса» и «противного человека» — Клеона. Само по себе это положение совершенно правильно, и нужно лишь сделать из него необходимые выводы, чтобы понять причины Пелопоннесской войны[7].
В персидских войнах и Афины, и Спарта проявили себя как наиболее могучие государства Греции, но в этих войнах Афины переросли Спарту. Несмотря на все лавры, которые стяжали себе спартанские цари Леонид и Павзаний под Фермопилами и Платеей, Афины не только одержали первую большую победу над персами, они поняли, что окончательная победа лежит именно на море. По совету Фемистокла, Афины снарядили большой флот, и под командой Фемистокла произошла битва у Саламина, заставившая персидского царя покинуть Грецию и повлекшая за собой отложение греческих островов и греческих приморских городов в Малой Азии от персидского владычества. Все эти цветущие города, насчитывавшиеся сотнями, присоединились к могущественным на море Афинам, которым они были обязаны своим освобождением от персидского ига. Сначала это был союз равноправных морских общин, имевших свой центр на острове Делосе, однако скоро союзники Афин, оставаясь формально их товарищами по союзу, сделались фактически подданными Афин; союзная касса была перенесена в Афины, которые ею и управляли, а союзные членские взносы превратились в дань, которой Афины распоряжались сообразно своим интересам и потребностям.

Афинские гоплиты, снаряжающиеся в поход.
Изображение на аттической вазе. V в. до н. э.
Как происходило это развитие в подробностях, каким образом, выражаясь по Гроту, «союз, составленный по свободному соглашению отдельных членов, упал со степени самостоятельного, хорошо вооруженного военного союза под руководством Афин до объединения безоружных и бездеятельных данников, защищаемых военной силой Афин; как свободно объединившиеся товарищи, имевшие равные права в Делосе, превратились в разъединенных подданных, отсылающих дань в Афины и получающих из Афин распоряжения», — это невозможно проследить в подробностях по имеющимся источникам. Но из перевеса Афин над другими членами союза это можно довольно легко объяснить как раз по способу исключения из общего правила: некоторые из крупнейших островов — Хиос, Лесбос и Самос — остались свободными вооруженными союзниками Афин. Господство Афин над другими сам Перикл называет коротко и ясно «тиранией». На дани союзников, достигавшей ежегодно до 600 талантов — на наши деньги от 2 000 000 до 3 000 000 марок, — покоился блеск того времени, которое называют веком Перикла.
По всем правилам деловой критики этот могучий подъем Афин должен был иметь естественное отражение во внутреннем развитии афинского общества и афинского государства.
«Люди моря» все более и более оттесняли на задний план «людей суши»; демократия, экономические корни которой лежали в торговле и морских предприятиях Афин, по мере развития торговли и мореплавания все больше стесняла олигархию, ту горсть старых родов, которая, опираясь на крестьянское население, до сих пор вела управление государством. Традиция, сохраняющая при всех политических изменениях большую силу, не позволяла еще живущей торговлей и ремеслами массе подойти непосредственно к кормилу правления; Перикл также принадлежал к старым родам, но он правил лишь как доверенное лицо демократии.
В противоположность Афинам Спарта оставалась сухопутной силой; она сохранила и свою общественную организацию, которая состояла из относительно немногочисленного военного дворянства — спартиатов, из лично свободных, но политически бесправных периэков и из массы илотов — порабощенного крестьянского сословия; она сохранила и свой олигархический образ правления. Как в Афинах демократия, так и в Спарте олигархия была наиболее организована, и где бы ни сталкивались в то время в Греции олигархические и демократические элементы, первые с таким же вожделением смотрели на Спарту, как вторые на Афины. В самих Афинах олигархи были более или менее пламенными поклонниками Спарты и с эгоизмом господствующего класса, чувствующего колебание почвы под своими ногами, были более чем склонны к махинациям со Спартой за счет своего города. Сама Спарта, несомненно, следила за поразительно быстрым расцветом своего соперника с какими угодно чувствами, но только не с дружелюбным удовлетворением и, конечно, была готова на все, чтобы создать для него препятствия. Однако для открыто наступательной политики против Афин у нее не было ни желания, ни необходимости, а также ни средств, ни возможности. Постоянный тайный страх перед восстанием илотов парализовал жажду к завоеваниям военного государства; да и непосредственно бояться Афин Спарте не приходилось; от одного восстания илотов, приставившего спартиатам нож к горлу, они спаслись при помощи Афин. Кроме того, как могла бы Спарта, будучи сухопутной державой, сломить морское владычество Афин и одновременно выступить наследницей Афин?
Насколько мала была жажда наступления у олигархической Спарты, настолько велика была она у Афин, хотя эта жажда направлялась не в сторону Спарты. С поразительной быстротой обеспечили себе Афины господство над Эгейским морем и над восточной частью Средиземного моря; они горели теперь желанием, господствуя над морем, проникнуть и на Запад. Торговый капитал всегда алчен, всегда стремится к завоеваниям, и в этом отдельном случае можно особенно легко увидеть, что в завоевательных стремлениях Афин скрывались жизненные интересы афинской демократии. Чем больше богатств притекало в страну, тем они более концентрировались в руках незначительного, все более и более суживавшегося круга лиц, в то время как широкая масса свободных граждан постепенно нищала. Так как вся производственная и ремесленная работа была предоставлена рабам, конкурировать с которыми считалось зазорным, то афинская демократия неминуемо была вынуждена к тому, чтобы, все более распространяя морское владычество государства, приобретать для страны все большие доходы и большую дань и тем приостанавливать процесс своего обнищания.

Гоплит со своим рабом в походе. Терракотовая статуэтка. IV в. до н. э.
Если, однако, Афины стремились распространить свое морское могущество на западную часть Средиземного моря, то на пути у них стояла не Спарта, но Мегара, Коринф и Беотия. Афины, правда, могли проникнуть в западную часть Средиземного моря, обойдя Пелопоннес кругом, между предгорьем Малеей и островом Китерой, но это путешествие считалось в то время очень опасным, и торговля между Малой Азией и Италией, между восточной и западной частями Средиземного моря производилась через перешеек, связывавший Среднюю Грецию с Пелопоннесом, и через Коринфский перешеек, отделявший Афины от западной части Средиземного моря. Он находился во владении Мегары и Коринфа, которые благодаря торговле, производившейся через перешеек, сделались богатыми городами. Мегара была маленьким государством, которое Афины свободно могли бы положить в свой карман, тем более что Мегара относилась к Коринфу с той же подозрительностью, как и к Афинам, и поэтому колебалась в выборе между ними обоими. Коринф был большим и богатым городом, далеко не желавшим позволить Афинам парализовать себя; он искал тесной связи со Спартой, чтобы обеспечить себе поддержку против могущественных Афин. Для Афин оставался, таким образом, еще только один путь — завоевать Беотию. Сделав это, Афины обошли бы Коринфский перешеек и попали бы как раз в Коринфский залив, который открыл бы им доступ в Италию и Сицилию.
Таким образом, Беотия и Коринф, как совершенно правильно указывает г. Дельбрюк, не делая из этого, однако, правильных выводов, и были «собственно непримиримыми» врагами Афин и имели на это полное основание, так как Афины однажды уже крепко схватили их за ворот. Афины покорили остров Эгину; они заключили с Мегарой союз, которого просили сами мегарцы из страха перед коринфянами, и заняли гавани Мегары — Низею и Пегею; они овладели также Беотией вместе с Фокидой и Локридой, свергая повсюду олигархических правителей и устанавливая демократический образ правления, так что Коринф был окружен со всех сторон. В Ахайе[8] и Трезене[9] и даже на Пелопоннесе афиняне встали твердой ногой и, таким образом, непосредственно вторглись в сферу владений Спарты. Никогда раньше не были Афины так близки к гегемонии над всей Грецией, да и в позднейшее время им никогда не удавалось подойти к ней так близко.
Спарта проявила себя при обороне в высшей степени неповоротливой. Сначала афинское войско потерпело тяжелое поражение при Коронее, в Беотии, в походе, предпринятом для усмирения некоторых беотийских городов, которыми снова завладели изгнанные олигархи; чтобы возвратить своих многочисленных пленных, потерянных при Коронее, Афины согласились на заключение мира, отказавшись от всей Беотии, где повсюду снова в управление вступили олигархи, так же, как в Фокиде и Локриде, которые после отказа от Беотии уже нельзя было удержать. Тогда изгнанные Афинами олигархи напали на ненавистный для них город в том месте, где он был наиболее уязвим; они сумели побудить большой остров Эвбею к отложению от Афин, а когда Перикл выступил во главе сильного войска для покорения Эвбеи, он должен был поспешно вернуться обратно вследствие сообщения, что Мегара, подстрекаемая Коринфом, также отложилась и что спартанское войско выступило для нападения на Аттику. Это нападение оказалось, впрочем, совершенно невинным; едва вступив на землю Аттики, спартанцы тотчас же возвратились обратно, так как Перикл подкупил якобы их вождей. Перикл покорил Эвбею, вследствие чего господство Афин на море было обеспечено. Но Афины не предпринимали больше сухопутной войны; в 445 г. Афины даже заключили со своими врагами 30-летнее перемирие, вследствие которого Афины отказались от притязаний на Низею, Пегею, Ахайю и Трезен и заявили о своем согласии на вступление Мегары в Пелопоннесский союз, руководимый Спартой.
Это было тяжелым поражением для Афин, однако последовавший за этим 14-летний мир, казалось, доказал, что Греция в обоих крупных союзах — Афинском и Пелопоннесском — нашла свое равновесие, обеспечившее ей продолжительное процветание. А Афинах начался тот изумительный период искусства, обломки которого и сейчас еще вызывают восхищение просвещенного человечества. В течение этого периода город абсолютно не думал ни о каких новых завоеваниях и не применял к своим союзникам никаких строгостей. Только на островах, действительно являвшихся свободными союзниками Афин, было неспокойно: на Самосе дело дошло до настоящего восстания, которое Афины подавили силой, а Лесбос запрашивал Спарту, можно ли рассчитывать на пелопоннесскую поддержку в случае отложения этого острова. Однако лесбийцы получили негласный отказ Спарты, а Самос официально получил отказ Пелопоннесского союза, когда он просил о помощи против Афин; как раз наиболее горячие враги Афин, коринфяне, выступили против поддержки самосцев, которая могла бы явиться нарушением 30-летнего перемирия. За обоими союзами, таким образом, признавалось право наказывать членов, изменивших союзам. Возможно, что это воздержание Пелопоннесского союза, и в частности коринфян, проистекало не из истинной любви к миру, но из расчетов какого-либо рода, которых мы не знаем; во всяком случае оно говорит против того, что Пелопоннесская война возникла из простой вспышки зависти и ненависти, которые Афины должны были возбуждать у государств Пелопоннесского союза; развитие искусств, происшедшее в Афинах за мирные годы, менее всего беспокоило спартанцев.
В чашечке этого прекрасного цветка сидел червяк. Старый Бек в своем знаменитом сочинении о государственном управлении Афин делает упрек — при этом он считает своим долгом сослаться на Аристотеля и Платона — в том, что Перикл расточал общественные средства, чтобы привлекать народные массы посредством вознаграждения судей, дачи денег на театры и разными другими способами подкупа, стараясь одновременно занять их досуг различными торжествами, пиршествами и празднествами. Перикл сделал якобы афинян корыстолюбивыми и ленивыми, болтунами и трусами, расточителями и распутниками, кормя их подачками из общественной сокровищницы, возбуждая прекрасными произведениями искусства их чувственность и стремление к наслаждениям. Конечно, Перикл был слишком умным человеком, чтобы не сознавать последствий своих мероприятий, но он не видел иной возможности удержать в Элладе как свою власть, так и власть своего народа; он знал, что вместе с ним погибнет и могущество Афин, и старался удержаться как можно долее, презирая толпу в такой же степени, в которой он ее откармливал. Другие ученые, как, например, Онкен, горячо восставали против этого суждения и возводили Перикла в идеал государственного деятеля.
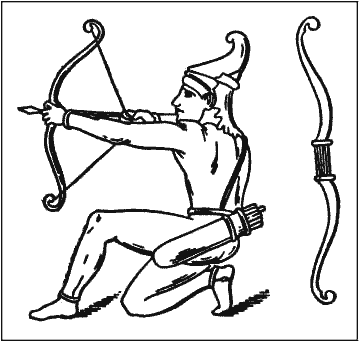
Греческий лучник
Обе стороны и правы, и не правы. Если бы Перикл был таков, каким рисует его Бек, т. е. человеком, великим в своем воображении, который, думая, что он один может сохранить Афины, не останавливался даже перед негодными средствами, то он был бы не только демагогом, но и просто дураком, по отношению к которому было бы непонятно лишь одно: каким образом Перикл мог на протяжении целой половины столетия оставаться руководителем афинской демократии. Но, как руководящий ум афинской демократии, он ни в коем случае не мог быть идеалом государственного деятеля, но должен был приноравливаться к социальным жизненным условиям этой демократии. По мере того как в Афины стекались все большие и большие богатства, масса свободных граждан все более и более пролетаризировалась, денежное обращение разрушало крестьянское хозяйство, место которого заступали латифундии, обрабатываемые рабами; население деревни редело; народные массы стекались в столицу, где они образовывали вокруг обогащающихся богачей непрерывно возрастающие массы люмпен-пролетариев. Этот процесс нашел свое отражение в «Антигоне» Софокла:
…никогда еще несчастье, подобное деньгам,
Не зарождалось в мире. Они уничтожают города,
Внезапно изгоняют людей из домов и от очагов;
Гнусными побуждениями развращают благородные сердца,
Делая их способными на позорные злодеяния;
Деньги склоняют человека на любое предательство,
Побуждая его ко всяким нечестивым поступкам.
Поскольку рабовладельческое хозяйство вытесняло свободного гражданина, постольку приходилось содержать свободного гражданина, затушевывая его нищету за счет дани союзных городов, вследствие чего гнет над ними становился, конечно, все невыносимее, а морская сила Афин в корне подрывалась. У Фукидида об этом ничего не говорится; а как охотно можно было бы отдать дюжину его военных и осадных историй за маленькую главу о внутреннем экономическом развитии Афин за время правления Перикла. Однако экономическая критика фактов имеет те же права, как и военная критика фактов, а наше экономическое зрение достаточно обострилось в настоящее время, чтобы можно было сказать с вероятностью, что должно было происходить в торговой республике, одной ногой опирающейся на дань, собираемую с угнетаемых общин, а другой ногой — на рабовладельческое хозяйство.
Яснее ясного, что при такой обстановке афинская демократия должна была становиться все более воинственной и захватнической, и нам думается, что для Перикла является весьма сомнительным комплиментом, когда г. Дельбрюк говорит, что он думал лишь о том, чтобы сохранить существовавшее положение вещей. Дельбрюк всегда готов насмехаться над «моральными усыпителями», не могущими понять, почему старый Фриц[10]не удовольствовался завоеванием Силезии, а начал Семилетнюю войну, чтобы захватить еще и Саксонию; однако Перикл должен остаться совершенно неповинным в Пелопоннесской войне. Мы опасаемся, что здесь снова подойдут слова императрицы — жены Фридриха, с которыми она обратилась к г. Дельбрюку, когда тот представился ей в качестве «консервативного социал-демократа»: «Это, право, очень мило с обеих сторон». Ни в одном из обоих случаев нельзя привести неопровержимых документальных доказательств, но основания, которые поддерживают гипотезу г. Дельбрюка относительно прусского короля, меньше тех оснований, которые говорят против его гипотезы относительно афинского государственного деятеля.
Если бы Перикл не был достаточно защищен от подозрения, что он кормил афинский народ из пустых и личных побуждений, приписываемых ему Беком, то тогда он был бы не государственным человеком, а в лучшем случае — «практическим политиком», который должен был жить, применяясь к существующей обстановке, даже и не подозревая, что фактическим следствием его политики явится морально-политический упадок афинской демократии. Если бы положение осталось неизменным, то банкротство можно было бы высчитать по пальцам. Из тяжелого поражения Афин, приведшего к 30-летнему перемирию, Перикл сделал вывод, что для Афин невозможно становиться одновременно большой сухопутной и большой морской державой, но если он и ограничился лишь морским господством, то во всяком случае он не желал отказаться от его расширения. Конечно, в настоящее время легко сказать, что болезнь, от которой страдала афинская власть, развилась бы на высшей ступени в еще большей степени, но Перикл не мог трогать ее действительных корней уже по одному тому, что он, как дитя своего времени, не мог их познать; совершенно не упоминая о рабовладельческом хозяйстве, Перикл говорит об афинском господстве над союзниками, что оно есть не что иное, как тирания, сохранять которую несправедливо, но отказаться от которой опасно и даже невозможно. Сохранение же «тирании» совпадало с ее расширением. Как руководитель афинской демократии Перикл оказался заключенным в круг ее представлений; его задача должна была ограничиться тем, чтобы наиболее благоразумно и осторожно работать для расширения морского владычества Афин на западную часть Средиземного моря.
Но как бы ни была благоразумна и осторожна его политика, цель ее оставалась совершенно определенной. Перикл основал колонию Туриой на Тарентском заливе и заключил союз с нижнеитальянско-сицилийскими городами Региум и Леонтини. Затем, когда Коринф вступил в горячую распрю с Корцирой и когда корцирцы, не принадлежавшие ни к Афинскому, ни к Пелопоннесскому союзам, попросили помощи у афинян против угрожающих вооружений Коринфа, Перикл заключил сделку с ними. Весьма характерно, что корцирцы обосновывали свое предложение тем, что их дружба или враждебность будет иметь для Афин важное значение вследствие того, что их остров расположен на пути в Италию и Сицилию и ни один корабль не может без их желания пройти оттуда в Пелопоннес; флот же, направляющийся туда, может отправиться от них с гораздо большими удобствами. На самом деле Корцира обладала значительной морской силой — самой крупной в Греции после Афин и Коринфа.

Греческие всадники. С барельефов Парфенона
Эта сделка дала первый толчок к Пелопоннесской войне, разоблачив вместе с тем главную ее причину — борьбу за господство на западном море. Если бы коринфянам удалось победить корцирцев, то афиняне были бы отрезаны от этого господства в гораздо большей степени, чем они были отрезаны существованием перешейка. В том угрожающем положении афинянам не оставалось ничего другого, как принять предложение корцирцев. Наоборот, если бы они хотели удовольствоваться тем, чем они обладали, если бы у них не было других намерений, кроме сохранения мира, тогда они должны были бы отказать корцирцам. Во время 30-летнего перемирия всякий греческий город, не принадлежащий ни к Афинскому, ни к Пелопоннесскому союзам, сохранил, конечно, право присоединяться по своему желанию к тому или другому союзу, и на этом настаивали корцирцы. Наоборот, послы, направленные в Афины коринфянами, чтобы помешать намерениям корцирцев, не без основания указывали на то, что этот пункт перемирия не должен толковаться таким образом и что из-за этого может возникнуть война между двумя союзами, избежать чего и является целью перемирия. Коринфские послы делали совершенно логические выводы, что если Афины объединятся с корцирцами, то этим начнется война между Афинами и Коринфом, «так как, если вы выступите в бой вместе с корцирцами, то мы не сможем бороться с ними, не нападая одновременно и на вас». К тому же коринфские послы очень настойчиво напоминали о той лояльной политике, которую проявил Коринф по отношению к Афинам во время самосского восстания.
Заслушав коринфских и корцирских послов, афиняне обсуждали дело в течение двух собраний. На первом настроение было скорее за коринфян, на втором же было решено, не заключая военного союза с корцирцами, заключить с ними союз оборонительный, согласно которому Афины и Корцира должны были защищаться совместно от вражеских нападений. Ясно, хотя прямо не доказано, что Перикл продиктовал это решение. Афины не хотели взять на себя вину открытого нарушения договора, что произошло бы в случае заключения военного союза с Корцирой; тем менее они хотели, чтобы Корцира попала в руки коринфян, так как, по словам Фукидида, «им казалось, что этот остров расположен очень удобно на пути в Италию и Сицилию».
Но так как не корцирцы угрожали коринфянам, а наоборот, коринфяне — корцирцам, то фактически афиняне высказались за корцирцев. Они послали им сначала 10, а затем, боясь, что этого подкрепления будет недостаточно, еще 20 кораблей; благодаря вмешательству афинских кораблей корцирцам удалось избежать в битве под Сиботой верного поражения. Однако афинские корабли вмешались лишь тогда, когда корцирцы оказались в безвыходном положении, и воздержались после спасения их от нападения на коринфян. Но коринфяне никоим образом не были довольны своей безрезультатной победой, — наоборот, они были возмущены вмешательством афинских кораблей. Афиняне, со своей стороны, боялись мести коринфян и решили принудить подвластный им город Потидею — колонию Коринфа — порвать все сношения со своей метрополией, разрушить стену со стороны моря и представить заложников в обеспечение своего образа действий. Однако эти мероприятия не могли предотвратить угрожавшей опасности: если потидейцы не думали об отложении, то эти требования были слишком велики и должны были вызвать отложение; если же потидейцы уже решились на отложение, то приказания Афин было недостаточно, чтобы удержать их от него. В действительности потидейцы отложились и нашли у коринфян вооруженную помощь, так что теперь загорелась война между Афинами и Коринфом.
Сначала эта война была, как мы говорим теперь, «локальной». Афиняне прибегли затем к третьему мероприятию, которое во всяком случае должно было поставить на ноги весь Пелопоннесский союз: они заперли мегарцам все гавани, находившиеся под афинским контролем. Мегарцы были союзниками Коринфа против Корциры; это могло, конечно, раздражить Афины, но не давало им не только основания, но даже и повода к закрытию мегарских гаваней. Выставляемая Фукидидом причина — что мегарцы обрабатывали священную часть поля и другую спорную еще пашню, а также, что они принимали беглых афинских рабов — очень похожа на отговорку. Из-за подобных пограничных споров, которые в большей или меньшей степени неизбежны между соседними государствами, не прибегают к таким решительным средствам, как предпринятое по отношению к Мегаре закрытие гаваней — к мероприятию, которое вследствие принадлежности Мегары к Пелопоннесскому союзу должно было иметь следствием или позорное отступление Афин, или же большую войну. Вряд ли можно объяснить «мегарскую псефизму»[11] иначе как тем, что Перикл нашел кризис достаточно назревшим, чтобы дать ему разрешиться, и ничто не свидетельствует так против исторического понимания Фукидида, как то, что он в данном случае не мог привести ничего, кроме этой явной отговорки афинян, которую мы только что цитировали его собственными словами.
Теперь Коринф и Мегара уже не могли встретить никаких затруднений со стороны Спарты и Пелопоннесского союза. Коринфяне осыпали спартанцев горькими упреками за ту бездеятельность, с которой они смотрели на все возрастающую силу Афин, и на этот раз они были выслушаны с сочувствием, несмотря на то что спартанский царь Архидам настойчиво предостерегал против войны. Начались переговоры, в которых спартанцы весьма многозначительно требовали, чтобы афиняне изгнали из города тех, кто провинился перед богами, подразумевая при этом Перикла, который с материнской стороны был в родстве с некоторыми святотатцами. «Именно Перикл, — так обосновывает Фукидид требования спартанцев, — держал в руках кормило правления; к тому же он был во всех отношениях враждебен лакедемонянам и не позволял афинянам отступить ни на шаг, а, наоборот, толкал их к войне». Одновременно афинские олигархи, бывшие, естественно, душой и телом со спартанцами, предприняли поход против Перикла, возбудив — таким же коварным и злобным образом, как это практикуется прусским юнкерством, — злостные обвинения, правда, не против него самого, но против его возлюбленной Аспазии и его друзей — философа Анаксагора и скульптора Фидия. Однако Перикл преодолел это нападение и остался у власти; когда спартанцы предъявили ультиматум о прекращении предпринятого по отношению к Мегаре закрытия гаваней, Перикл действительно не позволил афинянам уступить ни на шаг, он искал лишь дипломатического прикрытия, высказываясь за третейский суд на равных правах, что по тогдашнему положению вещей, в лучшем случае, было насмешливо-вежливым отклонением спартанских требований.
На основании этого можно вывести правильный взгляд на стратегию, предложенную афинянам Периклом. Он отрицал сухопутную войну и отдавал земли Аттики в жертву врагу: «Если бы я мог думать, что вы последуете за мной, то я стал бы убеждать вас разорять их самим». Напротив, тем сильней рекомендовал он удерживать господство над морем, против которого в самом худшем случае Пелопоннесский союз не мог ничего предпринять. «Спартанцы и их союзники кормятся трудами рук своих, и частные граждане имеют денег так же мало, как и государственные казначейства. Они не способны выдерживать продолжительных войн, которые ведутся на море, а мелкие войны, которые они ведут между собой, очень быстро заканчиваются вследствие их бедности. Люди, живущие при таких условиях, не могут ни снарядить флота ни держать в течение долгого времени в поле сухопутное войско, так как они должны откладывать свои дела и справляться с расходами своими собственными средствами, их положение еще более осложнится, если море будет закрыто для них. Чтобы вести войну, гораздо важнее иметь богатые средства, чем производить сильные нападения. Если даже люди, живущие трудами рук своих, имеющие для ведения войны больше людей, чем денег, имеют, с одной стороны, то несомненное преимущество, что при регулярных военных действиях они могут рассчитывать на победу, то, с другой стороны, у них нет никакой гарантии в том, что они не истощатся преждевременно, особенно в случае, если против ожидания война затянется. Правда, одно-единственное сражение пелопоннесцы и их союзники могут выдержать против всех греков, но вести войну против силы, превосходящей их так значительно по своим средствам борьбы, — этого они не в состоянии». Перикл указывает также и на то, что Пелопоннесский союз состоит из очень большого количества городов, вследствие чего ведение войны делается затруднительным в тем большей степени, что в войне ни в коем случае нельзя упускать момента.
Он снова приходит к необходимости избегать сухопутной войны и указывает на главное обоснование этой необходимости, не выставляя, однако, его на первый план по вполне понятным причинам. Он говорит: «Мы должны поэтому, пренебрегая равниной и нашими селениями, стремиться господствовать лишь над городом и морем и не позволять себе, следуя слепому увлечению, вступать в решительное сражение с пелопоннесцами, далеко превосходящими нас по своей численности, потому что если бы мы даже и победили, то в скором времени нам пришлось бы снова бороться с таким же количеством врагов. Если же мы потерпим неудачу, то мы неизбежно потеряем наших союзников, которые составляют большую часть наших сил; они перестанут быть покорными нам, лишь только увидят, что мы не можем наказать их вооруженной рукой». Здесь было слабое место Афин; они могли спокойно перенести опустошение Аттики, не будучи поколеблены в своем могуществе, но если бы врагам удалось вызвать отпадение от Афин их союзников, Афины бы погибли.
В связи с этим стоял и окончательный вывод Перикла: «У меня есть еще много других причин, на основании которых я мог бы обещать вам победу, если только во время войны вы не будете думать ни о каких завоеваниях и не захотите самовольно начинать новых переговоров; ибо я гораздо более опасаюсь наших собственных ошибок, чем ударов со стороны врага. Но об этом мы будем говорить в другой раз, если вы действительно приступите к делу». Эти слова вызвали то мнение, которое разделяет и Дельбрюк, что Перикл преследовал в войне лишь сохранение равновесия, существовавшего до тех пор в Греции. Фактически они свидетельствуют о том, что Перикл опасался завоевательных стремлений афинского народа и пытался избежать их несвоевременного проявления, которое больше всего могло напугать афинских союзников. О расширении афинского морского могущества было достаточно времени поговорить «в другой раз», после того как был бы обессилен Пелопоннесский союз, как это предполагалось планом Перикла.
Сам Перикл не мог показать лучше, как много или как мало понимал он в ведении войны, которой он, без сомнения, желал. Он дал новое доказательство своего ума, как справедливо говорит Дельбрюк, объяснив с такой ясностью афинскому суверенному народу эту трудно понимаемую стратегию; только Дельбрюк прибавляет к этому еще, что признание предложения своего руководителя «прекрасным» является не менее веским доказательством сознательности афинской демократии. Когда же пелопоннесское войско действительно напало на страну и сельские жители должны были бежать в город, когда пришлось в бездействии смотреть на опустошения, производимые врагом, тогда против Перикла поднялась оппозиция; она превратилась в бурю в начале второго года войны, когда среди тесно сплоченных, лишенных своего обычного питания и образа жизни, бездеятельных и нуждающихся человеческих масс вспыхнула чума и унесла четвертую часть всего населения. Перикл был приговорен к штрафу, однако афиняне почувствовали вскоре раскаяние и снова поставили его полководцем, но вскоре после этого, на третьем году войны, он умер.
Фукидид рассказывает, что с тех пор афиняне поступали во всем наперекор тому, что им советовал Перикл. Однако это неверно; война после смерти Перикла по существу велась так же, как вел бы ее и сам Перикл. Много спорили о том, проводилась ли с необходимой энергией и необходимым искусством положительная сторона его военного плана — постепенное ослабление врага морскими экспедициями. По адресу отрицающих это Дельбрюк не без основания указывает на то, что при стратегии на истощение весьма существенную роль играет время, в течение которого враг, так сказать, поджаривается на медленном огне, пока не будет окончательно обессилен; поэтому нельзя порицать Перикла за то, что он не пустил сразу в ход все имевшиеся в его распоряжении средства для нанесения вреда сопернику. Однако тон, заданный Фукидидом, что после смерти «великого человека» все пошло вкось и вкривь, слишком соблазнительно звучит в ушах современных буржуазных историков, чтобы они не настраивали однозвучно с ним свои скрипки. Потеряв своего руководителя, афинская демократия прежде всего должна была сделаться игрушкой ветреного демагога, о чем может многое порассказать г. Дельбрюк.
Фактически, однако, афинская демократия крепко держалась военного плана Перикла, что, конечно, совершенно понятно, так как он олицетворял ее волю и ее желания. Попытки отказаться от этого плана в пользу поспешного и бесславного мира со Спартой гораздо более исходили от олигархии, восставшей уже с самого начала — сперва без всякого успеха, а затем с половинным успехом — и против Перикла. Смерть Перикла была для нее очень кстати; она во всяком случае сокращала тот процесс развития, который совершился бы и без нее. Война настолько обострила противоречия между олигархической и демократической партиями, что человек, принадлежавший к старому поколению, не мог уже в ближайшем будущем быть одновременно вождем демократии и высшим должностным лицом государства. Все тяжести войны падали прежде всего на «сельское население», на которое опирались «олигархи» через свои гетерии[12], организации, члены которой были связаны клятвой, они все еще пользовались сильным влиянием и умели раздувать недовольство крестьянского населения, которое теперь часть года проводило в городе; в чуме они также имели красноречивую помощницу в своих демагогических подкопах против войны.
Им удалось посадить на место Перикла, при контроле десяти ежегодно переизбиравшихся стратегов, своего лидера Никия, самого богатого человека в Афинах. Руководство же демократической партией лежало на ней самой, на лице из ее собственной среды, на доморощенном политике: это был кожевник Клеон, достигший этого положения своим красноречием и энергией. Он не был ремесленником в современном смысле этого слова и вряд ли запачкал когда-либо свои руки дубильной корой. Его скорее можно было бы назвать фабрикантом в нашем смысле этого слова. Его кожевенное предприятие обслуживалось рабами, он был состоятельный человек, принадлежал ко второму сословию города и мог целиком посвятить себя призванию политического деятеля: про него рассказывалось, что в начале своего политического поприща он созвал своих друзей и простился с ними, так как он боялся, что личная дружба может заставить его погрешить против своих обязанностей по отношению к государству. Он был значительно талантливее Никия. Лидер олигархов был ограниченным ханжой, одним из тех отвратительных людей, которые, не имея надобности вследствие своего богатства таскать серебряные ложки и заниматься ростовщичеством, пользуются «всеобщим уважением» и думают, что в этом почетном звании они могут позволить себе любую глупость, наглость, любое предательство в общественной жизни.
С появлением этих двух людей сочинение Фукидида становится односторонним партийным трудом. Фукидид сам принадлежал к олигархической партии; так же, как и Никий, он был крупным землевладельцем. Поэтому, что бы тот ни делал, он все находил «разумным», хотя бы это было крупнейшее мошенничество; все же, что делает Клеон, он считает «безумным», хотя бы это было выдающееся дело, чрезвычайно благоприятное для афинян в Пелопоннесской войне. Хотя г. Дельбрюк находит, что оценка Клеона Фукидидом — «в высшей степени трудная тема и тончайшая психологическая проблема мировой военной истории», однако мы решительно заявляем, что здесь мы не можем последовать за ним. Что же говорит Фукидид о Клеоне? Он был якобы самым жестоким насильником и, имея громадное влияние на народ, раздувал войну, так как во время мира стали бы явны его злодеяния и его клевета не внушала бы к себе никакой веры. Нам не дано увидеть в этих сплетнях хоть какой-нибудь смысл, не говоря уже о беспримерно глубоком смысле. Возможно, что наша способность понимания в данном случае несколько притупилась вследствие другой болтовни, сходной с этой целиком по своему духу и весьма однородной по своей фразеологии, в которую в течение десятилетий впадали листки продажной прессы, утверждая, что социал-демократические агитаторы — самые грубые демагоги, имеющие громадное влияние на народ, раздувающие классовую борьбу потому, что при социальном мире они не смогут выступать со своими злобными измышлениями.

Перикл
Г. Дельбрюк утверждает, что Клеон стремился к гегемонии Афин над Грецией и этим проявил себя как весьма близорукий политик. Однако это утверждение основано на весьма двусмысленном толковании одного места из Фукидида. Возможно, что Фукидид хотел сказать здесь нечто совсем другое; но если даже он полагал именно так, как понимает его Дельбрюк, то и в этом случае его утверждение не может быть правильно, потому что Фукидид всегда говорит о Клеоне в тоне такой слепой ненависти, которая должна была бы, по крайней мере, помешать ему упрекать других в злостных измышлениях. К счастью, зло так велико, что оно в себе самом скрывает источники исцеления. Фукидид до такой степени увлекается чувством ненависти к Клеону, что его преувеличения до известной степени сами себя исправляют, и если его описания очистить от очевидных подозрений, направленных против Клеона, то из них с достаточной ясностью вытекает, что афинская демократия и предводитель ее Клеон продолжали перикловский способ войны, в чем им, конечно, мешал Никий со своей олигархической бандой, вынуждая их этим к преувеличенной страстности и беспощадности. Кроме того, Клеон проводил эту политику, руководствуясь, в сущности, теми же методами и целями, что и Перикл.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ГЛАВА ВТОРАЯ Распад эллинской нации. Пелопоннесская война
ГЛАВА ВТОРАЯ Распад эллинской нации. Пелопоннесская война Города-государстваПриступая к изложению ближайшего периода, необходимо упомянуть о борьбе двух важнейших государств эллинского мира — Спарты и Афин за политическое преобладание. По этому поводу следует
ГЛАВА ВТОРАЯ Двадцатилетняя и междоусобная войны. — Война с союзниками и полное единение Италии. Сулла и Марий: первая война с Митридатом; первая междоусобная война. Диктатура Суллы (100-78 гг. до н. э.)
ГЛАВА ВТОРАЯ Двадцатилетняя и междоусобная войны. — Война с союзниками и полное единение Италии. Сулла и Марий: первая война с Митридатом; первая междоусобная война. Диктатура Суллы (100-78 гг. до н. э.) Ливий Друз предлагает реформыВ данный момент правительственная мощь
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Общее положение дел: Гней Помпей. — Война в Испании. — Невольническая война. — Война с морскими разбойниками. — Война на Востоке. — Третья война с Митридатом. — Заговор Катилины. — Возвращение Помпея и первый триумвират. (78–60 гг. до н. э.)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Общее положение дел: Гней Помпей. — Война в Испании. — Невольническая война. — Война с морскими разбойниками. — Война на Востоке. — Третья война с Митридатом. — Заговор Катилины. — Возвращение Помпея и первый триумвират. (78–60 гг. до н. э.) Общий
Глава шестьдесят пятая Пелопоннесская война
Глава шестьдесят пятая Пелопоннесская война Между 478 и 404 годами до н. э. Ксеркс умирает, а Афины и Спарта заключают «Тридцатилетний мир», который длится только четырнадцать летКогда персы ушли, заново объединенные греки должны были решить, что делать с ионическими
3. Пелопоннесская война
3. Пелопоннесская война Совсем другой характер, чем персидские войны, имеет война Пелопоннесская. Те характеризовались главным образом различием борющихся сил в вооружении и тактике. Здесь греки боролись с греками, но таким образом, что одна сторона имела на море такое
Глава XV. Пелопоннесская война. 431–404 гг. до н. э
Глава XV. Пелопоннесская война. 431–404 гг. до н. э 1. Причины войны Существование в Греции двух разных по своему устройству и социально-политической ориентации военно-политических блоков греческих полисов и нарастание противоречий между ними неизбежно вело к войне. Война
Глава шестьдесят пятая Пелопоннесская война
Глава шестьдесят пятая Пелопоннесская война Между 478 и 404 годами до н. э. Ксеркс умирает, а Афины и Спарта заключают «Тридцатилетний мир», который длится только четырнадцать летКогда персы ушли, заново объединенные греки должны были решить, что делать с ионическими
ГЛАВА 15 Пелопоннесская война
ГЛАВА 15 Пелопоннесская война КОНФЛИКТ МЕЖДУ АФИНАМИ И СПАРТОЙ Последняя треть V в. до н. э. стала временем наиболее продолжительного и кровопролитного вооруженного конфликта в истории Древней Греции – Пелопоннесской войны (431—404 до н.э.). Это было военное столкновение
ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА
ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА Война, продлившаяся 26 лет, коренным образом изменила политическую обстановку в Греции. Основными противниками были, конечно, Спарта и Афины, но на самом деле в нее было втянуто большинство греческих полисов и их колоний. Сражались не только полисы,
13. Пелопоннесская война.
13. Пелопоннесская война. (431…404 г: до Р. X.)а) Начало войны. Чума в Афинах. Никиев мир.(431…421 г. до Р. X.).Более глубокая причина этой войны заключалась в постоянно возраставших напряжении и зависти между дорийской и ионийской государственными группами. Обе стороны не без тревоги
ГЛАВА XV. Пелопоннесская война
ГЛАВА XV. Пелопоннесская война Итак, война была решена; в Пелопоннесе приготовления приближались к концу, и летом 431 г. союзное войско должно было вторгнуться в Аттику. В Греции господствовало то томительное затишье, которое обыкновенно предшествует большим катастрофам.
Глава 3. Пелопоннесская война
Глава 3. Пелопоннесская война Возвышение Македонии Как по своему историческому значению, последствиям и продолжительности (она длилась с небольшим перерывом 27 лет), так и по размаху военных действий и ожесточению противоборствующих сторон Пелопоннесская война
Пелопоннесская война
Пелопоннесская война После Греко-персидских войн явно обозначился общий подъем экономики в Греции. Он сопровождался значительным ростом как межполисной, так и международной торговли. Это не могло не отразиться на обострении соперничества между ведущими
Пелопоннесская война
Пелопоннесская война Афины во главе аттического морского союза достигли расцвета своего могущества, когда началась эта война, которую каждый вдумчивый греческий государственный деятель считал решительной борьбою между двумя руководящими державами. Располагая
Лекция 11: Пелопоннесская война
Лекция 11: Пелопоннесская война Греческий мир на пути к междоусобной войне.Расцвет греческих городов-государств оказалсянепродолжительным. Это был краткий период стабилизации и подъема между победами в греко-персидских войнах: и началом Пелопоннесской воины, причем
Пелопоннесская война
Пелопоннесская война После Греко-персидских войн явно обозначился общий подъем экономики в Греции. Он сопровождался значительным ростом как межполисной, так и международной торговли. Это не могло не отразиться на обострении соперничества между ведущими