Глава IV КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ (1377—1381 гг.)
Только что описанный религиозный переворот дал новый толчок еще более важному перевороту, давно уже преобразовывавшему весь сельский быт Англии. Вотчинная система, на которой основывалось сельское хозяйство Англии, разделяла страну в целях поддержания внутреннего порядка на ряд крупных поместий; часть земли обычно удерживалась вотчинником в своем распоряжении, остальная распределялась между владельцами, которые обязаны были отбывать повинности у своего помещика. При королях из дома Альфреда число полных рабов, как и число свободных людей, одинаково уменьшилось. Класс рабов никогда не был многочисленным и теперь еще более сократился благодаря усилиям церкви и, может быть, общему потрясению, вызванному датскими войнами. Но эти же войны часто заставляли керла или фримена подчиняться тану, который обещал ему защиту за известные услуги.
Вероятно, эти зависимые керлы и стали вилланами нормандской эпохи; это были люди, лишившиеся, правда, полной свободы и прикрепленные к земле и владельцу, но еще сохранившие многие из своих прежних прав, свои земли и свободу по отношению ко всем людям, кроме своего владельца, и посылавшие представителей в собрание сотни и графства; они стояли, таким образом, много выше безземельных людей, которые даже при старом устройстве никогда не пользовались политическими правами, которых законы английских королей обязывали подчиняться лордам под угрозой лишения всех прав и которые были домашними слугами, батраками или, в лучшем случае, оброчными держателями чужой земли. Но нормандские рыцари и юристы плохо понимали различия между этими классами, и законодательство анжуйцев было направлено к слиянию их всех в один класс крепостных. Таким образом, настоящие рабы (theow) исчезли, а керлы или вилланы опускались все ниже по общественной лестнице. Но хотя сельское население и было сближено и слито в более однородный класс, его настоящее положение очень мало соответствовало взглядам юристов.
Все, правда, зависели от лорда. Господский дом стал центром всякой английской деревни. В его зале происходил вотчинный суд; здесь лорд или его приказчик принимали феодальную присягу, собирали штрафы, вели списки круговой поруки, записывали крестьян в десятинные списки. Здесь также, если лорду принадлежал уголовный суд, собиралось его судилище, а за воротами стояла виселица. Вокруг дома лежала господская земля, обработка которой возлагалась целиком и полностью на вилланов вотчины. Они наполняли большую житницу лорда снопами, стригли его овец, мололи зерно, рубили дрова для отопления его дома.
Эти работы составляли плату, за которую они пользовались своими землями; характер и размеры этих услуг отделяли один класс населения от другого. Виллан, в строгом смысле слова, был обязан только убирать поля лорда и помогать в пахоте и севе осенью и в Великий пост. Коттер, бордер и батрак обязаны были работать на господской земле в течение всего года. Но эти услуги и их сроки были строго определены обычаем не только для керла или виллана, но и для стоявшего первоначально ниже их безземельного человека.
Владение небольшой усадьбой и окружавшей ее землей, право выпускать свой скот на помещичий выгон тихо и незаметно из простых одолжений, даруемых или отбираемых назад по усмотрению лорда, превратились в права, которых можно было требовать по суду. Число телег, штрафы, взносы, работы, которых мог требовать помещик, определялись сначала устно, а потом записывались в протоколы вотчинного суда, копия которых сделалась для виллана главным доказательством его права. Этой копии он и был обязан именем копигольдера, которое впоследствии заменило его прежнее имя. Споры решались ссылкой на этот протокол или на устное показание касательно известного обычая, а мировая сделка, столь сильно характеризующая английский дух компромисса, обеспечивала вообще справедливое соглашение требований виллана и лорда. Требовать с вилланов причитающихся с них работ обязан был приказчик лорда, а его помощник по должности, вотчинный староста или старшина, избирался самими держателями и представлял их интересы и права.
Первым нарушением только что описанной системы владения было введение аренды. Вместо того чтобы обрабатывать свою землю при посредстве приказчика, помещик часто находил более удобным и выгодным отдавать имение в аренду за определенную плату, вносившуюся деньгами или натурой. Так, известно, что капитул святого Павла стал очень рано сдавать в аренду Сендонское имение за плату, в которую входила стоимость поставки зерна для производства хлеба и пива, милостыни для раздачи у дверей собора, дров для отопления пекарни и пивоварни, денег для уплаты жалованья. Этой системе аренды или, вернее, обозначению ее дохода (латинское firma) мы обязаны словами ферма (аренда), фермер (арендатор). Более частое их употребление выявляет первую ступень рассматриваемого переворота. Он немногое менял в вотчинной системе; несравненно важнее было его косвенное влияние, заключавшееся в уничтожении той связи, на которой основывался феодальный строй вотчины, те есть личной зависимости землевладельца от лорда, и в предоставлении возможности более богатым владельцам земли стать в почти равное с их прежними господами положение и образовать новый класс посредников между крупными собственниками и землевладельцами по обычному праву.
За этим первым шагом в преобразовании вотчинной системы скоро последовал другой, еще более важный. Какими бы правами не пользовался труд в других отношениях, он все еще был прикреплен к земле. Ни виллан, ни крепостной не могли выбирать ни господина, ни сферу труда. Их назначением было служить своему лорду и своей земле; они платили поголовщину за позволение покинуть поместье для поиска работы или найма, а отказ вернуться на зов помещика заканчивался преследованием их как самовольных беглецов. Но прогресс общества и естественный рост населения давно уже постепенно освобождали работника от этого прикрепления к месту. Влияние церкви поощряло такое освобождение как дело благочестия на всех землях, кроме ее собственных. Беглый крепостной находил прибежище в привилегированных городах, проживание в которых в течение года и дня давало ему свободу.
Новый шаг к свободе представляло усиливавшееся стремление к замене рабочих услуг денежными взносами. Население понемногу увеличивалось, а так как по закону (gavelkind), прилагавшемуся ко всем землям, не обязанным военной службой, наследство держателей делилось между его сыновьями поровну, то соответственно делили и их земли, и следовавшие с них повинности. Поэтому взимание оброка работой стало более затруднительным, тогда как рост состоятельности владельцев и возникновение у них духа независимости делали для них эти услуги более обременительными. По этой, вероятно, причине давно уже применявшаяся в каждом имении замена недоимочной работы денежным взносом постепенно развилась в общую замену работ деньгами. Мы уже отметили постепенный ход этой важной перемены в случае Сент-Эдмундсбери, но скоро это стало обычным, и в вотчинных списках «солодовый сбор», «дровяной сбор», «сбор за свинину» постепенно заменили прежние личные услуги. Процесс замены был ускорен нуждами самих лордов. Роскошь замковой залы, блеск и пышность рыцарства, издержки походов истощали кошельки рыцарей и баронов, а продажа свободы крепостным или освобождение от работ вилланам представлялись легким и соблазнительным способом их наполнения. В этом процессе принимали участие даже короли. Эдуард III рассылал комиссаров в королевские имения со специальной целью продавать отпущения крепостным короля, и мы еще знаем имена людей, освободившихся вместе со своими семьями уплатой крупных сумм в опустевшую казну.
Это полное освобождение крепостного от поземельной зависимости вносило в вотчинную систему еще большие изменения, чем даже превращение крепостного в копигольдера. Появление нового класса, в сущности, меняло весь общественный строй деревни. За появлением арендаторов последовали вольные рабочие, исчезло прикрепление труда к одному месту или владельцу: человек был волен наниматься к любому хозяину, выбирать себе любое поле деятельности. В то время владельцы поместьев в большей части Англии были, в сущности, низведены до положения современных лендлордов, получающих плату со своих арендаторов деньгами, а для обработки своих земель обращающихся к наемным рабочим. И вот землевладельцы, вынужденные этим освободительным движением обратиться к наемному труду, встретились со страшным затруднением. До того его запас был обилен и дешев, но вдруг это обилие исчезло.
В это время с Востока пришла ужаснейшая чума, когда-либо виданная миром; она опустошила Европу от берегов Средиземного моря до Балтийского и в конце 1348 года налетела на Англию. Легенды о ее опустошительности и полные ужаса выражения следовавших за ней статутов были более чем подтверждены новыми исследованиями. Из трех или четырех миллионов тогдашнего населения Англии повторные эпидемии чумы унесли более половины. Всего сильнее были ее опустошения в больших городах, грязные улицы которых служили постоянным прибежищем для проказы и горячки. На кладбище, купленном для граждан Лондона в 1349 году благочестивым сэром Уолтером Монэ, на месте, впоследствии занятом госпиталем, говорят, было погребено более пятидесяти тысяч горожан. Тысячи людей погибли в Норвиче; в Бристоле живые едва успевали хоронить умерших.
Почти так же сильно, как города, опустошала «черная смерть» и деревни. Известно, что в Йоркшире погибло более половины священников; в Норвичской епархии две трети приходов сменили своих настоятелей. Вся организация труда была приведена в бездействие. Недостаток рабочих рук затруднил для мелких землевладельцев отбывание следовавших с них повинностей, и только временное установление землевладельцами половинной ренты побудило фермеров не отказываться от аренды. На время обработка земли стала невозможной. «Овцы и скот бродили по полям и пашням, — говорил современник тех лет, — и некому было прогнать их». Даже когда прошел первый взрыв паники, правильной работе промышленных предприятий сильно мешало внезапное повышение заработной платы, следовавшее за громадным уменьшением числа рабочих рук, хотя оно и сопровождалось соответственным повышением цен на хлеб. Посевы гнили на корню, поля оставались невозделанными не только из недостатка рук, но и вследствие начавшейся борьбы капитала и труда.
Представлявшиеся современникам чрезмерными требования нового класса рабочих грозили разорением землевладельцам и даже более состоятельным ремесленникам городов. Страну раздирали смуты и беспорядки. Взрыв своеволия и распущенности, всюду следовавший за чумой, отразился по преимуществу на «безземельных людях», бродивших в поисках работы и впервые ставших господами рабочего рынка, а бродячий работник или ремесленник легко обращались в «бездельника-нищего» или лесного разбойника. Общие меры для устранения этих зол были тотчас указаны короной в постановлении, впоследствии внесенном в статут о рабочих. «Всякий мужчина или женщина, — гласило это знаменитое постановление 1349 года, за два года до начала чумы, — какого бы то ни было состояния, здоровый и моложе шестидесяти лет не имеющий собственности, за счет которой он мог бы жить, не служащий другому, обязан служить нанимателю, который того потребует, и должен получать только ту плату, которая обычно платилась в соседстве с тем местом, где он обязан служить». Отказ в повиновении наказывался заключением в тюрьму.
Но скоро потребовались более строгие меры. Статутом 1351 года парламент не только определил заработную плату, но и еще раз прикрепил рабочий класс к земле. Рабочему было запрещено покидать тот приход, где он жил, в поисках лучше оплачиваемой работы; в случае неповиновения он становился «бродягой», и мировые судьи подвергали его заключению в тюрьму. Проводить такой закон целиком было невозможно, так как хлеб настолько поднялся в цене, что при старой оплате дневная работа не давала бы количества пшеницы, достаточного для пропитания одного человека.
Но землевладельцы не отступили перед таким затруднением. Повторения подтверждения закона показывают, как трудно было применять его и как упорна была борьба, вызванная им. Пени и штрафы, взимавшиеся за нарушение его постановлений, составляли обильный источник королевского дохода, но назначенные первоначально наказания оказались столь недейственными, что наконец было предписано клеймить раскаленным железом лоб беглого рабочего, а укрывательство крепостных в городах было строго воспрещено. Это понятное движение не ограничивалось существовавшим классом свободных рабочих: возрастание их численности, благодаря замене рабочих услуг денежными взносами, внезапно остановилось, и изворотливые юристы, служившие обычно в вотчинах управляющими, изыскивали способы вернуть землевладельцам обычные работы, потеря которых теперь так сильно чувствовалась. Отпущения и льготы, прежде дававшиеся без спора, теперь отменялись на основании формальной ошибки, и от вилланов снова требовали рабочих услуг, от которых они считали себя освобожденными выкупом. Покушение было тем возмутительнее, что дело должно было разбираться в том же вотчинном суде и решаться тем самым управляющим, в интересах которого было вынести приговор в пользу лорда.
Рост грозного духа сопротивления мы видим в статутах, тщетно старавшихся подавить его. В городах, где система принудительного труда применялась еще строже, чем в деревнях, между мелкими ремесленниками участились стачки и соглашения. В деревнях свободные рабочие находили себе союзников в вилланах, у которых оспаривалась свобода от барщинной службы. Часто это были люди с положением и состоянием, и всюду в восточных графствах скопища «беглых крепостных» поддерживались организованным сопротивлением и крупными денежными взносами со стороны богатых землевладельцев. На их сопротивление проливает свет один из статутов позднейшего времени. Он говорит, что «вилланы и владельцы земель на тех же условиях отказывали своим господам в оброках и услугах и подчинялись другим лицам, которые их поддерживали и подстрекали. Эти лица, ссылаясь на копии с податных списков тех вотчин и деревень, где они проживали, доказывали свою свободу от всякого рода повинностей как личных, так и поземельных, и не допускали ареста или других судебных действий против них. Вилланы помогали своим защитникам, угрожая служителям лордов смертью и увечьем, а также устраивая явные сборища и уговариваясь поддерживать друг друга». Может показаться, что не только вилланы противились стремлениям вотчинников восстановить барщину, но что при общем ниспровержении общественных учреждений и копигольдер стремился стать фригольдером, а арендатор добивался признания своей собственностью той земли, которую он арендовал.
Страшный выход из общего бедствия выразился в восстании против всей системы общественного неравенства, которую до того считали безусловно Божественным установлением. Крик бедняка слышался в словах «сумасшедшего кентского священника», как его называл любезный Фруассар. В течение двадцати лет он, несмотря на интердикт и тюремное заключение, находил для своих проповедей слушателей — упрямых крестьян, собиравшихся на кладбищах Кента. Хотя землевладельцы и называли Джона Болла сумасшедшим, но в его проповеди Англия впервые услышала провозглашение естественного равенства и прав человека.
«Добрые люди, — восклицал проповедник, — дела в Англии никогда не будут идти хорошо, пока имущество не будет общим и пока будут вилланы и дворяне. По какому праву те, кого мы называем лордами, важнее нас? Чем они это заслужили, почему они держат нас в рабстве? Если мы все происходим от одного отца и матери, Адама и Евы, то как они могут говорить или доказывать, что они лучше нас? Разве тем, что они заставляют нас нашим трудом добывать для них то, что они расточают в своем высокомерии? Они одеты в бархат и согреваются в своих шубах и горностаях, а мы покрыты лохмотьями. У них есть вино, пряности и отличный хлеб, у нас — овсяная лепешка, солома и вода для питья. У них — досуг и прекрасные дома; у нас — горе и труд, дождь и ветер в полях. И однако эти люди пользуются своим положением, благодаря нам и нашему труду». В то время, как и всегда, деспотизм собственников вызывал ненависть социалистов. В народной песне, формулировавшей уравнительную теорию Джона Болла, сказывалось настроение, угрожавшее всей средневековой системе: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда дворянином?»
Песня эта переходила из уст в уста, пока новый пример угнетения не раздул тлеющее недовольство в пожар. Эдуард III умер в бесславной старости; на его смертном одре низкая любовница, к которой он был так привязан, похитила с его пальцев перстни. Вступление на престол сына Черного Принца, Ричарда II, оживило надежды той части парламента, которую в политическом смысле мы все еще должны называть «народной партией». Парламент 1377 года взялся за дело реформы и смело присвоил себе контроль над новой субсидией, назначив двух своих членов для наблюдения за ее расходованием; парламент 1378 года потребовал и добился отчета в израсходовании субсидии.
Но его настоящая сила была, как известно, направлена на отчаянную борьбу, в которой самостоятельные классы, исключительно представленные в нем, стремились снова закрепостить рабочих. Между тем к внутренним бедствиям и распрям присоединилось поражение английской армии. Война с Францией шла очень неудачно: один английский флот был разбит испанцами, другой — потоплен бурей; поход внутрь Франции окончился, подобно предшествовавшим, разочарованием и неудачей. Для покрытия крупных издержек войны парламент 1380 года возобновил, как и три года назад, поголовный сбор с каждого жителя. Этот налог подчинял обложению, слой населения, прежде его избегавший, — таких людей, как сельские рабочие, деревенские кузнецы и кровельщики; он подтолкнул к действиям именно тот класс, в котором уже кипело недовольство, и взимание налога зажгло пожар по всей Англии, от моря до моря.
С наступлением весны странные песни разошлись по стране и послужили сигналом к восстанию, из восточных и центральных графств скоро распространившемуся по всей Англии к югу от Темзы. «Джон Болл, — гласила одна из них, — приветствует всех вас и извещает, что он прозвонил в ваш колокол. Теперь право и сила, воля и ум. Боже, поторопи всех ленивцев». «Помогите правде, — гласила другая, — и правда поможет вам! Теперь в мире царствует гордость, скупость считается мудростью, разврат не знает стыда, обжорство не вызывает осуждения. Зависть царит вместе с изменой, леность — в большом ходу. Боже, дай удачу: теперь время!»
Мы узнаем руку Болла и в еще более зажигательных посланиях — «Джека-мельника» и «Джека возчика». «Джек-мельник просит помощи, чтобы поставить как следует свою мельницу. Он стал молоть очень мало; сын царя Небесного заплатит за все. Смотри, чтобы твоя мельница шла с четырьмя крыльями правильно и чтобы столб стоял твердо. С правом и силой, с умом и волей: пусть сила помогает праву, и ум идет впереди воли, а право — впереди силы, тогда наша мельница пойдет правильно». «Джек-возчик, — гласило следующее послание, — просит всех вас окончить как следует то, что вы начали, и поступать хорошо и все лучше и лучше: ведь вечером люди оценивают день». «Лживость и коварство, — говорил Джек Праведный, — царили слишком долго, а правда была посажена под замок; ложь и коварство и теперь царят всюду. Никто не может дойти до правды, пока не запоет: «Если дам». Истинная любовь, что была таким благом, исчезла, и приказные за мзду причиняют зло. Боже, дай удачу, ибо настало время». Этими грубоватыми стихами началась в Англии литература политической полемики; это — первые предшественники памфлетов Мильтона и Бёрка. Как они ни грубы, но достаточно ясно отражают смешанные страсти, вызвавшие восстание крестьян: их стремление к справедливому управлению, ясному и простому суду, их презрение к распутству знати и гнусности придворных, их негодование в ответ на обращение закона в орудие угнетения.

Рис. Джон Болл.
Подобно пожару, восстание разлилось по стране; Норфолк и Суффолк, Кембридж и Гертфордшир подняли оружие; из Сассекса и Сэррея мятеж распространился до Девона. Но настоящее восстание началось в Кенте, где кровельщик убил сборщика налогов, отомстив за оскорбление дочери. Графство взялось за оружие. Кентербери, где «весь город разделял их настроение», открыл свои ворота мятежникам, которые разграбили дворец архиепископа и вызволили из тюрьмы Джона Болла; одновременно сто тысяч кентцев собрались вокруг Уота Тайлера из Эссекса и Джона Гелса из Меллинга. В восточных графствах взимание поголовного сбора вызвало появление скопищ крестьян, вооруженных дубинами, ржавыми мечами и луками; посланные туда для подавления смуты королевские комиссары были изгнаны.
В то время как жители Эссекса шли на Лондон по одному берегу реки, жители Кента двигались туда по другому. Их недовольство было чисто политическим, так как крепостное право в Кенте было неизвестно. Когда они накинулись на Блэкгит, то предали смерти всех юристов, попавшихся в их руки. «Пока все они не будут перебиты, до тех пор страна не будет снова пользоваться прежней свободой!» — кричали крестьяне, поджигая дома управляющих и кидая в огонь протоколы вотчинных судов. Все население присоединялось к ним по пути, а дворяне были охвачены страхом. Молодой король — ему было всего пятнадцать лет — обратился к ним с речью с лодки, стоявшей на реке; но когда Совет под руководством архиепископа Седбери не позволил ему пристать, это привело крестьян в бешенство, и огромная масса с криком «Измена!» кинулась к Лондону. 13 июня его ворота были открыты бедными ремесленниками, жившими в городе, и величественный дворец Джона Гентского, новое училище правоведения в Темпле, дома иноземных купцов скоро стали добычей пламени. Но мятежники, как они гордо заявляли, добивались истины и правды, а не были ворами и разбойниками, и потому грабитель, утащивший из дворца серебряное блюдо, был вместе со своей добычей брошен в пламя.
Общий ужас проявился довольно смешным образом на следующий день, когда смелый отряд крестьян под началом самого Уота Тайлера проложил себе путь в Тауэр и, с грубой шутливостью хватая пораженных ужасом рыцарей за бороды, обещал им впредь быть с ними наравне, подобно добрым товарищам. Но шутка превратилась в грозную действительность, когда они обнаружили, что король ускользнул от них, и когда они нашли в часовне архиепископа Седбери и приора святого Иоанна, примаса вытащили из часовни и обезглавили; та же участь постигла казначея и главного сборщика ненавистной поголовщины.
Между тем король выехал из Тауэра навстречу массе эссекских мятежников, расположившихся вне города на Майл-Энде, тогда как пришельцы из Гертфордшира и Сент-Олбанса заняли Гайбери. «Я ваш король и повелитель, — начал мальчик с бесстрашием, отличавшим его поведение в течение всего кризиса, — чего вы хотите?» «Мы хотим, чтобы вы освободили нас навсегда, — закричали крестьяне, — нас и наши земли, и чтобы нас никогда не называли и не считали крепостными». «Я вам жалую это», — ответил Ричард и приказал им вернуться домой, ручаясь за немедленное издание грамот о свободе и прощении. Радостный крик приветствовал это обещание. В течение всего дня более тридцати писцов были заняты подготовкой грамот о прощении и освобождении, и с ними жители Эссекса и Гертфордшира спокойно разошлись по домам.
С одной из таких грамот вернулся в Сент-Олбанс Уильям Грайндекобб и, ворвавшись во главе горожан в стены монастыря, потребовал у аббата выдачи грамот, ставивших город в зависимость от его обители. Но более наглядным доказательством зависимости служили мельничные жернова, после долгой тяжбы присужденные аббатству и положенные в монастыре как торжественное доказательство того, что никто из горожан не имеет права молоть зерно во владениях аббатства не иначе как с согласия аббата. Ворвавшись в монастырь, горожане подняли эти жернова с земли и разбили их на мелкие куски, «точно освященный хлеб в церкви», так что каждый мог сохранить нечто на память о том дне, когда они вернули себе свободу.
Многие из кентцев, узнав об обещании, данном королем жителям Эссекса, разошлись, но тридцать тысяч человек еще оставались с Уотом Тайлером, когда совершенно случайно король Ричард II встретил его на следующее утро, 15 июня, в Смитфилде. Между его свитой и вождем крестьян, подошедшим для переговоров с королем, произошла перебранка, и угроза Тайлера вызвала короткое столкновение, в котором лорд-мэр Лондона, Уильям Уолуорт, поразил его кинжалом. «Бей, бей, закричала толпа, — они убили нашего вождя!» «Что вам нужно, господа? — закричал молодой король, смело подъехав к толпе. — Я ваш вождь и ваш король! Следуйте за мной!» Крестьяне возложили свои надежды на молодого государя: одним из мотивов их восстания было желание освободить короля от дурных советников, которые, по их мнению, злоупотребляли его юностью; и вот они с трогательной преданностью и доверием последовали за ним, пока он не вступил в Тауэр. Мать приветствовала его со слезами радости. «Радуйтесь и хвалите Бога, — ответил мальчик, — сегодня я вернул себе потерянное наследство и королевство Англию». Но все-таки он вынужден был так же, как и на Майл-Энде, обещать свободу и, только получив от него грамоты о прощении и освобождении, кентцы разошлись по домам.
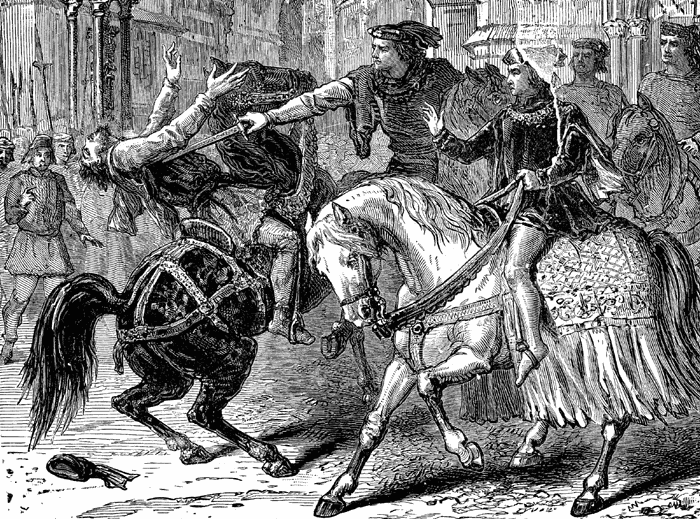
Рис. Смерть Уота Тайлера.
Однако восстание еще далеко не закончилось. К югу от Темзы оно распространилось до Девоншира; были взрывы на севере; бурным движением охватило восточные графства. Шайка крестьян заняла Сент-Олбанс, обезумевшая толпа ворвалась в ворота Сент-Эдмундсбери и заставила испуганных монахов подтвердить вольности города. Джон Литстер, красильщик из Норвича, с титулом короля общин возглавил массу крестьян и принуждал взятых в плен дворян играть роль лакеев и служить ему на коленях во время обеда. Но уход крестьянских армий с их освободительными грамотами вернул дворянам храбрость. Воинственный епископ Норвича во главе своего отряда с копьем в руке напал на лагерь Литстера и одним ударом рассеял крестьян Норфолка; в то же время король с армией в 40 тысяч человек прошел с торжеством по Кенту и Эссексу, всюду распространяя ужас беспощадностью своих казней. В Уолтгеме его встретили предъявлением недавно данных им грамот и заявлением, «что в деле свободы эссекские крестьяне стоят наравне со своими лордами». Но им пришлось узнать цену королевского слова. «Были вы вилланами, — отвечал Ричард II, — и остаетесь ими. Вы останетесь в зависимости, но не в прежней, а в худшей».
Настроение народа выразилось во встреченном королем упорном сопротивлении. Крестьяне Биллерика кинулись в леса и выдержали две жестокие битвы, прежде чем их удалось привести к покорности. Только угрожая смертью, можно было вынудить у присяжных Эссекса обвинительный приговор привлеченным к суду вождям восстания. Грайндекоббу предлагали пощаду, если он согласится убедить своих сторонников в Сент-Олбансе вернуть грамоты, отнятые им у монахов. Он обратился к своим согражданам и мужественно убеждал их не беспокоиться о его участи. «Если я умру, — сказал он, — я умру за приобретенную нами свободу и буду считать себя счастливым, кончая таким мученичеством. Действуйте сегодня так, как вы действовали бы, если бы я был убит вчера».
Но упорство побежденных встретилось с таким же упорством победителей. В течение лета и осени погибло, как говорили, семь тысяч человек — на виселицах или в битвах. Королевский совет показал, что он понимает опасность простой политики сопротивления, когда передал вопрос об освобождении на рассмотрение парламента, собравшегося после подавления восстания; его предложение наводило на мысль о компромиссе. «Если вы желаете освободить и отпустить на волю названных крепостных, — гласило послание короля, — с вашего общего согласия, а король осведомлен, что некоторые из вас этого желают, то он согласится на вашу просьбу». В ответе землевладельцев совсем не заметно каких-то мыслей о компромиссе. Пожалования и грамоты короля, как совершенно справедливо отвечал парламент, юридически не имеют силы и значения: крепостные составляют их собственность, которую король может взять у них не иначе как с их согласия; «а этого согласия, — заканчивал парламент, — мы никогда не давали и никогда не дадим, даже если бы всем нам пришлось умереть в один день».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК