Глава шестая В Пятьдесят пятой армии
Глава шестая
В Пятьдесят пятой армии
Теплоход № 19 — Обстрел Усть-Ижор — Школа снайперов — Исполнение клятвы мести — Колхоз имени Макса Гельца — Сторож пристани — В прифронтовом поезде
(Рыбацкое, Овцино, 55-я армия. 3–6 июля 1943 г.)
Теплоход № 19
3 июля, 6 часов вечера. Ленинград
Борт теплохода № 19 — а попросту, в мирное время, этот теплоход назывался речным трамваем. Покачивается у пристани «Площадь Декабристов», перед отходом в Рыбацкое, куда я решил поехать, чтобы побывать в 55-й армии, у снайпера Тэшабоя Адилова, и в редакции газеты «Боевая красноармейская» (редактор ее — Досковский).
Над пристанью — Исаакий, на фоне черных грозовых туч. Медный Всадник закрыт мешками с землей, заделан деревянными щитами, а скала обведена земляным, сейчас зеленеющим холмом.
В сквере огородов нет, потому что весь он таит в себе блиндажи и землянки; здесь всюду зенитные батареи. У набережной против Адмиралтейства — эскадренный миноносец, прикрытый зеленой маскировочной сетью, тянущейся на берег к деревьям бульвара. Ветер колеблет поднятый на корме бело-голубой военно-морской флаг. Моросит дождь. Нынче была гроза. И старушка, ожидающая отплытия, услыхав внезапные раскаты грома, беспокойно взглянула на небо.
— Это гроза, бабушка!
— А кто их там разберет! — с сомнением сказала старушка.
Вот заработали моторы, и мы пошли вверх. Проходим мимо эсминца, он выкрашен вдоль в два цвета: нижняя полоса под цвет гранитной набережной, коричнево-серая, верхняя — обычная, стального, военно-морского цвета. Прошли под мостом, идем мимо Зимнего, обгоняя серую военную моторную лодку, с распущенным бело-голубым флагом. Против Эрмитажа — ледокол «Ермак» (закрыт сетями, и не узнаешь!), сторожевой пароходишко, буксировщик, баржа, а дальше, уже против Петропавловской крепости, — длинный, двухтрубный крейсер, расписанный желтыми, рыжими, серыми полосами… Нева — сера. Небо — серо.
…Руины дома, одним из первых разрушенного в блокаду, большой торгово-пассажирский пароход, еще один — двухтрубный ледокол, и мы — у Кировского моста, по которому ползут два трамвая.
Девушка-кассирша подходит ко мне, берет с меня рубль шестьдесят копеек и кладет билет на столик, за которым пишу.
Пока мы стояли у «Площади Декабристов», эта девушка вместе со всей командой обсуждала список — разверстку, по которой часть экипажа должна быть освобождена от брони и мобилизована в Красную Армию.
…Мы почти не стояли, ни один пассажир не подсел, — отправляемся, идем вверх по Неве. Сейчас 6 часов 40 минут. Кассирша принесла чайник с кипятком, заваривает чай. Два дивана составлены так, что образуют отдельный закуток — мягкую двуспальную кровать. На ней — матрац. Тут живут обе девушки — кассирша и матрос, тут они спят по ночам. Тут же, на полочках-сетках, все их хозяйство: чемоданчик, две книжки, полотенце, противогазы. Кассирша — в синем комбинезоне и синей косынке, матрос — в ситцевой юбке и плюшевой кофточке.
Против Финляндского вокзала мы подошли к пристани, взяли трех пассажиров — стройную и хорошо одетую молодую женщину, старого рабочего в картузе и его пожилую спутницу в ватной куртке. Теперь нас, пассажиров, на борту пятеро. Идем дальше. Справа — разрисованная башня городского водопровода, которую немцам так и не удалось разбомбить, впереди виднеется Смольный, укрытый надежною маскировкой, а у берега — дровяная пристань. Налево — гранитные камни набережной, беспорядочно лежащие вдоль песчаного берега в линию, да две-три заржавленные морские мины, видимо пустые. … Я разговаривал с кассиршей, зовут ее Нина, ей семнадцать лет; и с матросом — восемнадцатилетней Аней, работавшей на Ладоге на этом же теплоходе. Рассказывала Аня о Ладожской трассе, о продуктах, о партии сыра, перевезенного с риском для жизни, о своей прежней матросской неопытности («Не знала, как швартовать в штормы! Теперь — не оторвется!»)…
А милиционер рассказал интересную историю о том, как у моста лейтенанта Шмидта милицией был пойман немецкий шпион, плывший по Неве на двух надутых — одна над другою — автомобильных камерах. Он лежал между ними, на одну опираясь грудью, а из другой, прикрытой стожком сена, просовывал голову и руки, фотографировал берега, заводы и корабли. Немцы спустили шпиона в воду где-то между 8-й ГЭС и Арбузовом, чтобы он выплыл по Неве в Финский залив, где в определенном квадрате его должен был подобрать самолет. Нижняя камера наткнулась на какой-то обломок, была пробита гвоздем, и немец, боясь утонуть, решил высадиться под мостом, но был замечен и взят…
4 июля. Утро. Рыбацкое
Дождь. Ночевал в редакции «Боевой красноармейской», на койке Бейлина.
Здесь — Литвинов, Вл. Лившиц и другие знакомые…
Обстрел Усть-Ижор
4 июля. Утро. Овцино
Перейдя рано утром понтонный мост, я отправился пешком в Овцино. Но пройдя километра три, понял, что идти не могу — боль в боку усилилась так, что труден стал каждый шаг. Засел у будки контрольно-пропускного пункта, ждал больше часа попутной машины и, наконец дождавшись трясучего грузовика с какими-то артиллеристами, доехал до Овцина, а там, прошагав еще километра полтора по грязи, разыскал школу снайперов 55-й армии.
Сегодня воскресенье, снайперы, обучающиеся в школе, отдыхают от занятий, и их инструктор Тэшабой Адилов, черноглазый, чудесный, красивый, живой и скромный парень из кишлака Сох, оказался в полном моем распоряжении.
От его симпатии ко мне (кажется, единственному для него на севере человеку, хорошо знающему не только Среднюю Азию, но даже его родной кишлак), от самой внешности этого красивого, смелого таджика, его манеры говорить, акцента на меня повеяло милым мне Таджикистаном. Мы, встретились как старые, добрые друзья и повели откровенную беседу.
Мы так увлеклись беседой, что не сразу обратили внимание на сильный обстрел, на разрывы снарядов поблизости. Вышли на берег Невы смотреть. Немцы ожесточенно били по городку Усть-Ижоры, расположенному прямо напротив нас на другом берегу Невы. Много приходилось мне бывать под обстрелом, много их я перевидал за время войны, но такое зрелище было передо мной в первый раз: сегодня сам я находился в безопасности (по крайней мере, при условии, что немцам не пришло бы в голову перевести прицел на один-два миллиметра вправо), а все, что творилось на другом берегу, наблюдал так, будто сам был в партере и глядел на сцену театра, мрачного, надо сказать, театра, хотя день разгорался яркий, солнечный.
Весь городок был в дыму разрывов, немец клал снаряды пачками, то ближе, то дальше, проходя ими вдоль берега по всем кварталам одноэтажных домов. За домами прятались, от дома к дому перебегали люди — дети, женщины. Снаряд вламывался в крышу деревянного дома, и вокруг набухал черный клуб дыма. Один из снарядов влетел в стоявшую у крыльца легковую машину — «эмочку», и она сразу вспыхнула ярким пламенем. Два снаряда попали в госпиталь. Потом внезапно над Невой послышался детский, мальчишеский, пронзительный крик: «Мама, мама, мама, мама…» Все тише, замирая, этот крик стлался над гладью Невы, пока не замер совсем. Шрапнель рвалась среди домов, и невскую гладь до середины реки секли врезающиеся в нее, поднимающие брызги осколки… Мы ждали пожаров, но пожаров не произошло.
Мы стояли на берегу, под нарядно-зелеными березами, — несколько красноармейцев и командиров, мы смотрели на это с внутренним волнением, молчаливо негодуя, хоть каждый из нас давно уже ко всему привык. Мы, взрослые мужчины, чувствовали себя в безопасности, а там на наших глазах погибали женщины и дети, и мы были бессильны помочь им.
В группе бойцов шел разговор: «Может, из стодвадцатимиллиметровых?» — «Нет, не достанет: на пятом прицеле — шесть километров, а тут — семь…» — «Шрапнель тоже…» — «Ижору не обстреливали с прошлого года…»
Рядом с нами под деревьями тянулись узкие и глубокие ходы сообщения, траншеи, заросшие сочной травой, где мы нашли бы себе прибежище, если б врагу вздумалось перенести огонь на наш берег; а там… Мы разговаривали о том, какие орудия бьют, и сколько их бьет, и с какой дистанции. Снаряды летели слева, из-за Ивановского, летели, колебля воздух так, что дуги их полета были не только определяемы слухом, но почти зрительно ощутимы.
Летели, падали и разрывались, а люди за домами в Усть-Ижорах — беспомощные, в невозможности обезопасить себя — перебегали и жались к стенам домишек.
Там было много жертв, обстрел продолжался более часа. Я не знаю, сколько людей погибло, ранено и кто именно…
Обстрел еще не кончился, а я с Адиловым опять вернулся в маленький желтый каменный домик школы снайперов, в кабинет ее начальника, и продолжал, усевшись за письменный стол, мои записи, и только при особенно шумных разрывах мы раз или два выглянули в раскрытое настежь, приходившееся с той стороны, откуда летели снаряды, окно: а нет ли пожара?..
А потом обстрел кончился и беседа наша шла дальше, потом мы вместе с Адиловым, перейдя в соседнюю комнату, примыкающую к кухне, ели гречневую кашу…
На Неве, по всей Неве стоят у берегов замаскированные елками, сетями, деревянными щитами, дровами военные корабли: эскадренные миноносцы, тральщики, канонерки. Они порою стреляют из своих точных и мощных орудий по немцам. Но чаще — орудия молчат, и экипажам кораблей скучно.
Школа снайперов
4 июля. День. Овцино
Обрамленные листвою стройных берез, окаймленные ветвистой системой траншей и ходов сообщения, здесь стоят несколько домиков школы снайперов 55-й армии. Начальник школы — мастер стрелкового спорта, старший лейтенант Г. И. Гильбо, когда-то учившийся в институте внешней торговли, а потом, перед войной, закончивший в Галиевке высшую стрелковую школу. Ему, комсомольцу с 1934 года, от роду двадцать четыре, и сегодня он очень волнуется: завтра его будут принимать в партию.
Школа образована 2 января 1942 года. За полтора прошедших года эта школа, ведя занятия главным образом в поле, в условиях, максимально приближенных к естественным условиям боевой обстановки, подготовила, вооружила тактическими познаниями многих выдающихся снайперов, — через эту школу прошли лучшие снайперы Ленинградского фронта. Григорий Симанчук, его ученик Федор Дьяченко, герой Невского «пятачка» Тэшабой Адилов и многие другие отшлифовали здесь свои боевые познания. Школа стала центром, куда стекаются все новшества боевого опыта снайперов. Она обобщает все, чем лучшие снайперы обогатились в боях, и проверяет качество их стрельбы, направляет их боевую работу в подразделениях, из самородков выращивает организованные научными познаниями кадры. А в период наступательных действий весь состав школы выходит в действующие части, чтобы каждый снайпер в своем подразделении помогал выполнению общих заданий, подавлял определенные заранее огневые точки, обрабатывал своим огнем передний край противника до так называемого «момента рывка пехоты в атаку…»
— Характерно, — говорит мне Гильбо, — с начала сорок второго года, когда наш передний край был очень оголен, а паек был «филькин», а настроение у многих — удрученным, тогда немец имел инициативу. И подавить эту немецкую инициативу удалось прежде всего именно нашим снайперам. Немец ходил в полный рост, снайперы пригнули его к земле. На определенных участках вместо взвода пехоты становились один-два снайпера, и, вынося любые лишения, они справлялись с задачей обороны участка. О таких снайперах, как наш выпускник Федор Дьяченко, знает не только весь Ленинградский фронт, Дьяченко известен и на других фронтах. Когда он кончил школу, на его счету не было ни одного убитого немца, теперь на его личном, самом большом среди всех снайперов счету — четыреста двенадцать гитлеровцев! Повторяю — он один истребил четыреста двенадцать врагов!.. А сколько у него теперь учеников!..
Во всех подробностях записал я рассказ моего друга Тэшабоя Адилова о том, как после тяжелого ранения на Невском «пятачке», в стремлении выполнить клятву мести, которую он дал, хороня на «пятачке» своего друга Абдували — убить за него сто фашистов, — он сначала стал снайпером, убил сто четырнадцать гитлеровцев, после сто четвертого немца был награжден орденом Ленина и не успел увеличить свой счет больше чем еще на десять врагов только потому, что был переведен в Военнополитическое училище Ленфронта. Выпущенный из училища в начале этого года Тэшабой, уже в звании лейтенанта, был назначен заместителем Гильбо и командиром взвода школы снайперов. Каждый день он обучает свой взвод, занимаясь материальной частью, оптическим прицелом, измерением дистанций, баллистикой, огневой подготовкой, тактикой, инженерным делом, маскировочным делом, изучением опыта снайперов…
Больше всего меня интересовало, как, выписавшись из госпиталя в январе 1942 года, начал ходить на охоту и стал опытным, известным всему фронту снайпером сам Тэшабой Адилов…
Исполнение клятвы мести
4 июля. День. Овцино
Было еще далеко до весны 1942 года, когда на всем полукружии Ленинградского фронта, от заметенной снегами Невы до Пулковских высот, пошла среди сражающихся бойцов и командиров молва о снайпере-таджике сержанте Адилове, который ходит на тот участок переднего края, где фашисты рискуют высовываться из траншей, и, подстерегая врагов целыми днями, убивает их в лоб, в глаз или в сердце, куда только захочется послать пулю.
Сложная эта была наука! Шла зима, и, словно никогда не зная юга, Тэшабой породнился с ней. Его маскировочный халат был безукоризненно белым.
В белый цвет выкрашена винтовка. Ремень к ней был из белой кожи. Смазывал Тэшабой винтовку незастывающим веретенным маслом, перед стрельбою протирал ее насухо, и потому затвор у него передвигался легко, отказов в подаче патрона не было, не случалось никогда и осечек. Стреляя, Тэшабой прижимал ствол к самой поверхности снега, чтоб окученные морозом пороховые газы не поднимались предательским облачком. После выстрела осторожно проглаживал варежкой снег, чтоб не остались на нем черные полосы. И, целясь в гитлеровца, дышал аккуратно, вниз, помня, что иначе настывшее стекло окуляра запотеет и, пока успеешь его протереть, цель исчезнет…
Все тайны своего ремесла вызнал и запомнил внимательный Тэшабой. Как винодел, на вкус устанавливающий крепость вина, так прикосновением пальца к металлу угадывал он крепость мороза. Чуть-чуть, но ровно на сколько нужно, увеличивал прицел, когда мороз крепчал; рассчитывал: воздух становится плотнее, усиливается его сопротивление летящей пуле… Помнил, что, скрадывая дистанцию, черный предмет на белом снегу представляется ближе, чем тот зеленый, который лежит рядом с черным. А зеленый кажется ближе, чем белый… И что бронебойная пуля летит ниже, а легкая — выше. И множество других заповедных тайн, которые открываются человеку только тогда, когда он становится мастером своего дела, терпеливым, вдумчивым, не смутимым никакими загадками…
Бывало всякое… Когда от неуловимых пуль Тэшабоя гитлеровцам не стало житья, раздобыли они где-то нескольких опытных снайперов, прислали их на участок, против которого действовал Тэшабой. Был им приказ: во что бы то ни стало уничтожить «красного дьявола»…
И однажды эти снайперы подстерегли Тэшабоя в его снежной ячейке.
Расположились с трех сторон, выждали, когда он откроет свое присутствие первым выстрелом, и взяли его перекрестьем на мушки. Только приподнимет голову Тэшабой — пуля. Шевельнет рукой — пуля. Попробует отползти — три пули разом зароются в снег.
Продырявили халат, пробили шапку-ушанку. Только лежа ничком, лицом в снег, не шевелясь, оставался неуязвимым для их пуль Тэшабой.
Мороз был крепким, будто безветрие помогло ему настояться. И решили враги взять Тэшабоя измором: либо замерзнет, либо ослабеет от голода, либо подставит себя под пулю вынужденным движением.
Пришлось Тэшабою трое суток лежать неподвижно: вражеские снайперы прикрывали друг друга огнем, по одному сменялись. А Тэшабой был один и ничего поделать не мог. Стрелять не мог, да враги и не показывали себя. Есть мог лишь ночью: раз попробовал днем осторожно протянуть руку за едой, которая была у него за спиною в сумке противогаза, но гитлеровцы мгновенно выпустили несколько пуль по его выдвинувшемуся локтю, вырвали клок ваты из рукава. Обогреться не мог, потому что одним только поеживанием не согреешь застывшее тело…
Трое суток лежал Тэшабой, трое суток не спал, отморозил руку, думал — в самом деле замерзнет. А к концу третьих суток понял, что жизни при такой неподвижности остается в нем самое большее на пять, шесть часов. Иссякали силы, холод добирался уже до самого сердца, голова кружилась, в глазах возникали пестроцветные пятна, появились галлюцинации — снег вдруг начал звенеть и петь, как горная речка в Таджикистане. Виделись абрикосовые сады, хотелось только покоя — закрыть глаза и заснуть, и Тэшабой ловил себя на этом желании, сквозь бред понимая, что заснул бы навеки…
И тогда решил, как бы там ни было, ночью уйти, вырваться из незримой клетки, созданной для него пулями… Собрав все силы и волю, до ночи поеживался, напрягал и ослаблял мышцы, «в полдвижения» пошевеливал головой, руками, ногами…
А когда стемнело, выбрал момент между вспышками рассекающих мрак ракет, вскочил в полный рост, стремглав пробежал назад двадцать шагов и упал…
Фашисты хлестнули по снегу пулями. Еще три раза вскакивал, бросался в короткие перебежки, распластывался на снегу Тэшабой, прежде чем достиг узкого рва, который тянулся к нашему переднему краю.
Фашисты переполошились, стараясь настигнуть ускользающую добычу. Ракеты взвились одна за другой, грассирующие пули перекрестили свои пунктиры во всех направлениях, застучал зенитный пулемет. Но Тэшабой уже бежал, пригибаясь, по рву, и хотя этот ров простреливался продольно очередями зенитного пулемета, свет здесь все-таки не был сплошным. Тэшабой выбирал моменты между очередями и между вспышками света, и когда все дуги трассирующих сошлись на рву — он был уже в семистах метрах от вражеских позиций. Через несколько минут товарищи растирали его руки и ноги в землянке.
Этой истории простить врагу Тэшабой не мог. На следующий же день он вновь пробрался к вражескому переднему краю, выследил и убил одного из гитлеровских снайперов. На второй день убил еще двоих. Следующих не удавалось уничтожить несколько дней, но Тэшабой дал себе слово, что не успокоится, пока не очистит свой участок от всех до последнего фашистских снайперов.
Их оставалось еще два, и целую неделю Тэшабой вел с ними самостоятельную войну. Он рисковал жизнью каждую минуту, он мерз на лютом морозе, он почти не ел и не спал. Четвертый снайпер был убит Тэшабоем.
Остался последний, самый неуязвимый. Между его ячейкой и ячейкой Тэшабоя было всего сто метров. Казалось, этот снайпер может добросить до Тэшабоя гранату. Несколько раз он опережал Тэшабоя, приходил в свою ячейку раньше его, и тогда Тэшабой уже не мог пробраться в свою. В такие дни гитлеровец бил по нашим амбразурам, не давая бойцам проходить там, где траншея была неглубокой, пресекал всякие действия разведчиков и саперов.
Тэшабой злился, негодовал и, наконец, выбрался в Свою ячейку с полуночи. На рассвете увидел, что его враг вылез правее, чем всегда, и занялся рытьем в снегу новой ячейки. Тэшабой хотел бить только наверняка, долго следил за снайпером, не мешая ему копать снег. Тот вырыл себе углубление за черным оголенным кустом, навалил перед собою снежный вал, решил доделать последнее: поправить веточки куста так, чтобы они не попадали в поле его оптического прицела. Ему пришлось чуть привстать и вытянуться, чтобы коснуться веток рукой.
Тогда Тэшабой дал выстрел, один только выстрел. Гитлеровец подскочил, выпрямился как деревянный и рухнул ничком, поперек снежного вала — пуля попала в глаз.
И прежде чем Тэшабой успел выползти из своей ячейки, фашисты, разъяренные гибелью своего лучшего и последнего снайпера, налетели на наши траншеи и блиндажи ураганным артиллерийским огнем. Они положили больше трехсот снарядов, разрушили бруствер, развалили во многих местах траншею. Но наши бойцы при первых же залпах успели отбежать в землянки второй траншеи, — жертв не было, вражеская артиллерия долбила пустое место. Едва налет кончился, бойцы заняли прежние позиции и приветствовали благополучно вернувшегося Тэшабоя.
Каждый день после этого, желая во что бы то ни стало отплатить нам за потерю своих снайперов, фашисты укладывали в наши траншеи по сто, по двести снарядов, но неизменно страдали только земля да снег. А еще через несколько дней наше подразделение атаковало вражеский передний край, оттеснило фашистов на полкилометра и прочно утвердилось там, где они держались восемь месяцев…
Зима сменилась весною, весна — летом. Тэшабой ходил к гитлеровцам с группой разведчиков, бесшумно снимал часовых. Ходил за «языком» и приводил пленных. А больше всего, по-прежнему, ходил на снайперскую охоту и считал только тех убитых, которых с нашего переднего края видели все; тех гитлеровцев, в смерти которых Тэшабой не был уверен, он вообще не считал — такие случаи он называл «браком в работе»…
На том развилке путей, который направлял Тэшабоя к одной из многочисленных его ячеек, уцелел ствол расщепленной снарядом березы. Тэшабой срезал на ней кору и принял за правило, возвращаясь с удачной охоты, помечать на дереве свой успех новой зарубкой; против каждой кратко записывал на белой бересте дату и как именно убил гитлеровца. А потом сделал рогатку, писал записочки и, обернув их вокруг палочек или камней, метал эти записки гитлеровцам.
«Тот, который сегодня умер, — хороший ли ганс был? — писал Тэшабой. — Не зря ли погиб он? Мы в гости его на советскую землю не звали. Он шел сюда, чтобы быть выше советских людей? И хотел получить вкусную еду и хорошие вещи?.. А сегодня вы, фашисты, его друзья, положите его в землю, он будет ниже всех людей. Мы угостили его, сделали ему хороший подарок. Напишите в Германию, его жене, что русский хорошо его угостил… И кто из вас будет следующим, кого мы угостим так же?..»
Гитлеровцы свирепели, швыряли мины, строчили из пулеметов. А Тэшабой смеялся.
Когда он убил сотого гитлеровца, то устроил поминки по Абдували. Все товарищи приняли участие в этой тризне. Каждый знал в подробностях биографию того, за кого Тэшабой не устает мстить. Каждый тоже мстил за чтонибудь свое фашистам, а все вместе воздавали мзду за страдания и горе Родины…
И Тэшабой сказал, что сотни гитлеровцев ему теперь мало, что он их будет истреблять до тех пор, пока последний фашистский мерзавец не падет мертвым на последнем клочке освобожденной советской земли.
— А я буду жив! — сказал Тэшабой. — Я всегда перехитрю смерть!
…Июль 1942-го уже согнал с небес белые ночи. Они снова стали темными, надежно укрывающими бойцов. Стрелковый полк готовился к наступлению на Красный Бор. Тэшабой решил помочь этой операции своим снайперским мастерством.
С вечера с двумя напарниками, своими ученикамикрасноармейцами Николаем Хоровым и Василием Тимофеевым, он пробрался через нейтральную зону, приблизился на сто метров к вражеским проволочным заграждениям. Здесь три друга вырыли для себя глубокий окоп и нишу, уходившую в землю штреком, тщательно замаскировались травой.
На рассвете услышали позади себя шум: наши бойцы готовились к атаке.
Фашисты встревожились, стали высовываться, наблюдать в бинокли, видно было их и сквозь амбразуры. Можно было бы убивать их наверняка, можно было бы троих убить одной пулей. Но Тэшабой Адилов сдерживал себя. Зная, что наши артиллеристы о его рейде не предупреждены, он дождался нашей артподготовки, укрылся с напарниками в нише… Как только артподготовка кончилась, пехота устремилась в атаку. Гитлеровцы встретили ее пулеметным огнем. Тэшабой и два его друга взялись уничтожать одного за другим вражеских пулеметчиков.
Тэшабой убил правофлангового, стрелявшего из амбразуры, затем левофлангового, выставившего ствол пулемета поверх бруствера, потом еще двух правофланговых, заменивших убитого, затем одного, который дал очередь впереди… И пулеметы замолкли — на двести метров по фронту Тэшабой Адилов прекратил всякий пулеметный огонь.
Под разрывами мин, под автоматным огнем бойцы пробились к вражеской траншее. Немцам, однако, удалось отбить нашу атаку минометным огнем. Пехота отошла, взяв пленных, трофеи, документы. (Такие неудавшиеся наступательные действия подразделений у нас, признаться, часто потом именуются «разведкой боем».) Тэшабой, Хоров и Тимофеев не вышли из своего окопа. Теперь снайперским огнем они прикрывали отход пехоты, стреляли по врагам на выбор… Это могло обойтись им дорого, они это знали…
Тимофеев выдал себя, нечаянно шевельнув винтовку. Фашисты тотчас же накрыли трех снайперов огнем полевой артиллерии. Два часа били снарядами по их окопу. Разрывы ложились рядом, от дыма нельзя было дышать, снайперов засыпало песком, комьями земли, осколки секли воздух над нишей, впивались в окоп, свистели… Стало ясно: прямое попадание неминуемо, вот-вот накроют!..
И Тэшабой решил обмануть врагов.
— После следующего разрыва — выбрасывайтесь! — приказал он. — И лежите, как убитые.
Едва под разрывом взметнулась земля, вскинулся сам, бросил оружие, взмахнув руками, распростерся навзничь, возле окопа, на виду у фашистов. Не зазевались и оба его товарища.
Гитлеровцы сразу же прекратили артиллерийский огонь. Осыпанные песком, все трое лежали «в открытую», как мертвые, и только чуть приоткрывали глаза, наблюдая за тем, что происходило дальше…
А дальше — шла игра без козырей со смертью. По ним «для верности» стали бить автоматчики, пули ложились то ближе, то дальше, любая следующая очередь могла прошить притворившихся мертвыми снайперов. Но друзья не выдавали себя ничем, — не много шансов было у них остаться живыми, но не стало бы ни одного, если б кто-либо пошевельнулся.
Неприятное, надо сказать, это дело — смотреть вполглаза, как пули ищут тебя, ничем не защищенного, не прикрытого! Но Тэшабой не сомневался: сейчас поможет наша артиллерия. И артиллерия помогла — орудия грохнули залпом, затем беглым, шквальным огнем, и в несколько минут вражеские траншеи сровнялись с землей. Фашистам было теперь не до наших снайперов: вслед за этим огнем следовало ждать новой атаки. А наши снайперы вскочили, побежали в полный рост. Одна из немецких амбразур заговорила пулеметным огнем, но поздно: наши уже добежали до ближайшего хода сообщения, поползли дальше. Им встретилась группа бойцов комендантского взвода:
— Где там — не видели? — Адилов и его снайперы лежат убитые? Командир приказал тела вынести!..
Тэшабой усмехнулся, вынул из нагрудного кармана удостоверение личности.
И ответил так:
— Если Тэшабой Адилов умрет, его бог принесет! Адилов еще хочет жить!.. А почему артиллерия так рассердилась?
— Обиделись артиллеристы за смерть вашу! Наблюдатели говорят: убиты, лежат, раскинувшись… Отомстить хотели. Ну и чтоб нас, пока ползем, прикрыть, помочь нам тела ваши вынести!..
И все вместе вернулись на командный пункт полка.
…И еще рассказывает Тэшабой Адилов:
— Все снайперство мое, с начала и до сентября сорок второго года, проходило в разных местах. Попав в Сорок третью краснознаменную дивизию, — к противотанковому рву ходил, против Красного Бора; потом — весь прошлый год от Ивановского до Пушкина по снайперским заявкам, излазил весь передний край. Забирался туда, где, как сообщали, ходит много немцев и не дают покою… Постоянный хороший товарищ — напарник был Кузнецов, Шотландец…
Да, он шотландец, родился в Шотландии, а в Советском Союзе — с тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Мать его — литовка, отец англичанин… Он любил песни петь по-английски на переднем крае. Он и по-русски чисто говорил, а уж по-английски — прекрасно. Он был кандидатом партии… А потом ушел на курсы средних командиров, где он сейчас — жив или убит, — не знаю…
Другим напарником был у меня Петров, тоже хороший. Убит был у противотанкового рва…
Я спросил Тэшабоя, какие у него планы.
— Как начнут — опять пойду туда, здесь не удержат. Который вещь украл — всегда таскать будет! Который курит — врач не отучит… Учить народ и быть с ним хочу!
Так ответил мне Тэшабой, все еще не справляясь с законами русского языка…
И добавил:
— У меня когда артиллерийский, пулеметный, минометный огонь — я горю, ничто меня не задержит, вперед иду… А когда надо, могу быть долго спокойным, выдержка есть!.. Я в те дни был черный, от земли и от пыли и дыма… А за Абдували… Он мой друг, мальчик был, спали на одной койке, в одном доме наши семьи, только дувалом разделен дом. Его родители меня за сына считали, а мои — его… Мой отец — Адил-Захид-зода, дехкан был. Рис, просо, ячмень, виноград, фрукты — вот его дело в колхозе «Мадани Итифок», в Сохе, было. Он умер в тридцать восьмой год, семьдесят пять лет было… Он говорил: «Абдували твой друг, всегда помогать надо…» Три года не прошло, как отец умер, я похоронил Абдували тоже… Сто четырнадцать фашистов за него убил… Клятву выполнил… Конечно, у нас есть снайперы — больше бьют… Ничего, война еще не кончается, я живой пока…
Да, конечно, Тэшабой прав: есть здесь снайперы — больше бьют. Об ученике Симанчука, Федоре Дьяченко, из 187-го полка 72-й стрелковой дивизии я уже говорил. Сегодня награждены Кашицин и Говорухин — снайперы 13-й стрелковой дивизии. Кроме Красной Звезды, медалей «За отвагу» и «За оборону Ленинграда» у Говорухина, убившего триста сорок девять гитлеровцев, с сегодняшнего дня есть еще и орден Красного Знамени. У его учителя Кашицина, участвовавшего в боях еще на Халхин-Голе, убившего в этой войне двести шестьдесят четыре гитлеровца, — такие же награды. Оба заняли на фронтовых соревнованиях (22 июня этого года) первые места и награждены часами. Оба они — напарники знаменитого снайпера Смолячкова. Теперь у каждого из них больше ста учеников…
Но, в самом деле, война еще продолжается. Такой человек, как Тэшабой — горячий, смелый, неудержимый в своей ненависти к фашистам, на достигнутом не остановится. Он истребит еще немало врагов!.. Полсотни учеников Адилова имеют уже и своих учеников!.. Снайперское дело на Ленинградском фронте все более и более развивается!
Мы сидим на скамеечке возле дома, в палисадничке. За спиною — раскрытое окно кухни, впереди, за листвою берез, за траншеями и ходами сообщения, за эсминцем в сетях, пришвартованным к сплотку бревен, — катит медленно и величаво свои волны Нева. На другом ее берегу видны обстрелянные днем домики Ижор. Сейчас — тишина, светит солнце. И я гляжу на девочку лет десяти в ситцевом платьице, она показывает пальчиком бабке через Неву, на Ижоры, и говорит:
— Видишь окна, беленькие-беленькие?.. Вот там, крышу…
Другая девочка, лет пяти, в цветах палисадника, одна поет звонко и беззаботно:
Я их обманула,
И они умирали…
А из окна кухни доносится разговор двух коков об опасностях, каким подвергают себя саперы:
— Работа у них такая!.. У нас в августе целый взвод подорвался на минах!..
5 июля. 11 часов утра. Овцино
В поисках ночлега я пошел к начальнику школы, старшему лейтенанту Гильбо, не слишком понравившемуся мне, расчетливому в отношениях с людьми человеку. Дома его не оказалось — был в клубе, объединенном клубе армии, флота и расположенного в Овцино колхоза. Здесь после демонстрации фильма происходила типичная для наших сел танцулька, которая отличалась от колхозной мирного времени только тем, что вихрастые, распаренные «кавалеры»
были в армейской или флотской форме. Сильное впечатление производил какой-нибудь моряк-командир, который, лихо заломив свою офицерскую фуражку набекрень или надвинув ее на самый нос, вертел девицу из подсобного овощного хозяйства или тут же расположенного колхоза. Балтийцы явились на эту танцульку со своих замаскированных у невского берега кораблей и кружились в деревянном зале колхозного клуба вместе с понтонерами, интендантами, снайперами и милиционерами.
А потом все разбрелись кто куда… А я пошел спать на второй этаж указанной мне дачи на пустующую койку одного из командиров снайперской школы, который ночью счел бы обязательным обнаружиться только в случае боевой тревоги. Один из таких командиров — в прошлом моряк с торпедного катера, позже — механик, еще позже морской пехотинец, а ныне просто пехотинец и ученик школы снайперов — явился ночью и, улегшись на соседней койке, признался мне, что «быть ночным пикировщиком» для него — ерунда, а он просто скучает, и хочет на корабль, и утешается тем, что ходит в гости к морякам стоящего у берега эсминца. И еще говорил о том, что растерял всю семью — часть ее в оккупированной немцами области, другая — просто рассеялась, и только недавно он, будучи раненным разрывной пулей в руку, случайно встретился с младшей родной сестрой, которая тоже лежала в госпитале раненая. И что ее вместе с ее госпиталем неожиданно перевели куда-то в другое место, и он опять утратил почтовую связь с нею.
Разыскивает ее письмами и не может найти, — как найти?
Фамилия этого парня — Соловьев, он был охоч на разговоры, я слушал его и долго не засыпал, лежа в чужой постели, под чужим одеялом. А заснув, вскоре проснулся опять, потому что дом дрожал от нового обстрела. Снаряды ложились, впрочем, достаточно далеко, и я опять заснул…
Колхоз имени Макса Гельца
5 июля. Вечер
Сегодня я посетил колхоз имени Макса Гельца Слуцкого района.
Правление этого колхоза размещается здесь же, в Овцине, в ветхом и разоренном двухэтажном доме, который когда-то был неплохою дачей. А районный центр, конечно, теперь не в Слуцке, оккупированном немцами, а в Ижорах.
Разговаривал с председательницей колхоза Маргаритой Николаевной Раменской, двадцативосьмилетней женщиной, овдовевшей еще в 1939 году, агрономом, коммунисткой с довоенного времени. Жила она тогда в Пушкине, окончила там сельхозтехникум, потом работала в колхозе…
— Семнадцатого сентября сорок первого из Пушкина ушла, — по пяткам били… Все осталось там. Пошла работать в переселенческий отдел, при Смольном… Зимовала жутко, дистрофия третьей степени, ночевали там, в отделе, заставляли нас много работать, искать выбывших, давать справки, кто куда выбыл… Отца в дистрофию похоронила, — работал на Балтийском заводе. В сорок втором году, двадцать пятого августа — сюда, председателем колхоза, а до этого была председателем сельсовета в Купчине… Мать и дочка здесь…
И еще разговаривал я с бригадиром колхоза Татьяной Петровной Бахметовой, чей окающий говор сразу помог мне угадать, что она — ярославская.
Прожила она в Ижорах одиннадцать лет… И еще — со счетоводом Марией Ивановной Бабушиной, краснощекой, с гладким, хорошим лицом, ленинградкой, из Московской Славянки, двадцатилетней женщиной, поселившейся в Овцине в сорок втором году… И с ее отцом — учетчиком трудодней, хозяйственником Иваном Алексеевичем, ленинградцем, уроженцем той же разоренной Московской Славянки, имевшим там дом и семью. Теперь жена, Мария Петровна, работает тоже здесь, на парниках. Славянка — пустое место..
Колхоз организовался в апреле 1942 года на развалинах бывшего немецкого колхоза, который и тогда назывался именем Макса Гельца. Все собирали с разоренных местностей, получили две лошади, а в мае из совхоза — двух коров, набралось здесь семь-восемь хозяйств из тех колхозников, что случайно оказались не эвакуированны — ми. Потом в колхозе стало уже тридцать семейств, но люди были голодные, работать не могли, приходили и уходили, — из ста пятидесяти человек осталось шестьдесят, кто эвакуировался, кто куда разошелся. Отремонтировали парники, рамы; стекла достали, вставили; собрали, перечинили инвентарь. Пахали на двух лошадях, потом помогла Детскосельская МТС («она помещается в одном доме с нами»). Позже из того же совхоза (в котором были собраны эвакуированные отовсюду коровы) получили еще десять коров, да одну привела свою колхозница… Посеяли свеклу, другие овощи. На тридцати гектарах посеяли овес, на четырех — рожь, на пятнадцати — ячмень, остальную площадь пустили под корнеплоды и овощи. Всего было сто пятьдесят семь гектаров. Осенью сдали государству шестьсот тонн овощей, за них были «отоварены» мукой, крупой, конфетами так, что колхозники остались очень довольны.
И в настоящее время мы дополнительное питание получаем тем же хлебом.
Колхоз уже теперь не тот, — проходят планомерно посевы, рыхление, подсыпка минеральных удобрений, подкормка, прополка… На прополку пришли помогать воинские части, жители и служащие учреждений Ижор, пожарники, милиция, работники райисполкома, Леноблторга… Кроме того, у каждого есть свои огороды: на пятьдесят шесть колхозников — восемь с половиной индивидуальных огородов, у троих есть свои коровы и куры. Остальные не могут обзавестись…
Есть своя столовая, в детском очаге — пятьдесят детей, их обслуживает штат специалистов, выделенных районом, и питание для детей — специальное: молоко, овес, хлеб черный, масло, жир, сладкое. Усть-ижорская районная больница и поликлиника оказывают всем, если нужно, медицинскую помощь… А лошадей в колхозе теперь семнадцать, есть и трактор… Картофель и капуста хорошо идут, — посадили картофель машинами, окучиваем машинами, удобрений достаточно… Не хватает, конечно, рабочей силы, пришлая — работает авралами, нет последовательности. Нет химикатов для борьбы с вредителями.
Неважные семена, в них много сорняков. Семена привезенной «канадской свеклы» попросту не взросли.
Есть при колхозе и животноводческая ферма: двенадцать дойных коров, двенадцать телят, тридцать восемь коз и овец, пятнадцать свиней, три курицы, колхоз заказал ленинградскому инкубатору двести кур для колхозников и триста для птицефермы, — обещали дать.
Колхозный актив выпускает стенгазету «Крепи оборону»; действует «через военных» кино — в неделю раза два; колхоз получает три экземпляра центральных газет, пятнадцать — «Ленинградской правды» и журнал «Работница и крестьянка».
В колхозе происходит соревнование бригад и звеньев. «Даже ящик рассады перервали в раже, до того соревновались бригады, — пусть никому! — чтоб не опередили друг друга! Потому что люди почувствовали, что голодать очень неприятно!..»
Именно так выразилась бригадир Татьяна Бахметова: не страшно, не мучительно, а неприятно!
Записал я и все цифровые показатели работы этого года… И пошел опять разговаривать со снайперами, — провел часа полтора со старшим сержантом Иваном Серым, записал то, что он поведал мне о себе и своей работе. Потом говорил с Гильбо… А весь вечер опять провел с Тэшабоем Адиловым, который вспоминал свое детство в ферганском кишлаке Сох, и своих родных, и своих товарищей…
В девять вечера разразилась гроза, лил тугой, густой дождь, стало холодно, вечер казался сентябрьским, а не июльским…
Слышна была канонада, и сквозь грозовой ливень трудно было отличить молнии от вспышек ракет и боевых зарниц…
Ночь на 6 июля. Рыбацкое
Распростившись со снайпером, я отправился в Ленинград, — переправился через Неву в Усть-Ижоры на лодке перевозчика, и пошел пешком в Рыбацкое, понадеявшись было найти какой-нибудь попутный транспорт и не найдя его. Шел, мучаясь болью в боку, стараясь не думать об этой боли. Шел по дороге, мимо домиков Усть-Ижор, то целых, то поврежденных бомбами и снарядами, мимо раскинутых вдоль дороги лагерями палаток медсанрот и санбатов, мимо замаскированных и незамаскированных автомобилей и расположенных, как везде и повсюду, воинских частей.
Вышел на стык дороги, идущей из Колпина, глядел на Колпино и на поле, где в километре от меня разорвалось, вспыхнув дымами, несколько снарядов, и побрел по этой дороге дальше, в Рыбацкое. Прошел километров, верно, не меньше шести-семи, ложился на зеленую сырую траву отдыхать, когда очень уж болел бок, и пришел в Рыбацкое.
И вот, в поисках ночлега, пришел в редакцию «Боевой красноармейской».
Сторож пристани
6 июля. 9 часов утра. Рыбацкое
Пристань. Жду парохода. Спал в редакции на койке «тассовца» Бейлина, который улетел в отпуск в Татарскую АССР на месяц.
Идет дождь, медленный, затяжной. Небо низкое — серо и осенне. Маленькая плавучая «дачная» пристань пуста.
Кроме меня ждут парохода только двое: красноармеец без курева (я и сам без курева) да женщина, купившая здесь литр молока за сто шестьдесят рублей и сказавшая мне, что можно обменять и на хлеб — литр за килограмм хлеба.
Во втором отделении пристани, в каморке без печки, живет старуха «пристаньщица» — сторож пристани Анна Ивановна. Она разговорилась со мной и заплакала, рассказывая, что сын ее Борис Елисеев, художник, работавший при Доме Красной Армии, в феврале прошлого года убит на Литейном осколком снаряда, а муж Федор Антонович умер от голода. Он был ревизором на Октябрьской железной дороге.
— Я сама хлопотала Борису броню, думала лучше, а вышло хуже… И он все говорил мне: «Мама, не делай никаких запасов, проживем как-нибудь, это дураки делают себе запасы!..» А вышло так, что запасы-то делали себе как раз люди умные, они только и выжили, а сын мой пошел в очередь за хлебом, и как раз был такой ужасный обстрел, и я ему говорю: «Не ходи», а он: «Как же можно, да ведь этими сто двадцатью пятью граммами надо день прожить, а если сегодня не взять их — пропадут!..» Тогда все выдумывали — день не возьмешь, на другой день уже пропадает… И за сто двадцать пять граммов его убило. А если б были у нас запасы, разве бы он пошел? Я все от себя ему отдавала, и от мужа тоже, думали: он — молодой, ему больше надо, уберечь думали, а вот не уберегла ни его, ни мужа, и теперь я одна, и зачем я живу, не знаю, кому я нужна одна?.. Живу!.. И разве б я работала на такой работе, я совсем прежде не работала, а теперь надо что-то делать, себя оправдывать… Сколько мы пережили, все ленинградцы! Весь город от голода вымер, что там осталось?
Что нам только немец сделал, проклятый, и когда его мы прогоним?..
И старушка в платке и в зипуне плакала и вытирала слезы платочком, а потом пошла к помпе, откачивать воду из трюма пристани…
В каморке ее, на дощатых нарах — войлок, тут старушка и спит. Два ведра на полу, из нескольких кирпичин сложен очаг («Уж когда очень понадобится — лучиной вскипячу воду, по-черному… Вот так и живу здесь по двое, по трое суток!»).
Я спросил: выдавали ли медали «За оборону Ленинграда? Она сказала, что кое-кому давали, а ей — нет, и что, наверно, медали «по блату» дают, потому что у них в конторе дали Ольге Алексеевне, которая только и делает, что в чистой, теплой комнате сидит; а вот ей, старухе, трудностей и лишений выпадает гораздо больше, а вот медаль не дали! Ей, дескать, пришлось однажды четверо суток сидеть брошенной посреди воды: привезли пристань, метрах в двадцати пяти от берега поставили и ушли, а сойти на берег нельзя; проезжают мимо кто на лодках, кричишь: «Свезите меня на берег, хоть хлеба я получу!», а отвечают: «Некогда!..» Так четверо суток и просидела… Это ведь надо учитывать?.. Но слух такой идет, что всем ленинградцам будут какие-то ленточки давать, — конечно, медали всем дать нельзя, надо же кого-нибудь отличить, но ленточки надо бы всем ленинградцам дать, чтоб ленинградцев отметить перед всеми другими и чтоб было это на память, на всю жизнь.
Плохое, правда, придется вспоминать, хорошего вспомнить нечего, а все-таки надо бы такие ленточки!..
А парохода все нет и нет, я жду, и старуха Анна Ивановна, сидя рядом в теплых чулках, всунутых в калоши, в ватном зипуне, в ветхой юбке, продолжает рассказывать.
Жила она до войны хорошо, муж Федор Антонович зарабатывал достаточно, сын Борис учился в институте Воздушного флота, окончил с дипломом инженера, а к «художеству» страсть у него была с детства. «Я все говорила: побью, если будешь карандашом чужие стулья разрисовывать!» И диплом художника у него был. Работал в Доме Красной Армии он у художника Пешкова, тот жив и сейчас.
Ездил, возил свои картины — до войны — на выставки, в Москву, в Выборг.
Несколько раз говорил: «Мама, я пойду добровольцем!», а я говорила: «Иди, пожалуй, и лучше в Красной Армии, и позаботятся о тебе, и питаться будешь лучше», а Пешков не пускал, броню ему сделал.
А теперь вот живу, вещи продаю — есть хочется. Недавно костюм его продала за восемь тысяч рублей, и уже нет этих денег. Картошка двести пятьдесят рублей кило стоит — тринадцать картофелин каких-нибудь!.. Или молоко…
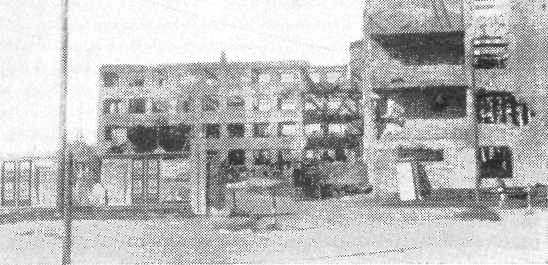
На окраине Ленинграда, у Невы. 1944 г.
Старухе назначена пенсия — двести пятьдесят рублей, но сейчас не получает ее потому, что служит. Зарплата — сто двадцать пять рублей, зато карточка первой категории, а не третьей. На этой работе — с 15 июня прошлого года. А зимой? Нужно дрова запасать, говорят: «Лови, которые плывут», а как их ловить, когда нечем, даже багра нет!.. Зимой тоже охраняла пристань, в затоне; нужно было лед окалывать на метр вокруг, чтоб ее льдом не сдавило.
Ну, этой работы тоже делать я не могла, хлеб отдавала другим, чтоб делали.
Стояла печурка, но дров не хватало, холодно было».
Сейчас по двое суток живет в городе, у себя дома, а двое суток здесь — посменно. «Сегодня должны сменщицу привезти, а меня взять».
— Муж умер раньше, чем погиб сын. Хорошо еще: удалось похоронить в гробах — сыну в Доме Красной Армии сделали, сама его и везла, в яме похоронила. Одна тянула, никого провожатых, конечно, в ту пору не было, сами люди еле ходили… Я пошла в Дом Красной Армии, к жене Пешкова, Вале, а та с горячими бутылками возится, говорит: «Пришел один художник, упал, надо его отогреть бутылками»… Что только пережили, что этот хитрец, негодяй, немец сделал!.. Ужас!.. Ужас!..
Дождь, дождь, — тихую Неву трогают сотни тысяч медленных капель.
Гляжу вниз по течению. Слева на взгорке — трехэтажное кирпичное здание школы, где в 1941 году был штаб 55-й армии, где часть его и сейчас. И другие дома и домишки Рыбацкого, и укрытые зеленой сетью автомобили-фургоны, и несколько «эмочек» у разных деревянных домов, и полоса густых зеленых деревьев вдоль шоссе и вокруг домиков селения.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 1 Польша под пятой шляхты
Глава 1 Польша под пятой шляхты «Вот уже 500 лет Польша причиняет постоянную головную боль Европе. Пора, наконец, поставить в этой теме точку». Ф.Д Рузвельт, 1945 Называть вещи своими именами По своему опыту знаю, что многие читатели будут категорически мною недовольны зато,
Глава шестая. Группировка армии[108]
Глава шестая. Группировка армии[108] Между моментом начального сосредоточения вооруженных сил и моментом созревшего решения, когда стратегия поведет армию на решительный пункт, а тактика укажет каждой части ее место и роль, в большинстве случаев имеет место значительный
Глава 1 Польша под пятой шляхты
Глава 1 Польша под пятой шляхты Называть вещи своими именами18. По своему опыту знаю, что многие читатели будут категорически мною недовольны за то, что я употребляю слова «подлецы, подонки, мерзавцы, негодяи», а слово «идиот» у меня будет встречаться чуть ли не в каждом
Глава пятьдесят шестая Покорение и тирания
Глава пятьдесят шестая Покорение и тирания В Греции, между 687 и 622 годами до н. э Спарта и Афины пытаются уничтожить порокК моменту смерти Ашшурбанапала греческие колонисты уже основали десятки городов на западе и востоке от своего полуострова. Они построили на азиатском
Глава пятьдесят шестая Покорение и тирания
Глава пятьдесят шестая Покорение и тирания В Греции, между 687 и 622 годами до н. э Спарта и Афины пытаются уничтожить порокК моменту смерти Ашшурбанапала греческие колонисты уже основали десятки городов на западе и востоке от своего полуострова. Они построили на азиатском
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ Чужая душа не потому потемки, что недоступна взору, а потому, что порой и свою не всегда поймешь. И тут наступает психологический разрыв между реальным и воображаемым. Рождается глупость - естественная вещь для того, кто ее совершает, но не для
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ Безумству храбрых песен нынче не поют. Рассказывают анекдоты. Например. Встречаются два «спящих агента» ИГИП на конспиративной квартире в Лондоне, и один другому говорит: «Чертовски хочется спасти душку!» «А душка у нас кто?» - интересуется
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ Когда Америка кашляет, весь мир охватывает эпидемия ОРЗ. Или катар верхних дыхательных путей, что одно и то же. Передается при кашле, чихании и разговоре по душам.Катар (с ударением на первом слоге) - заболевание государственное. И тоже острое.
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ На климатическом саммите в Париже серьезные люди сторонились президента Порошенко. Впрочем, несерьезные тоже. Пока Обама обменивался рукопожатиями с лидерами государств, глава Украины только что не стучался в его спину, однако тот проворно
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ Подобьем баланс. 65 стран списочной коалиции, ведомой США, бьются насмерть с группировкой ИГИЛ. Еще ряд государств во главе с Россией худо-бедно сражаются с тем же противником. Саудовская Аравия спроворила свой альянс из 34 суннитских стран,
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ Очнувшись от либерально-летаргического сна и ощутив себя в здравом, наконец, уме, общественность стала задавать неприятные вопросы окружающей действительности. Почему наша новоявленная буржуазия не выдвинула из своих рядов, не родила или