Глава третья Сибирский расчет
Глава третья
Сибирский расчет
Путь через «коридор смерти» — В редакции «Отважного воина» — У надежных стволов — Пятеро братьев. — Как они воевали? — Цветет черемуха!
(Петровщина, Назия. 320-й полк 11-й сд, 2-я Ударная армия. 23–25 мая 1943 г.)
Путь через «коридор смерти»
23 мая. Деревня Петровщина
Странно, очень странно вспоминать мечты и чаяния прошлого года, когда для советского человека, находившегося здесь, впереди был не путь в Ленинград, а немецкий фронт, внешний обвод кольца блокады. До боли в душе хотелось ее прорвать! Ленинград казался отсюда безмерно далеким, недостижимым.
А сегодня?
Решив побывать во 2-й Ударной армии, занимающей теперь рядом с 8-й армией знакомые мне места, я выехал из Ленинграда поездом.
От Финляндского вокзала до Морозовки, против Шлиссельбурга, поезд шел два часа двадцать пять минут. Пассажиров встречали пограничники, проверяли документы.
Затем мимо груды развалин, в которые минувшей зимой превратилась высокая церковь Морозовки, я прошел берегом Невы к понтонному мосту, вглядываясь в соседний железнодорожный мост.
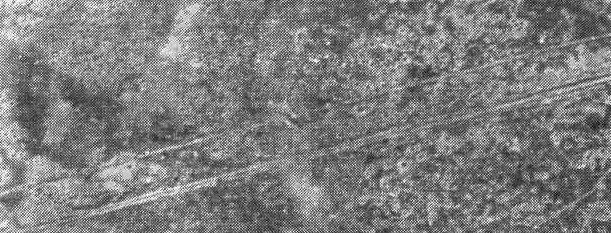
Путь через «коридор смерти» в сплошных воронках. Так с воздуха, сквозь легкую облачность, выглядит участок железной и шоссейной дорог Шлиссельбург — Назия, единственной наземной связи Ленинграда с Большой землей после прорыва блокады в 1943 г. По этой железной дороге, несмотря на бешеные непрерывные обстрелы и бомбежку, проходило ежесуточно до 30 эшелонов с подкреплениями, боеприпасами и продовольствием для Ленинграда.
Фото с самолета-корректировщика фашистского аса, полковника фон Эриха, сбитого над водами Ладожского озера (опубликовано Э. Арениным в газете «Вечерний Ленинград» 15 сентября 1965 г.).
Пересекая Неву, гляжу на искрошенные стены гордой крепости Орешек, не подпустившей к себе врага за все шестнадцать месяцев блокады. Морские артиллеристы капитана Строилова, составлявшие легендарный гарнизон крепости, теперь воюют уже не здесь.
На мосту почти возле каждой понтонной лодки дежурят красноармейцы и кое-где командиры. Диспетчеры направляют поток машин попеременно то в одну, то в другую сторону. На левом берегу Невы — землянка КПП. Поперек щели у входа сочится вода. Эта хорошая ключевая вода для питья прикрыта куском фанеры.
Перед щелью стоит девушка-регулировщица. Пропуская машины, она четко взмахивает желтым и красным флажками. Сапоги у девушки блестят. Сапожная щетка лежит тут же, на бревнышке.
Шлиссельбург — город, простреливаемый насквозь. Противник постоянно держит под огнем перекресток шоссе и железной дороги, а особенно — оба моста.
— Наверное, в городе еще есть корректировщики! — проверив мои документы, говорит пограничник на КПП. — Немец зря не бьет — бьет туда, куда ему нужно.
Население Шлиссельбурга, то, что осталось после оккупации, полностью переведено в другой район, но улицы полны новых людей, много женщин и даже детей. Взводными колоннами, распевая песни, шагают девушки в военной форме, с пилами, лопатами. Это части саперных, инженерных и железнодорожных войск.
Я еду вдоль Старо-Ладожского канала, сначала на грузовике с битым кирпичом, потом в попутном автофургоне, направляющемся через Назию к деревне Петровщине, — мой путь пролегает в шестикилометровой полосе отвоеванной у немцев земли между берегом Ладоги и Синявином. С Синявинских высот, откуда бьет немецкая артиллерия, все это плоское пространство хорошо просматривается простым глазом.
Под бровкой канала совсем недавно проведена железнодорожная линия. По ней теперь в ночное время ходят поезда, обеспечивающие снабжение фронта и Ленинграда. С неделю назад эта линия заменила собой непрерывно обстреливаемую старую железную дорогу, которая пересекает Рабочие поселки № 1 и № 4. Новая дорога тоже обстреливается, но она все-таки километра на два дальше от немцев. Железнодорожники прозвали этот путь от Шлиссельбурга до Назии «коридором смерти».
Между железными дорогами проложена автомобильная. От рабочего поселка № 1 она идет то по песчаному, как в Каракумах, грунту, то по настилу из бревен, окаймленному топким болотом. Лунки от авиабомб полны черной воды.
Кое-где стлани раздваиваются, образуя разъезды. На них даже поставлены скамьи со спинками, словно на даче. А с южной стороны вдоль всей дороги — высокий жердевой забор с ветками, чтобы немцы не могли видеть движущийся транспорт.
Там, где позволяет песчаная бровка, рядом с дорогой вырыты укрытия для автомашин и землянки. Всюду работают красноармейцы, веселые, спокойные, — живут они тут же в землянках, как дома. Мостят дорогу размельченным кирпичом, привозимым на грузовиках из 5-го поселка и Шлиссельбурга.
Изредка кое-где могильные памятники — деревянные острые Пирамидки с красными звездами на вершинах.
Весь путь от Ленинграда до Петровщины потребовал меньше четырех с половиной часов!
В редакции «Отважного воина»
В Петровщине, в избенке редакции армейской газеты «Отважный воин», я встретился с Александром Прокофьевым, которому Приладожье — край родной, и с П. Никитичем. В этой избенке я сразу почувствовал себя легко и просто, как дома…
Вечер
Александр Прокофьев лежит под шинелью, на кровати, устремив глаза в потолок. Сочиняет стихи. Петр Никитич в другой комнате сидит без дела на скамье. Больше нет никого. Тихо. Редактор — майор Алексей Иванович Прохватилов и его сподручные ушли копать котлованы. А я у окна рассматриваю широкие дали, так «наизусть» знакомые по лету прошлого года. Хорошо видны расположенные вокруг меня деревни — Путилове, Горная Шальдиха, Назия; направо — серые воды Ладоги. Изредка доносится орудийный гул. Вечер еще светел, небо пасмурно…
Я только что перелистал комплект «Отважного воина». Единственная как будто газета, которая 12 января прямо сказала о предстоящем прорыве блокады!
В номере от 10 января напечатана моя запись — «Ленинградскою ночью», а в другом номере — очерк «Пулеметы идут на фронт».
Вот входят сотрудники редакции, ведут разговор о последних известиях по радио, о самоликвидации Коминтерна, о подвигах армейских разведчиков и снайперов.
Снайпер злился на немецкого снайпера, которого никак не мог убить. Заметил, что тот ночью уходит из своей ячейки. Прополз к его ячейке, заложил мину, а на заборе против мины — со своей стороны прицепил клочок белой бумаги. Вернулся. Утром, когда немец залез в свою ячейку, выстрелил в бумажку, сиречь — в мину. Взорвал снайпера, и забор, и ячейку. Это называется насыпать соли на хвост!
У надежных стволов
24 мая. Вечер
Шалаш командира минометной батареи 320-го полка 11-й стрелковой дивизии. Вокруг — лесок на болоте, жиденькие, но веселые березки; кое-где песчаные бугорки; кочки с ландышами, только еще расцветающими. После ночного дождя — весь день в солнечных лучах жужжат комары. Расположение батареи обведено изгородью. Пять 120-миллиметровых минометов стоят в котлованах, шестой, новый миномет привезут завтра. Шалашики батареи присыпаны песком, там и здесь — частокольцы из тоненьких березовых стволов, улочки в лесу, все чинно, аккуратно. На легком срубе выложен песчаный квадрат, на нем — модель местности с деревней: домики, речки из битого стекла, мостик, телеграф с ниточками проводов, пушчонки из дерева и большая удочка с хлопком ваты в воздухе. (Это — «разрыв снаряда».) Красивый и точный макет, сделанный для занятий!
Полк, обороняя свой участок на переднем крае, в то же время пополняется, формируется, учится, а в своем тылу строит рубежи и дороги.
В минометной батарее старшего лейтенанта Ф. П. Цивликова — известный всему фронту боевой расчет братьев Шумовых, ради которого я с А. Прокофьевым, П. Никитичем и сотрудниками газеты «Отважный воин» сегодня пришел сюда.
Ехали на грузовике из Петровщины по хорошей мощеной дороге, проложенной там, где в прошлом году я бултыхался, засасываемый непролазною грязью. У деревни Верхней Назии мы сошли с машины, двинулись дальше пешком. Верхняя Назия — несуществующая деревня, обозначена только двумя надписями-указателями, при входе и выходе. Дорога, по которой здесь мы шли, была когда-то улицей, об этом можно узнать по проступающим кое-где из земли каменным плитам исчезнувшего тротуара.
Мы сели на пнях отдохнуть, осмотреться и по расположению пней поняли, что здесь были аллеи высоких лип, таких же, как несколько оставшихся прекрасных одиноких деревьев. Было здесь поместье — богатый дом, усадьба, парк, — теперь ничего, вот только каменный добротный колодец; возле него спит под плащ-палаткою между двух пней красноармеец, замаскировавшийся так, чтобы никакое начальство его не увидело.
Даже кирпичей и камней от фундаментов не осталось во всей Верхней Назии — они взяты и развезены, пошли на строительство дорог и оборонительных сооружений. Ямы, да кочки, да какой-то истлевающий, перегнивающий мусор, сквозь который уже прорастают сочная трава да молоденькие деревья. Ни одного дома! Увидеть деревню Верхнюю Назию можно только на карте!
Томясь от жары, скинув шинели, мы прошли к Нижней Назии, растянувшейся вдоль канала. Эта деревня — существует: между «паузами» пустырей в ней еще есть дома. Шли по новой дороге, что тянется (параллельно со старой, разбитой) по стланям бревен, по грубой мостовой, по дощатым «колеям», настланным продольно для колес машины, на бревна. По этой дороге ползли грузовики с камнем и толченым кирпичом — развозящие на строительство оборонительных сооружений последние остатки разрушенных деревень. Прокофьев сочинял частушки, в которых подтрунивал над Никитичем, все дружно их распевали, а Никитич терпеливо молчал. Пройдя по болоту, найдя в лесочке КП 11-й дивизии, посетив в одном из шалашей редактора дивизионной газеты «Красное знамя», майора Савельева, с ним вместе отправились дальше, в другой лесок, — сюда на минометную батарею. И, пройдя всего километров пять, нашли здесь минометчиков, занимавшихся у минометов — они проходили трехчасовую практику работы в противогазах. «Тяжело! — сказал нам командир батареи. — В такую жару!»
Услышав о приходе А. Прокофьева (его знают везде), во время обеда пришел сюда командир полка, полковник Виноградов, умный, широко образованный командир. После его ухода мы направились в шалаш братьев Шумовых, на весь день занялись разговорами и записями…
И весь день, да и сейчас, вечером, — гуденье самолетов, идут воздушные бои, доносятся звуки бомбежек и орудийный гул — огневые налеты, отдельные залпы…
Днем братья Шумовы изготовляли миномет к бою, стреляли по немцам, показывая нам обращение со своим оружием, рассказывали о себе, о прошлых боях. В беседе участвовали командир батареи старший лейтенант Федор Парамонович Цивликов — краснолицый и черноглазый, с крючковатым носом, энергичный мужчина небольшого роста, в заломленной набекрень фуражке, и оба его заместителя — старшие лейтенанты Д. К. Сергунин и И. В. Плаксин.
Перед вечером А. Прокофьев с сотрудниками газеты ушел — ему хочется поскорее в Кобону, где живут его родственники. Я остался вместе с П. Никитичем, чтобы завтра пройти вдвоем в 1074-й стрелковый полк Арсеньева, занимающий оборону на переднем крае.
Батарея 120-миллиметровых минометов Ф. П. Цивликова считается одной из лучших в дивизии. Цивликов начинал войну под Сортавалой старшиною, командиром взвода боепитания в дивизии А. Л. Бондарева, воевал потом под Ленинградом и на Волховском фронте, под Погостьем. Командиром этой батареи он был назначен в январе 1943 года, когда прежний отважный ее командир Лимарчук, выйдя за боевые порядки пехоты, чтобы восстановить связь с ПНП, был тяжело ранен осколком немецкой мины… Батарея с января прошлого года постоянно участвовала в боях — сначала под деревней Погостье, затем — под Макарьевской пустынью, под Дубовиками, Малиновкой, в сентябре прошлого года возле Тортолово и, наконец, в решающих боях по прорыву блокады. В этих боях она двигалась от Гайтолова к торфяникам 7-го поселка, к дороге Гонтова Липка — Синявино, у знаменитой Круглой Рощи и высоты «Огурец». Два месяца назад, в марте, была переведена сюда, под Нижнюю Назию. Весь боевой путь батареи пролегал в лесах и болотах Приладожья, в медленном, но упорном наступлении 54-й, 8-й и 2-й Ударной армий.
Из четырнадцати месяцев своего пребывания на фронте расчет братьев Шумовых провел в тяжелых боях восемь месяцев и за это время не знал отступлений — все бои были наступательными.
Пятеро братьев
Удивительный это расчет, состоящий из пяти братьев! Командир его — тридцатилетний Александр Шумов, старший сержант; наводчик — Лука, ефрейтор, старше его на четыре года; заряжающий — Василий, тоже ефрейтор, на год старше Александра; заместитель наводчика Авксентий, на год моложе, и снаряжающий — Иван, самый старший, 1905 года рождения, оба красноармейцы.
Все пятеро — в один день одновременно, за бои по прорыву блокады — награждены орденами: Александр — орденом Отечественной войны 2-й степени, а остальные — Красной Звездой. Все они сибирские казаки, родом из Танна-Тувы, там родились, там жили, оттуда вместе по доброй воле явились на фронт.
Из пяти братьев я познакомился сегодня с четырьмя, — пятый, Авксентий (сами братья зовут его: Аксений), болен желтухой и находится сейчас в госпитале. Трое — Василий, Лука и Иван — подлинные великаны-богатыри, ростом каждый в сто девяносто сантиметров; среднего роста только Александр, но и он крепыш. Все они обладают огромной силищей. Руки Василия — словно медвежьи лапы. Раз грузовик расчета застрял в яме правым задним колесом. Лука и Василий приподняли его, вытолкнули из ямы. А шофер, по неопытности, дал задний ход. Чтобы колесо опять не попало в яму, братья поднатужились и, пересилив мотор машины, не дали ей сдвинуться назад. Однажды, когда все связисты выбыли из строя, Лука пополз исправить связь, разрывная пуля ранила его в поясницу, но он даже не заметил, что ранен, пока товарищи не сказали ему об этом. Другой раз Василий, работая пулеметчиком при отражении контратаки, разгоряченный азартом, тоже не заметил было пули, которая, пробив ему щеку, выскочила из его раскрытого в тот момент рта, не задев зубов, — он почувствовал ранение только тогда, когда ощутил во рту вкус крови. Лука лишь на следующий день после боя согласился отправиться в медсанбат, а Василий и вообще не захотел уйти от своего миномета.
Все они — спокойные, уравновешенные, хладнокровные. Лица у всех — открытые, ясные, добродушные, сосредоточенные. Все блондины или светлые шатены. Между собой разговаривают тихо, размеренно, натомтаннатувинском языке, который стал им родным с детства; в общении с окружающими — переходят на русский язык. Они полны гордости за свою могучую семью, они никогда не солгут, не слукавят, все делают дотошно, добросовестно, накрепко. Тесно связаны братством, один без другого скучают, но очень дисциплинированны, и если кто-либо из них получает отдельное поручение, то выполняет его так же охотно и беспрекословно, как выполняют общее, «семейное» дело, в котором каждый благодаря своей силе, росту и сноровке работает за десятерых. Никто из них никогда в пререкания не вступает, расстроенными, чем-либо недовольными их не видели, молчаливость их известна всем, только Лука — побойчее, любит поговорить, а Александр, более других склонный к веселью иной раз даже пускается под гармонь в пляс.
Все, кроме Александра, малограмотны: живя в дальней тувинской глуши, окончили они только по два класса начальной школы, лишь Александр — четыре.
Александр у себя на родине с юности рыбачил да охотился в тайге На медведя, волка, росомаху, рысь, сохатого оленя, козла, марала. Сдавая пушнину на заготпункты, накопил денег, потом поселился в городе Кизыле, женился на переплетчице типографии и сам в той же типографии стал рабочим. Такими же охотниками были Иван и Авксентий. Василий работал грузчиком в госторге, а затем колхозным плотником. Лука, начав свою трудовую жизнь работником у богатого мужика («за овечку шесть месяцев жил!»), стал позже колхозником…
Те из братьев, кто имели своих коней, по доброй воле отдали их в первые же дни войны Красной Армии.
О своей жизни в Туве, о семьях своих братья рассказывают охотно, но и слова из них не выжмешь, когда начнешь расспрашивать об их боевых подвигах (которых ими совершено немало): скромны, хвастовства или хоть рисовку собой — не подметишь. Добросовестны, обо всем говорят просто, «как есть»…
Все братья женаты и многодетны — детей у них общим счетом двадцать четыре: у Луки — десять, у Ивана — шестеро, у Василия и Авксентия — по три, и только у «горожанина» Александра — двое.
Семья у них на родине патриархальная, можно сказать, почти родовая.
Лука, Иван и Авксентий — «Никитичи»; отец Василия — Егор Фадеевич Шумов, был партизаном, убит в гражданскую войну; отец Александра — Терентий Шумов, член партии с 1926 года, — глубокий старик. Все пятеро считают главой семьи и своим «единым» отцом (которого называют почтительнейше «они») Никиту Фадеевича Шумова. Семидесятилетний Никита Фадеевич — хлебопашец и скотовод, сильный и здоровый поныне, строгий старец с огромной белой окладистой бородой, ведет свой казацкий род чуть ли не от Ермака Тимофеевича и, живя в Енисейской тайге, пользуется непререкаемой властью над сыновьями, племянниками, внуками и правнуками своими…
Кроме пяти братьев-минометчиков на фронтах Отечественной войны воюют и другие их братья: колхозный шофер Семен Никитич — пулеметчик, позже радист, уже дважды раненный на Ленинградском фронте; Максим Терентьевич — тоже уже дважды раненный, — связной при штабе батальона на Калининском фронте; Емельян — пока в запасном полку; Петр Терентьевич — неизвестно где находящийся, потому что писем от него с фронта нет. Воюет и муж одной из дочерей Луки, а три его самых старших брата отвоевались еще в годы первой мировой войны: двое погибли, третий был контужен и ныне — дома.
Все они, кроме этих трех самых старших братьев, отправились в армию вместе, «одной колонной», и стоит сказать, как это произошло.
Жили они в своей таежной глуши, за сотни километров от железной дороги, работали, слушали вести с войны по радио, почитывали газеты да обсуждали далекие фронтовые дела, не радовавшие в ту пору их души. Думали частенько о Ленинграде, в котором никто не бывал, но который был близок их сердцу: родной их колхоз создавал ленинградец — рабочий, близкий им всем человек. От него наслышались они много о великом городе, с первых месяцев войны окруженном немцами.
Первую мысль о том, чтобы им, всем братьям Шумовым, пойти на фронт да гнать немцев от Ленинграда, подал Иван. Посоветовался с Семеном, и тот горячо откликнулся — пошел «агитировать» всех других братьев. И явились они к отцу, Никите Фадеевичу.
Усадил их всех округ себя старик и сердито сказал: как это, мол, без его приказу надумали? «Коли пришли за приказом, то вот он, таков: у нас в ту войну два брата от немчуры погибли, Галафтифон (Галактион) и Андрон. Время пришло такое, идите теперь, отвечайте за старших братовей, только семейства устройте!»
Устроили Шумовы своих жен, детей и вместе с женами — снова явились к отцу, было это в зимний вечер января 1942 года. И вот как о том вечере рассказывает Василий:
— Барашка зарезали. Гуси жареные, поросеночек. Пивишка отец поставил, браги ведерочка два выпили, — сахар дешевый был, рубль килограмм. Спиртик… Собирались в доме Луки. Утром — Лука еще спал — подъезжает отец на санях, с красным флагом, кумач — с метр. «Надо ехать!» У меня еще оставалось с пол-литра, подал ему, сам выпил. Поехали в другой поселок на сборный пункт, за семь километров. Отец впереди на своих санях с красным флагом, за ним — шесть саней, мы с женами и детворою постарше. Ехали, песню пели:
С красным флагом приезжали,
С полевых работ собрали…
По морозу, все дружно пели!
Оттуда двинулись мы в Балгазик — районный центр. Не доезжая до Балгазика с полкилометра, отец с саней слез, выстроил нас в две шеренги, сам вперед флаг понес, мы за ним, а жены — сзади на санях ехали. В Балгазике — районное начальство встречает, подошел капитан, а отец ему с приветствием, чин по чину: «Вот, товарищ! Привел свою армию, отправлю на фронт, идут добровольно!»
И вышло нас население провожать. Мы все — в одну машину. Продуктов набрали с собой. Проехали на машине до Абакана, оттуда — железной дорогой до Красноярска. Здесь четырнадцать дней учились на минометчиков в запасном полку. И собрались мы — пятеро — к полковнику, и полковник нам предлагает: «Вот, мне как раз — расчет! Ну давайте!»
А Семена с нами тут не было — шофером работал он, позже нас в Ленинград отправился.
Из Красноярска эшелоны с пополнением шли прямиком до Волховстроя.
— Отсюда, — рассказывает Василий, — на Глажево, один эшелончик. Прибыли восемнадцатого марта тысяча девятьсот сорок второго года, а из Глажева пехом в составе пополнения к Погостью, сразу в одиннадцатую стрелковую дивизию, всех — кто куда желает. Мы все в ряд выстраиваемся. И нас — в третью батарею отдельного минометного дивизиона, сразу — расчетом. Дали нам командиром старшего сержанта Кривоухова Анатолия Никитича… Климат. Болото! Сразу плохо показалось. У Луки были болотные сапоги, пошел пробовать, — высоко!..
Когда я записывал этот рассказ, сидя возле миномета, в кругу братьев Шумовых и их командиров, заместитель командира батареи по политчасти старший лейтенант Плаксин перебил Василия:
— Климат?.. А теперь им хорошо, ни жары, ни холода не чувствуют. Им что похуже, то больше нравится, ничего не боятся — ни снарядов, ни пуль!.. А ты расскажи, в какой вы одежде приехали да что с собой привезли!
— Одежда? В собственной! Полушубки, болотные — повыше колен — сапоги, шапки-ушанки с хромовым верхом! А везли с собой всего на месяц — мяса по целому барану, всего прочего — в таких же количествах!
— Трое из них, — добавляет Плаксин, — вначале получали по распоряжению командира дивизии полуторный паек, а теперь, когда получают обычный, им не хватает еды.
— То верно! — усмехнулся Василий. — Поддаемся болезням. Вот Александр мечтает после войны первым делом полечиться: резвматизм!.. Хилость теперь у нас!
Глянув на братьев при этих словах, я подумал, что и сейчас каждый из них вдесятеро сильней и здоровее любого другого, — но лица этих богатырей действительно были бледными; обычного, строго и точно рассчитанного по калориям армейского пайка им, великанам, конечно, мало!
— Беда их, — продолжает Плаксин, — неграмотными приехали. Теперь сами газеты читают. Беспартийными были — теперь Александр и Василий члены ВКП(б), остальные кандидаты!
— Это — после боев уже, когда заслужили, что нас узнали, какие мы. Тогда заявления подали — с октября прошлогоднего!.. А еще пуще беда наша, когда приехали, — в отношении наводки: что вправо, что влево, понятия не имели; и еще: необстрелянные.
Как они воевали?
На вопрос: как же учились они воевать? Василий отвечает:
— Сперва стали мы под «железкой», немцев там много лежало. Александра да Ивана с супом послали — доставить на передовую. Расскажи, Иван!
И Иван рассказывает:
— Сперва страшно было! Смотрю — снаряд разорвался. Другие падают, а мы — нет, стоим, смотрим. Только пошли — шесть самолетов бросают бомбы. Суп все ж доставили. Второй раз — тоже, все пятеро суп, водку носили. Опять под обстрелом. Авксентия снегом забросило, не ранило, только так — рванет оглушительно. Ну, мы решили: если ранят, то не бросим один другого… Вот и слаженность у нас теперь в бою почему? В других расчетах каждый надеется, что он сделает что полегче, а другим — потрудней оставит. А нам что? Друг на дружку надеемся, за нас — никто! И нам отец говорил: «В куче, как веник, будет всем лучше, а по одному — наломают, всем хуже будет!» Так мы: «Давайте, братья, сделаем!» И уж на совесть. Где если машина засядет — «А ну! Давай!..» Надеяться на других не любим. Комсоставу кто землянки делает? Шумовы! (А уж себе — сделана!) А другие еще себе только делают!.. Связь себе сами ладим! Василий снова ведет рассказ. О том, как учил их всех Кривоухов, как вначале вместе с другим боевым расчетом «вхолостую» команды принимали, а тот — стрелял; и о том, как Александр охотнее всех изучал миномет и всех тянул за собой. Не стеснялись братья своего незнания, все «натурально» расспрашивали: и как поставить правильный угол возвышения, и как управлять дистанционным краном, и давать беглый огонь. Объясняет Василий, как одновременно изучали они автомат, гранату, винтовку и пулемет. И как научились заменять друг друга в любой обязанности; и еще повествует о том, как первый раз закипела в них злость, когда под Погостьем, у Кондуи, в бою за поляну «Сердце» (она имеет вид сердца) увидели наших раненых, сожженных заживо фашистами…
— Первый бой наш расчет повел пятого апреля, под Макарьевской пустынью.
Наша батарея стояла готовая на огневой позиции, впереди. Миномет был уже стодвадцатка. Мы под огнем блиндаж делали. Снег растаял, мокро. Александр навел, я было стал тут теряться, но ничего, сразу пять мин — и подавили станковый пулемет, — он из лесочка, за километр бил… А уж в мае, в Малиновке, когда немец (человек восемьсот) шел в наступление и пробил брешь в соседней дивизии, нас бросили в эту брешь. С ходу мы развернулись, сделали все как надо и дали ему жару. Он опять в атаку пошел, силами до полка, мы срубики сделали над минометами широкие, не так, как другие расчеты узкие амбразурки делали, и открыли огонь! Всего три дня канитель была, мин пятьсот бросили, подходяще. Принесут суп, не успеешь ложки хлебнуть — по местам!
…Ночью они бомбили здорово, жаром охватывало, деревом накрыло, Ивана отбросило, — это была тополевая роща, тополи толстые. Мы все лежали за лесиной, за корнями, срубчики — пустяковые, укрыться некуда… А они пикируют, с ревунами, — вот крепко было!..
И от боя к бою шли неторопливые рассказы Василия, Ивана, Луки.
Александр больше помалкивал, а командир батареи и два его заместителя уточняли: где именно, когда и при какой общей обстановке происходило то или иное. И когда я поинтересовался секретами успеха Шумовых в этих боях, то сказали мне братья, что главной причиной успеха была приобретенная ими точность и скорострельность стрельбы. Когда расчет Шумовых делает пристрелку, то по их миномету и другие расчеты батареи открывают огонь: Шумовы не ошибаются.
— Конечно, и сила тут!.. Когда, допустим, осечка, нужно силенку, чтоб сгрести за казенник машинку и мину вытряхнуть, Александр с Лукой, а то и один Лука сгребет! Для его ручищ пудовая мина — что огурец. А осечки бывают, особенно ежели чужие мины собираешь: ящики, бывает, несут, мины повыкладывают, а мы тут как тут, собираем их, раз штук двести собрали.
Капсюль отсыреет — осечку дает, или шляпка от патрона остается в стволе.
Миномет переворачиваешь, вытряхиваешь. Лука часто один вытряхивал, — ну, у него ж и рост!.. А все ж дело не только в силе: скорострельность необходима!
Значит — внимательность. По уставу в минуту полагается выпустить десять мин, практически другие расчеты дают семь-восемь. А у Василия скорострельность достигает пятнадцати, а то и семнадцати мин. И бывали случаи — в январских боях по прорыву блокады, — до восемнадцати мин «висело в воздухе». Это значит: когда первая мина, достигнув цели, взрывается, братья опускают в ствол миномета двадцатую, — а восемнадцать выпущенных летят одна за другой, приближаясь к цели. А когда затем разрывы чередой следуют один за другим, получается впечатление, будто Заработала «катюша». Каждые три секунды — мина!
А точность работы расчета Шумовых характеризует хотя бы такой случай, рассказанный мне старшим лейтенантом Плаксиным.
Недавно — 18 апреля — на минометную батарею пришел полковник, заговорил о точности стрельбы, и командир батареи предложил ему самолично убедиться в том, насколько точна стрельба расчета братьев Шумовых.
Впереди виднелся немецкий блиндаж, и полковник спросил: сколько мин потребуется Шумовым, чтобы пристреляться к этому блиндажу, а затем перейти на поражение?
Командир расчета, Александр Шумов, уверенно ответил:
— Три! А четвертую, товарищ полковник, пустим на поражение!
Такая уверенность показалась полковнику бахвальством. Но командир батареи Цивликов знал, что Шумовы его не подведут, и попросил разрешения самому отправиться на передовой корректировочный пункт вместо всегдашнего разведчика-наблюдателя старшего сержанта Фролова. Полковник разрешил Цивликову быть корректировщиком-наблюдателем и приказал командовать старшему лейтенанту Плаксину.
Весь расчет помнит команды этой стрельбы.
— По блиндажу противника, — скомандовал Плаксин, — осколочно-фугасная мина, взрыватель замедленный: заряд 1, буссоль 1, 92, прицел 5, 23 — первому, одна мина, огонь!
По донесению корректировщика, мина легла точно на линии блиндажа, но чуть-чуть левее, и он дал поправку:
— Правее, 0, 55… Огонь!
Вторая мина легла на той же линии, чуть правее. Третья мина пошла по команде: «Левее… 0, 03… Огонь!»
— Ясно! — сказал Александр Шумов, услышав последнюю поправку: «левее 0, 05». — Разрешите пойти на поражение?
Четвертая мина попала точно в блиндаж, полковник приказал дать еще шесть штук беглым огнем, от блиндажа ничего не осталось, и на этом кончили стрелять.
Другой раз столь же точным огнем Шумовы успели накрыть вражеский грузовик с пехотой, который быстро пересекал открытую поляну и вот-вот должен был скрыться в лесу. Сами Шумовы результатов своих стрельб обычно не видят — их глазами давно стал корректировщик Фролов.
Только раз, в торфяниках под Гонтовой Липкой, довелось им самим наблюдать действие своих мин.
— Как мина упадет, — радостно рассказывает Василий, — так где клочки, где что летит — хорошо видать. Они подбегают, и мины их начинают крошить; которые сразу падают, которые обратно бегут, а мы по ним снова — «Не уйдешь!» — кричим. «Ну, братья, действительно попадаем!»
Были случаи, за день батарея выпускала больше тысячи мин, а однажды выпустила две тысячи.
По подсчетам Фролова, который уже год не расстается с расчетом Шумовых, на счету у братьев больше четырехсот немцев, одиннадцать пулеметов, четырнадцать минометов (только уничтоженных, не считая подавленных), девять дзотов, несколько автомашин с людьми и одна машина с боеприпасами. Эту последнюю машину накрыли вечером. В ней был и ящик с осветительными ракетами, и, когда ракеты стали рваться, освещая темные небеса разноцветным фейерверком, вся батарея, да и весь полк любовались работой Шумовых…
Этот полк недавно, после жестоких боев под Синявином, состоял всего из восемнадцати человек, — теперь он снова укомплектован полностью. А в расчете Шумовых за весь год потерь не было, если не считать тех ранений, о которых я уже упоминал, да убитых лошадей, которым почему-то особенно не везло.
— Черт его знает, — рассказывает Василий, — как лошадь возьмем, приведем на ОП, так прямое попадание в лошадь. А мы коней любим! Расскажи, Иван, как своего жеребчика встретил!
— В дивизии это было, — усмехается Иван, — в деревне Криваши, в августе сорок второго. Вижу, майор верхом едет, и узнал я своего коня издали — тот самый, которого на Туве сдал. Вот случай, думаю! Подошел, и по тавру удостоверился, и говорю: «Белик!» — «Ты что?» — глядит на меня майор. А я: «Товарищ майор, разрешите обратиться! С лошадкой охота повидаться!» — «Как так?» — «Я пожертвовал!» — И похлопал я по шее коня, и узнал он меня, баловник, и думаю: «Поездил бы на тебе!» — как раз задание выполнял, километров десять пешком. — «Вот бы сел на тебя!..»
Бывают же, в самом деле, случайности!
Мне сказали, что Василий в боях под Синявином действовал и как пулеметчик. Я расспросил его. Узнал, как он косил гитлеровцев с близкой дистанции, лежа в торфяниках. Братья ему завидовали, и из их отрывистых замечаний я понял, что каждому из них хотелось бы бить врагов не только из миномета, издали, а схватиться с фашистами врукопашную, — вот уж где они понаслаждались бы своей физической силищей! А то ведь, не обращая никакого внимания на огонь врага, воюют, как работают: спокойно, деловито, невозмутимо.
Приучили себя к выдержке и хладнокровию, а у каждого, вопреки внешнему суровому спокойствию, живет в крови русская удаль. «Эх, дотянулись бы вот эти руки!» — сдержанно произнес Лука и, подняв огромные свои кулаки, погрозил ими в воздухе: «Во!»
…Весь день и весь вечер меня грызут комары, мириады их поют в воздухе, спасения от них нет, и, пока я делал все эти записи, руки и лицо опухли, и невольно я расцарапал их…[5]
9 июля 1958 г. я прочел в «Комсомольской правде» заметку в четырнадцать строк. Она начиналась словами: «В суровые годы Отечественной войны по всему Ленинградскому фронту разнеслась слава о боевых делах отважных братьев Шумовых…» Вторая половина заметки состояла из таких строк: «…Но не всем братьям суждено было вернуться с поля брани, трое погибли смертью героев».
С тех пор прошло много лет, но и сейчас ленинградцы с большой любовью произносят имена братьев Шумовых. Их 120-миллиметровый миномет № 0199 установлен в Ленинградском артиллерийском музее. В Музее истории Ленинграда намечено открыть специальный стенд, посвященный подвигам отважных братьев.
Шумовы награждены юбилейной медалью в честь 250-летия Ленинграда.
Два брата — Александр и Лука — трудятся сейчас на Фрунзенской фабрике модельной обуви.
Цветет черемуха!
25 мая. 12 часов 30 минут дня
…Вчера вечером А. Прокофьев с журналистами газеты «Отважный воин» ушел назад в Петровщину, а я с П. Никитичем остался ночевать на батарее, с тем чтобы поутру направиться в 1074-й полк 314-й стрелковой дивизии к известной всем на фронте Круглой Роще.
Командиры батареи с утра были заняты приемом пополнения. Цивликов ушел на сутки километров за пять на тактические учения. Он повел с собой группу бойцов, среди которых есть узбеки, татары, грузин и казах Адильжан — старший сержант, отличный, храбрый и исполнительный, в армии он — с 1939 года.
Мой путь с Никитичем лежал мимо Бугровского маяка. Мы вышли с батареи в одиннадцать часов утра, шли четыре километра по дороге, переправились на плоту через канал, пошли вдоль берега Ладоги между двумя каналами, осчастливленные чудесной природой — пением птиц, запахом черемухи… Она в цвету, деревья белеют!
Через час пришли сюда, и вот сижу на каменной глыбине, пишу, а Никитич фотографирует меня и развалины маяка. В солнечном небе — самолет. В эту минуту он пикирует, и его обстреливают наши зенитки. Глыбиной прикрыт вход в блиндаж, у подножия маяка. В блиндаже мы застали лейтенанта и красноармейца.
Лейтенант, разбуженный нами, сразу куда-то ушел, а красноармеец, разложив костер, стал варить суп в ведре перед блиндажом. Чуть подальше, у маяка, — группа саперов 320-го стрелкового полка, ходят с осторожностью: все минировано. Я с Никитичем ходил здесь, однако ж, без провожатых. Все облазил и осмотрел, сделал несколько фотографий.
Природа торжественна и величава. Зеленая листва, освещенная жарким солнцем, ярка; в голубых небесах медленно наплывают с севера белые кучевые облачка; гладь озера бестрепетна, тиха. В природе — благостный мир, а вокруг меня — хаос опустошения: снесенные дома, обломки маячной башни, воронки от бомб, снарядов и мин, кирпичный лом — крупные кирпичные глыбы, вырванные из башни. От нее осталось только основание. Два зуба — остатки круглых стен — высятся до четвертого этажа, внутри со стороны озера, по куче развалин тянется деревянная лестничка и там, наверху, стоит красный маячный фонарь, — видимо, по ночам он действует.
Рядом с маяком — руины кирпичной казармы. По словам Никитича, здесь был отличный дом отдыха водников. В двухстах — трехстах метрах от маяка видны проволочные заграждения и немецкие дзоты. Здесь, до прорыва блокады, стояли немцы. За озером видна Шлиссельбургская крепость, отчетливо видны оба берега — и ленинградский и кобонский.
Вот лейтенант вернулся, с ним три пожилых бойца. Окинув жестом руки наши траншеи и дзоты, обводящие маяк со стороны озера, лейтенант спрашивает:
— Где мины, знаете?
— Не знаем! — отвечает старший из трех бойцов.
— Напоретесь! Тут мин до хрена! Я сейчас дал задание, чтоб, пока не стемнеет, до пота работать!
Лейтенант стоит, размышляет, как объяснить им, где мины.
По каналу немец нет-нет да и стреляет. Вчера попал в самый канал. Вчера же в 4-м поселке снарядом убито семнадцать красноармейцев… Доносятся звуки разрывов, немецкая артиллерия бьет то справа, то слева. Ночью авиация налетела на Шлиссельбург, были сброшены осветительные ракеты на шарах-пилотах. Они взмывали вверх. Один из пары немецких самолетов, пролетавших вчера над Шальдихой, сбит двумя зенитными снарядами. Летчик спрыгнул на парашюте. Пилот второго немецкого самолета хотел расстрелять своего товарища в воздухе, но был отогнан нашими зенитчиками, и этот приземлившийся немец был взят в плен…
Передо мною пробитая каска на тонком пеньке, лодочка, причаленная к бровке большой воронки от 250-килограммовой бомбы; красноармеец, отталкивающий свой плот шестом от берега озера; другой — на берегу удит рыбу… По зеленой траве разбросаны куски железа, камня, кирпича, жестянки, тряпки…
Как нелепо сочетание солнечной благости мира в природе — и хаоса войны, разрушения, вносимого в этот мир человеком!
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
1. 3. Расчет Пасхалии. Церковный календарь.
1. 3. Расчет Пасхалии. Церковный календарь. В IX веке был выполнен расчет Пасхалии [4]. Создан первый церковный календарь. Возникает астрономия, предназначенная первоначально для обслуживания церковного
Исторический расчет или феномен познания?
Исторический расчет или феномен познания? Эта историческая сенсация обнаружилась в обычных школьных тетрадях. Их было 15 штук в картонных переплетах, сделанных на довоенной фабрике «Светоч». Конечно, поразительными были не сами тетради, а то, что в них написано. На первой
4.1. Расчет сил и подготовка высадки
4.1. Расчет сил и подготовка высадки Эволюция замыслов по освобождению Крыма изложена выше. Легко заметить, что замысел операции постоянно менялся. Начало детального планирования стало возможным лишь после выхода директивы СКФ 12 октября. Сроки готовности в первое время
Глава 2. Сибирский Туран.
Глава 2. Сибирский Туран. «Пора прекратить рассматривать древние народы Сибири и Центральной Азии только как соседей Китая или Ирана. Надо наконец сделать практический вывод из того бесспорного положения, что их история и культура развивались самостоятельно». Л.Н.
Глава 5. "Сибирский Пимен", или Несостоявшееся открытие гения В.И.Анучина
Глава 5. "Сибирский Пимен", или Несостоявшееся открытие гения В.И.Анучина В 1940 г. в ленинградском журнале "Литературный современник" был опубликован фрагмент мемуаров к тому времени уже мало кому известного ученого и педагога В.И.Анучина[104].Писать воспоминания — право, но
Глава 2. За наличный расчет, без доставки
Глава 2. За наличный расчет, без доставки 28 мая 1940 года в моем рабочем кабинете в Нью-Йорке зазвонил телефон и мне сообщили деловым тоном: — Мистер Стеттиниус, вам звонят из Белого дома. С вами хочет поговорить президент. Мистер Рузвельт был краток. Он сообщил, что перед
Глава IV Западно-Сибирский Комиссариат
Глава IV Западно-Сибирский Комиссариат Переворот в Омске прошёл так быстро и безболезненно, что как-то не верилось глазам, когда вечером стали ходить не «красные», а «белые», появились воззвания новой власти, и все комиссары исчезли.Вступивший в командование военными
Глава 10 Сибирский обед в Америке
Глава 10 Сибирский обед в Америке Любуясь русской аристократией, американцы считали ее карту в сражении с Советами битой. Миссия Щербатова в Америке оказалась малоудачной, поскольку его партнеры по переговорам не увидели перспектив быстрого поражения большевиков и
Глава 4. Сибирский маршрут Александра
Глава 4. Сибирский маршрут Александра Если пребывание Александра в Сибири не вызывает сомнений, то его маршрут по Сибири может быть восстановлен лишь фрагментарно. Трудности же усугубляются крайней «перепутанностью географии» на маршруте Александра. Например, это
Риск и расчет
Риск и расчет Летом 1939 года, когда в СКБ-2 ленинградского Кировского завода была закончена разработка рабочих чертежей тяжелого однобашенного танка КВ-1 и 2-й механосборочный цех начал готовить детали для опытных образцов, в Харьков приехал ведущий конструктор танка Н. Л.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ВРЕМЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ВРЕМЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ Прочитав вполне приличный воз книг и, казалось, разрешив ряд наитруднейших исторических парадоксов… так и не смог понять «элементарного»: Сион ли правит этим миром или всё-таки Провидение Божье?.. Анонимный