Царскосельские лебеди (Ахматова и Гумилев).
Царскосельские лебеди (Ахматова и Гумилев).
Как юность далека от той судьбы, какая ее ждет, блистательная в вечности! Даже в случае с Пушкиным, в его лицейские годы в Царском Селе еще далеко не было столь ясно, что его ждет. Вокруг него много было талантливых юношей, знатных, богатых, еще важнее по ту пору, красавцев. А он кто? Впадая в грусть, поэт лелеял мечту – превозмочь неблагосклонную к нему судьбу.
С Царским Селом непосредственно связаны и судьбы Анны Горенко и Николая Гумилева. Нет до сих пор особой ясности в истории любви, единственной в своем роде по последствиям.

Гимназист-переросток, пишущий стихи, старается привлечь внимание гимназистки, проявляющей интерес к поэзии и читающей наизусть стихи на немецком языке, которого он не знает, французским владеет не вполне, да и по-русски писал, не ставя знаков препинания.
Еще шепелявил и был некрасив. Однако он не отступал и однажды объяснился в любви. Его выслушали вдумчиво, он поцеловал ее, на что последовали слова о том, что они останутся друзьями. Высокий тонкий юноша и под стать ему тонкая и гибкая девушка. Царское Село, возможно, Екатерининский парк вокруг, тени Пушкина и Лермонтова и красавиц, воспетых ими.
Если Гумилеву с его характером постоянно испытывать судьбу был естественно близок Лермонтов, то Ане Горенко, конечно же, Пушкин, и образ поэта то и дело возникал перед нею во всех уголках парка, что однажды ей удастся схватить в нескольких строках, классических:
Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов.
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Вскоре Анна Горенко уехала с семьей в Евпаторию (родители развелись), затем поселилась в Киеве. Гимназист на деньги матери издает первую книжку стихов «Путь конквистадоров» и рассылает по редакциям журналов.
По окончании гимназии Николай Гумилев уезжает в Париж, слушает лекции в Сорбонне, мечтая совершить путешествие в Африку, и пройдут два года – с возвращениями в Россию, с возвращением в Париж через Черное и Средиземное моря, с путешествиями в Африку, поначалу это были обыкновенные туристские поездки, – неизменно через Киев, где перед Анной Горенко являлся студент Сорбонны, поэт, путешественник, самоуверенный и решительный, как конквистадор.
Наконец он попросил у нее руки, она далеко не сразу дала согласие. Поначалу она его и слушать не хотела; но он находил ее то в Крыму, то в Киеве, отправляясь в Африку или возвращаясь из путешествия. Осенью 1909 года Гумилев с сотрудниками журналов «Остров» и «Аполлон» организовал вечер поэтов в Киеве, на который, конечно же, он пригласил Аню Горенко. Впрочем, она и сама пришла бы, чтобы послушать известных поэтов из Петербурга, среди которых теперь оказался и Гумилев.
Аню Горенко тянуло в Петербург, помимо всего, у нее были причины. А тут целый десант из столицы Гумилев организовал. Хотя Гумилев влюбился было в одну поэтессу (Дмитриева, учительница-хромоножка, пишущая стихи), с ее слов, даже делал неоднократно предложение, ездил с нею в Коктебель, где обосновался Волошин, к нему-то она поехала, а затем была мистификация с таинственной Черубиной де Габриак, стихи которой всех восхитили в редакции «Аполлона», а когда выяснилось, что это шутка Волошина с той поэтессой, Гумилев, вероятно, не выдержал и что-то произнес на ее счет, Волошин дал ему оплеуху, состоялась дуэль поэтов, с потерей калоши в снегу одного из них, как писали в газетах. В Киеве Гумилев три дня встречался с Аней Горенко и снова попросил ее руки. На этот раз барышня не отшатнулась от него, как прежде, при его естественных попытках обнять и поцеловать ее. Произошло нечто вроде помолвки. Гумилев из Киева отправился в Африку, как собрался, не веря еще, наверное, своему счастью. Впрочем, вскоре он вернулся в Россию и, верно, заехал в Киев в конце марта 1910 года, когда окончательно для себя Аня Горенко решила: Гумилев – ее судьба. Скорее всего, она думала о возвращении в места ее детства и юности, это Царское Село – ее судьба.
Ныне всплыли подробности из этой истории, о чем ранее можно было лишь догадываться. Аня Горенко была влюблена в одного студента, о чем могли знать мама и ее старший брат Андрей, а могли и не знать, но она доверилась мужу ее старшей сестры Инны С. В. фон Штейну, поэту и переводчику, университетскому товарищу Александра Блока, поначалу, может быть, по необходимости, ей хотелось иметь фотографию студента (Владимира Викторовича Голенищева-Кутузова), просила несколько месяцев, как вдруг в ее жизни произошли события, о которых следовало сообщить, может быть, и фотография ни к чему.
«Милый Сергей Владимирович, – писала Аня Горенко 2 февраля 1910 года, – это четвертое письмо, которое я пишу Вам за эту неделю. Не удивляйтесь, с упрямством, достойным лучшего применения, я решила сообщить Вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь, но это оказалось так трудно, что до сегодняшнего вечера я не могла решиться послать это письмо. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба – быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю… Я дала ему руку, а что было в моей душе, знает Бог и Вы, мой верный друг Сережа».
И тут-то наконец С. В. фон Штейн прислал Ане фотографию Голенищева-Кутузова, что, возможно, совпало случайно, или решение Ани выйти замуж за Гумилева родные не приняли всерьез? Фотография могла означать напоминание о любви, пусть неразделенной, а к чему тут замужество? Аня Горенко написала с ее безоглядной искренностью:
«На ней он совсем такой, каким я знала его, любила и так безумно боялась: элегантный и такой равнодушно-холодный, он смотрит на меня усталым спокойным взором близоруких светлых глаз… Я слишком счастлива, чтобы молчать. Я пишу Вам и знаю, что он здесь со мной, что я могу его видеть – это так безумно хорошо.
Сережа! Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви. Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Гумилев – моя судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной».
Удивительно, девушка, любя одного, выходит замуж за другого, который любит ее, и при этом не себя, а его называет «этот несчастный человек». Звучит клятва, которая кажется еще более странной: «Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной».
Как можно сделать человека, который любит тебя, счастливым, если сама не любишь его? Самоуверенность юности. Но прозвучали и знаменательные слова, прежде всего по тону: «Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю…» Это как из песни, песни души. Да, именно в этой сфере оба поэта и любили друг друга, только в жизни этого оказывалось мало.
Известны слова Анны Ахматовой, высказанные впоследствии, что тоже нельзя воспринимать буквально, мол, брак ее с Гумилевым был не началом, а «началом конца» их отношений. Так бывает: любовь и дружба юношеских лет слишком самоценны сами по себе, чтобы сохранять свой пыл в браке, да у поэтов. Гумилев еще долго оставался подростком, но не Аня Горенко.
После венчания 25 апреля 1910 года в Киеве в церкви Никольской слободы за Днепром молодожены уехали в Париж, уже привычный для Гумилева, но для Ани – это был ее праздник, ее свобода, начало новой жизни, а муж продолжал грезить Африкой. Сохранились свидетельства, какой ее видели на улицах Парижа:
«Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая… На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером – это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж – поэт Н. С. Гумилев».
В кафе, где собиралась парижская богема и куда Гумилев привел жену, естественно на нее обратили внимание. Она же заметила молодого красавца в желтом вельветовом костюме, с красным шарфом на шее, вместо галстука. Впоследствии Анна Ахматова вспоминала: «Думаю, какой интересный еврей… А он думает, какая интересная француженка…». Здесь всегда находятся общие знакомые. Слово за слово, она не удержалась проявить ее умение читать мысли, что поразило художника. Это был Амедео Модильяни, по ту пору безвестный, бедный художник.
Вскоре по возвращении в Царское Село Николай Гумилев отправился в очередное путешествие в Африку, оставив молодую жену скучать в доме его матери. Впрочем, она жила своей особой жизнью, как и в семье своей, очевидно. Поздно вставала, последней выходила к завтраку и говорила: «Здравствуйте все», чтобы не отвлекаться от своих мыслей.
Всю зиму Модильяни писал ей. Одна из его фраз запомнилась: «Вы во мне как наваждение». Весной она уехала в Париж, кажется, с матерью. О встречах в это время с нищим и непризнанным художником, в судьбу которого поверила едва ли не первая, Анна Ахматова оставила предельно лаконичные воспоминания.
Они таковы, как стихи Ахматовой, что не допускают домыслов, даже тех, якобы рассказанных самой Анной Андреевной впоследствии, допускаю, отшучиваясь, можно как бы наговорить лишнее. А вот пишут, как они (иностранка и нищий художник, у которого не было денег заплатить за шезлонг) сидели на скамейке под его огромным старым зонтом, «тесно прижавшись друг к другу» и читали стихи. У Ахматовой эта ситуация вызвала бы смех. А она просто пишет о теплом летнем дожде и: «… а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи».
«Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, – эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»…
Ясно, почему уцелел, этот рисунок можно было показывать без объяснений, другие представляли «ню», как выяснилось в конце XX века, когда на венецианской выставке были показаны «ню», в частности, с африканскими бусами, по всему, те самые рисунки, какие Анна Ахматова, – решили почему-то, – спрятала, оставила во Франции. У исследователей разыгралось воображение:
«Он рисовал ее в своем неизменно синем блокноте – при отблесках лампы, ночью и под утро, утомленный и умиленный. Она позировала послушно и надевала тяжелые африканские бусы, и заламывала руки над головой («взлетевших рук излом больной»), оправляя прическу и замирая в неподвижности с затекшими руками, и даже становилась в поразившую его позу «женщины – змеи».
Это звучит как явный домысел, даже если и были ночные свидания.
У Анны Ахматовой: «Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами». Бывало, он показывал гостье из России Париж ночью.
«Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа».
Он водил ее в Лувр, пригласил на выставку посмотреть на его скульптуру, «но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями».
Создается впечатление, что между бедным и вдохновенным художником и юной иностранкой, свободной и безбоязненной, все время была дистанция, естественная в их положении, в особенности в их постоянных поисках полного самовыражения в сфере творчества, на высоте их духа.
Доктор Поль Александр, в коллекции которого сохранились рисунки Модильяни и были показаны на выставке в Венеции в 1993 году, писал о художнике: «Когда он был захвачен какой-нибудь фигурой, он лихорадочно, с необыкновенной быстротой рисовал ее при свете свечи, никогда ничего не исправлял, а по десять раз за вечер начинал заново один и тот же рисунок. Изредка он добавлял одну или несколько деталей для создания атмосферы – люстра, свеча в подсвечнике, кот, картина на стене для горизонтали…».
Здесь нет места натурщице, как обычно у других художников, Модильяни носится с образом, конечно, выхваченным из жизни, но преображенным до неузнаваемости. Исследователи, ознакомившись с рисунками Модильяни и вышеприведенным высказыванием коллекционера, тотчас решили: вот у кого были спрятаны рисунки Ахматовой все это время – у доктора Поля Александра! А потом и у его наследников, по-видимому, и выставивших их в Венеции!
А ведь это не выходит – без явных свидетельств, каковых, видимо, нет. Между тем здесь прямое указание на характер работы Модильяни, что подтверждает и слова Анны Андреевны. Модильяни не писал ее с натуры, хотя натура и требовалась, быть может, для отлета фантазии. И рисунков могло быть куда больше, чем 16. Художник мог набрасывать с нее и в разлуке. Вот откуда вспыли рисунки, в которых есть знаки, связанные с Анной Андреевной.
Выясняется также, что в 1963 году на лондонской выставке произведений Модильяни был показан впервые рисунок «Обнаженная с котом», в которой Анна Андреевна узнала бы себя, если бы приехала в Англию не годом позже по приглашению Оксфордского университета, присудившего ей почетную степень доктора. Обнаженная – с ниткой африканских бус, привезенных Гумилевым из Африки, которые понравились и художнику как «дикарское украшение».
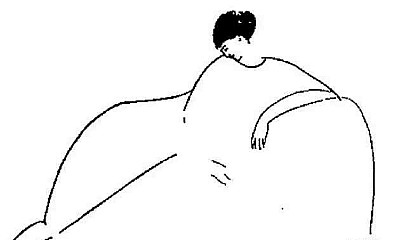
По возвращении из Парижа Анна Андреевна уехала в деревню, где не было ничего примечательного, но у соседей собиралось молодое общество, затевались всякие игры, в которых верховодил Николай Гумилев. В одну из своих двоюродных племянниц, красота которой к вечеру сияла лихорадочным блеском из-за болезни легких, он был влюблен. Анна Андреевна сторонилась общества и ждала из Парижа письма, которое «так и не пришло – никогда не пришло».
Дистанция была, несмотря на ночные и дневные прогулки, несмотря на «ню», если даже юная женщина решила показаться художнику, может быть, и поэтому, – до земного дело не дошло, решались задачи, чисто творческие, на высоте духа. Так и расстались. Иначе – сто раз объяснились бы или перед разлукой. Модильяни продолжал носиться с образом иностранки в сфере поэзии и искусства, так и не сойдя на землю, чтобы объясниться по-мужски, написать письмо. Да, на земле его неустроенность довлела над ним.
А если бы письмо пришло? Как знать, скорее всего Анны Ахматовой не было бы. Но судьба обещает кому-то не счастье, а славу. Судьба позаботилась о том, чтобы ни Анна Ахматова, ни Амедео Модильяни не променяли славу на столь преходящее счастье любви. Ведь они именно в эти 10-11-е годы вдруг состоялись как поэт и художник, какими мы их знаем.
Николай Гумилев в деревне затеял «цирк». Он становился на седло и проделывал самые головоломные упражнения, высота барьера его никогда не останавливала, он не знал страха и не раз летел наземь вместе с лошадью.
Анна Андреевна тоже выступала. Тонкая, стройная, она обладала удивительной гибкостью, могла касаться затылком пяток, что, вероятно, привыкла проделывать с детства, – и без тени улыбки, словно не выходя из сфер, где витала ее страждущая душа.
Нет письма, которое может перевернуть ее жизнь, а тут муж на ее глазах увлекается то одной, то другой и не дождешься его до утра. Уже над кузницей подымается дымок…
Для тебя я долю хмурую,
Долю-муку приняла.
Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?
Рассказывают, Анна Андреевна оживлялась лишь тогда, когда речь заходила о стихах. Не об ее стихах, муж-поэт не признавал женских стихов, и приходилось писать втайне, поскольку всякое заветное жизненное переживание слагалось само собой в песню. Чувство, усиливаясь в его трагизме, разрешалось не слезами, а катарсисом. Ради этого можно вступить в тайный договор, как Фауст с дьяволом, с Музой. Странно, я никогда прежде не обращал внимания на это стихотворение, в высшей степени знаменательное.
Музе
Муза-сестра заглянула в лицо,
Взгляд ее ясен и ярок.
И отняла золотое кольцо,
Первый весенний подарок.
Муза! ты видишь, как счастливы все –
И девушки, женщины, вдовы…
Лучше погибну на колесе,
Только не эти оковы.
Знаю: гадая, и мне обрывать
Нежный цветок маргаритку.
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.
Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.
Завтра мне скажут, смеясь, зеркала:
«Взор твой не ясен, не ярок…»
Тихо отвечу: «Она отняла
Божий подарок».
Мы видим рождение поэта, миросозерцание которого выходит за пределы христианства и смыкается с язычеством, как у Пушкина. Анна Ахматова занимает среди поэтов Серебряного века, даже рядом с Блоком, особое место. Они романтики, лирика Ахматовой – классика, как у Сафо, одно из высших достижений Ренессанса в России. И по характеру и судьбе она столь же трагична, сколь героична, в полном соответствии с ее великой эпохой.
Модильяни пророчески угадал, рисуя с тонкой, как соломинка, иностранки, матрону, осененную славой. Что касается «ню» из ночных фантазий парижского художника, они в ряду всех его созданий – в рисунках, в живописи, в скульптурах, независимо от натуры.
На экземпляре первой книги стихов Анны Ахматовой «Вечер», изданной в 1912 году, можно сказать, Гумилевым, есть дарственная надпись «… Оттого что я люблю тебя. Господи!» Это цитата, не знаю откуда. Но это несомненно признание в любви, запоздалое, может быть, наконец вызревшее чувство до удивления. Анна Ахматова и Гумилев совершили в тот год поездку в Италию, а осенью она родила сына.

Нет, это все не похоже на «начало конца», как впоследствии казалось, она исполнила свою клятву сделать «этого несчастного человека» счастливым, насколько это бывает возможным на свете. Гумилев жил деятельно как поэт и как мужчина, влюбляясь направо и налево, всегда готовый броситься навстречу всякой опасности, как в путешествиях по Африке, с дуэлью, с участием в войне и в событиях Революции, с посмертной славой, которая не связана непосредственно с его стихами, как у Анны Ахматовой.
Это всего лишь отблеск великой эпохи, пусть и кровавый. И Анну Ахматову иные видят лишь в этом отблеске. Но лирика Ахматовой – это 10-е годы XX века, венец Серебряного века.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
«То не лебеди летят…»
«То не лебеди летят…» Слова эти из хорошей и доброй песни о вологодских кружевах и кружевницах, которую поют в наше время на вологодской стороне. «То не лебеди летят над берегом, Не снежинки водят хоровод, То меж пальцев вьется нитка белая, То девчонка кружева
АХМАТОВА АННА АНДРЕЕВНА
АХМАТОВА АННА АНДРЕЕВНА Настоящее имя – Анна Андреевна Горенко(род. в 1889 г. – ум. в 1966 г.) Величайшая русская поэтесса, представительница Серебряного века, известный пушкиновед, переводчик, Почетный доктор Оксфордского университета. Я научила женщин говорить – Но,
АХМАТОВА И ЗОЩЕНКО КАК ЖЕРТВЫ АППАРАТНОЙ ИГРЫ.
АХМАТОВА И ЗОЩЕНКО КАК ЖЕРТВЫ АППАРАТНОЙ ИГРЫ. На сей раз в качестве орудия борьбы была использована рутинная агитпроповская практика периодической директивной порки редакций литературных журналов за публикацию очередных «аполитичных» и написанных в духе
Ахматова Анна Андреевна Настоящая фамилия – Горенко (род. в 1889 г. – ум. в 1966 г.)
Ахматова Анна Андреевна Настоящая фамилия – Горенко (род. в 1889 г. – ум. в 1966 г.) Русская поэтесса. Книги стихов «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini», «Бег времени»; циклы «Тайны ремесла», «Ветер войны», «Северные элегии»; поэмы «Реквием», «Поэма без
Гадкие лебеди
Гадкие лебеди Подобная риторика, помноженная на успех (люди на Типпекану шли и шли, Уния разрасталась), в конце концов начала тревожить Вашингтон, до сих пор особо деятельностью братьев не интересовавшийся. Губернатору было дано распоряжение «не обостряя отношений с
ГУМИЛЁВ
ГУМИЛЁВ У Теофиля Готье есть рассказ, герой которого в компании таких же изысканных и утонченно культурных людей, как он сам, устраивает сеанс гашиша в роскошно убранном старинном отеле. Одурманенный зельем, он попадает в мир видений, и вот что ему грезится: музыка Вебера,
Лебеди Непрядвы
Лебеди Непрядвы Когда венецианские братья Поло в первый раз шли на Восток, к ним присоединился попутчик — итальянский купец Дудже. Он прошел с ними от Судака до Сарая, пробыл там некоторое время, а затем отправился на Русь, всего вернее — во Владимир-на-Клязьме.Неизвестно,
Лебеди на Угреше
Лебеди на Угреше Белого стройного храма святая громада, Дивные башни и светлой ограды аркада, Купы дубов монастырского старого сада Смотрятся в ясное зеркало тихого пруда, Словно в немом ожиданье какого – то чуда. Вдруг покатилась волна от лозинок прибрежных И
Анна Андреевна Ахматова. Настоящая фамилия – Горенко (23.06.1889 – 5.03.1966)
Анна Андреевна Ахматова. Настоящая фамилия – Горенко (23.06.1889 – 5.03.1966) Русская поэтесса.Книги стихов «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini», «Бег времени»; циклы «Тайны ремесла», «Ветер войны», «Северные элегии»; поэмы «Реквием», «Поэма без героя»; статьи о
Анна Ахматова
Анна Ахматова Сохранила и воплотила акместические принципы творчества – классическую ясность стиля, «вещность» образа, духовные национальные основы и европеизм – Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия Горенко; 1889, Большой Фонтан под Одессой – 1966, Домодедово, под
Анна Ахматова
Анна Ахматова «В то время я гостила на земле» Анна Ахматова Судьбой Анны Ахматовой стал ее сын Лев Николаевич Гумилев. Его изуверски изломанная жизнь: три безвинных ареста и четырнадцать лет каторги не просто разорвали сердце матери; лишая свободы Льва Гумилева,
Анна Ахматова
Анна Ахматова Ахматова А. Сочинения. В двух томах. М., 1996.Ардов М., Ардов Б., Баталов А. Легендарная Ордынка. СПб., 1997. 386 с.Бабиченко Д. Как запрещали Ахматову // Свободная мысль. 1991. № 18. С. 65 – 68.Бродский И. Скорбная муза // Юность. 1989. № 6. С. 65 – 68.Виленкин В. В сто первом зеркале.