1868 год 1-й год правления Мэйдзи
1868 год
1-й год правления Мэйдзи
В этом году новогоднего праздника не получилось. 1 января Ёсинобу обвинил Сацума в предательстве и объявил своим вассалам о мобилизации. В первый день нового года было положено начинать только самые хорошие и справедливые дела. Войска Ёсинобу (его собственные, княжеств Айдзу и Кувана) двинулись из Осака в Киото. На подступах к городу, в Тоба и Фусими, завязались бои с императорским войском, состоявшим из дружин Сацума, Тёсю и Тоса. Когда до Сайго Такамори дошла весть о том, что в Тоба начались стычки, он воскликнул: «Один выстрел в Тоба делает меня счастливее, чем приобретение миллиона сторонников!» Одновременно Сайго, который фактически руководил операцией, отдал распоряжение: в случае опасности нарядить Муцухито придворной дамой и доставить его в женском паланкине в безопасное место.
3 января завязался решительный бой. Хотя численность сёгунской армии значительно превышала дружины Сацума и Тёсю (15 тысяч против 5), Ёсинобу потерпел поражение. Скорострельность фитильных ружей сёгунских воинов была в десять раз ниже скорострельности винтовок Спенсера, которыми пользовались самураи из императорского лагеря. Воины Сацума были уже не совсем самураями, привыкшими сражаться поодиночке и не признававшими коллективных действий. Они скорее напоминали европейских солдат, действовали коллективно, были обучены залповому огню. Дух воинов Ёсинобу был подорван тем, что Сацума и Тёсю развернули императорские штандарты, а это означало: они бьются с врагами по приказу императора. Предвидя будущее развитие событий, Ивакура Томоми приказал изготовить такие штандарты еще в прошлом году. И хотя Ёсинобу утверждал, что сражается не против императора, а против Сацума, теперь он предстал перед всеми как враг Муцухито.
Сражение продолжалось четыре дня, совокупные потери обеих сторон составили 500 человек убитыми и полторы тысячи ранеными. Часть сёгунских войск перешла на сторону императора. 6 января, глубокой ночью, Ёсинобу покинул осакский замок, сказав, что отправляется на поле боя. На самом деле он решил бежать в Эдо на принадлежавшем сёгунату пароходе «Кайё-мару». Однако в темноте лодки, на которые погрузились сторонники Ёсинобу, не смогли обнаружить пароход. Ёсинобу пришлось искать пристанища на стоявшем на рейде американском военном корабле. Проведя там ночь, Ёсинобу направился в Эдо на «Кайё-мару». Потерявшие главнокомандующего войска были полностью деморализованы и рассеялись. Впоследствии Ёсинобу утверждал, что покинул своих людей только потому, что не желал сражаться с войсками императора.
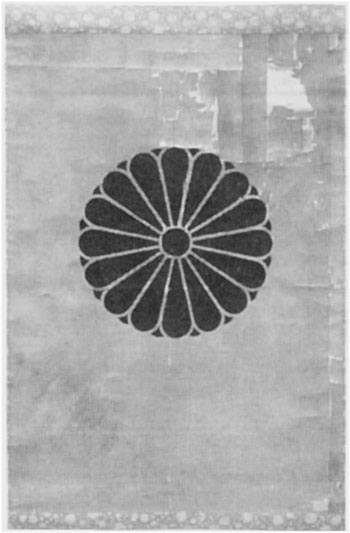
Императорский штандарт
В Эдо Рош попытался уговорить Ёсинобу продолжить борьбу, и тот приказал поначалу готовиться к обороне, но после двухнедельных раздумий отказался от сопротивления. Он распустил верных ему даймё по их владениям. Сам он покинул замок и затворился в храме Канъэйдзи в эдосском районе Уэно. Тем самым Ёсинобу продемонстрировал раскаяние и отсутствие воинственных намерений.
Поражение сёгунской армии в битве при Фусими-Тоба привело к эффекту домино – выпестованная предками Ёсинобу политическая конструкция разваливалась на глазах, большинство князей без лишних разговоров перешло на сторону Киото.
Ёсинобу прекратил сопротивление и не стал протестовать против конфискации родовых земель Токугава в пользу двора, но на нем все равно лежала печать «врага императора». Вдова Иэмоти, принцесса Кадзуномия (теперь она звалась принцессой Тикако), уговорить которую выйти замуж за сёгуна стоило таких трудов, обратилась к императору с просьбой простить Ёсинобу. Она грозила, что покончит жизнь самоубийством, если дом Токугава не будет прощен. Ивакура Томоми потребовал от Ёсинобу письменных извинений. Тот отправил своего посланца в Киото, но извинения показались Ивакура «неискренними». Он вел дело к упразднению сёгуната.
В самый разгар военного противостояния Митфорд писал своему отцу: «И все эти мучения выпали на долю страны только затем, чтобы несколько европейских купцов смогли бы обогатиться. Ничто не может затемнить тот факт, что прибытие иностранцев послужило началом проблем. Японцы нас не приглашали; они были богаты, жили в мире и были по-своему счастливы. Сейчас они обеднели, голодны, платят за все все больше и больше, они находятся накануне гражданской войны, не получив взамен абсолютно ничего. Им остается только выкладывать деньги за оружие, которым они собираются убивать друг друга. Я наблюдал так называемое победоносное шествие цивилизации и в Китае, и в Японии, и нахожу, что это бедствие для обеих стран…»[51]
Несмотря на столь редкостную для дипломата интонацию, осуждавшую действия собственной страны, Митфорд продолжал успешно выполнять порученную ему работу.
Военные действия разворачивались на фоне церемониальной лихорадки, овладевшей двором. 3 января посланцы двора известили гробницы императоров Тэнти, Кокаку, Нинко и Комэй, что Муцухито предстоит наконец-то провести церемонию посвящения во взрослые. Она состоялась 15 января, в полнолуние. Теперь Муцухито имел законное право на взрослую прическу и одежду, теперь он чернил зубы и выщипывал брови. По этому случаю простили 19 придворных, которые подверглись ранее опале. Кроме того, в тот же день посланники иностранных государств получили от имени Муцухито такое уведомление: «Император Японии объявляет правителям иностранных государств и их подданным, что сёгуну Токугава Ёсинобу в соответствии с его просьбой было даровано разрешение вернуть управление [императору]. В связи с этим верховная власть во всех делах – как внутренних, так и внешних – осуществляется отныне Нами. А посему титул „тайкун“, от имени которого заключались договоры, должен быть заменен титулом „император“». Теперь все должны были почувствовать, что Муцухито действительно стал взрослым.
Это уведомление означало не только смену власти, но и ее преемственность: Муцухито признавал те договоры, которые заключил сёгунат и которые так не хотел признавать его отец. Он хотел сказать: европейцам не следует беспокоиться. В городах развесили объявления о том, что проявление недружелюбия по отношению к иностранцам будет караться. Вместе с тем говорилось и об усилении военных приготовлений, которые станут способствовать росту авторитета Японии за рубежом.
Серия указов относительно внешних сношений возвещала о прекращении изоляции Японии. При этом утверждалось, что Комэй всегда заботился об установлении дружественных отношений с иностранными государствами, но из-за сёгунов этого сделать не удалось[52].
Утверждение относительно Комэй, разумеется, ни в коей мере не соответствовало истине. Однако кто, кроме чрезвычайного узкого круга лиц, знал об этом? И потому покойному императору можно было приписать любые намерения. Сёгунат же теперь сделают на многие годы «козлом отпущения». По любому случаю станут утверждать, что из-за его тяжелого наследия дела идут не совсем так, как надо.
Несмотря на признание заключенных сёгунатом международных договоров, обещание дружелюбия и большей открытости, новая политическая элита, точно так же как и старая, на самом деле была настроена по отношению к Западу враждебно. Ивакура Томоми в письме к Сандзё Санэтоми заявлял, что расценивает все западные державы в качестве врагов Японии[53]. Однако обстоятельства заставили правительство на долгое время затаить свои обиды.
Указание вести себя по отношению к иностранцам дружелюбно последовало не зря. 11 января представители иностранных держав, которые спешно обустраивали свой новый сеттльмент в Кобэ, подверглись обстрелу из винтовок, которые воины княжества Бидзэн, известные своими антииностранными настроениями, только что получили из Америки. Самураи еще не успели овладеть новым оружием, пули летели выше цели. Убитых не случилось, был ранен только один американский матрос. Обитателям сеттльмента удалось отстреляться. По их настоянию императорский двор приговорил Таки Дзэнсабуро, отдавшего приказ открыть огонь, совершить харакири. Семь иностранцев, включая Митфорда, присутствовали при ритуальном самоубийстве. Они стали первыми европейцами, которым пришлось наблюдать церемонию, о которой они были столь наслышаны. Описание самоказни, сделанное Митфордом, поражает своим хладнокровием и любовным отношением к деталям.
«Дорогой отец! Прошлым вечером меня послали в качестве официального лица, чтобы наблюдать смертную казнь под названием харакири. Церемония, приказ о проведении которой был отдан самим микадо (императором. – А. М.), началась в 10.30 вечера в храме Сэйфукудзи, штаб-квартире армии Сацума в Хёго. Каждая иностранная миссия прислала своих наблюдателей. Английского посланника представляли Сатов и я.
Нас пригласили последовать вслед за японскими представителями в хондо, или главную залу храма, где и должна была состояться церемония. Это было впечатляющее зрелище: огромная зала с высоким потолком, поддерживаемым темными деревянными столбами. С потолка свисали шикарные золотые светильники и украшения, являющиеся обычной принадлежностью убранства буддийских храмов. Перед высоким алтарем, где пол, покрытый превосходными белыми циновками, был приподнят на три или четыре инча, лежал коврик из ярко-красного войлока. Длинные свечи, поставленные через равные интервалы, отбрасывали неяркий загадочный свет, достаточный лишь для того, чтобы увидеть происходящее. Семеро японцев заняли свои места слева от приподнятой платформы, семеро иностранцев разместились справа. Больше никого не было.
После нескольких секунд напряженного ожидания Таки Дзэнсабуро, крепкий мужчина благородной внешности, 32 лет от роду, вошел в залу; на нем была церемониальная одежда, надеваемая по поводу важных событий – своеобразной формы плечики из конопляной ткани. Его сопровождал кайсяку и три офицера. Следует заметить, что слово „кайсяку“ не соответствует нашему „палачу“. Оно обозначает джентльмена, во многих случаях родственника или друга осужденного; отношения между ними вовсе не те, что между жертвой и палачем – скорее это отношения между главным и второстепенным действующими лицами. В данном случае роль „кайсяку“ выполнял ученик Таки Дзэнсабуро; он был выбран друзьями последнего из своего числа за его искусство владения мечом.
Таки Дзэнсабуро и находившийся слева от него кайсяку медленно подошли к японским свидетелям и поклонились им; затем приблизились к европейцам и поприветствовали их таким же образом, возможно, даже с большим почтением. В обоих случаях на их приветствие последовал церемонный ответ. Медленно и с замечательным достоинством осужденный взошел на платформу, дважды распростерся перед высоким алтарем, уселся на войлочный коврик. Кайсяку присел слева от него. Один из офицеров-помощников вышел вперед с подставкой, похожей на ту, что используют в храмах во время совершения подношений; на ней лежал завернутый в бумагу вакидзаси – короткий японский меч, или кинжал, длиною в девять с половиной инчей, с наконечником и лезвием острым, как бритва. Помощник распростерся и передал кинжал осужденному, который почтительно принял его, поднял на уровень головы обеими руками и затем положил перед собой.
После следующего глубокого поклона Таки Дзэнсабуро, голосом, который выдавал бьющие через край чувства и колебания, ожидаемые от человека, который делает мучительное признание, но с лицом и манерой, в которых не чувствовалось никакого страха, произнес следующее: „Я и только я один, 11 дня прошлого месяца отдал нарушающий закон приказ открыть огонь по иностранцам в Кобэ и повторил его еще раз, когда они попытались спастись бегством. За это преступление я вспарываю себе живот и прошу присутствующих оказать мне честь, наблюдая за этим“.
Поклонившись еще раз, говоривший сбросил верхнюю часть одежды и остался голым по пояс. В соответствии с обычаем он тщательно подоткнул рукава под колени, чтобы не позволить своему телу упасть назад, поскольку благородному японскому джентльмену пристало умирать, падая вперед.
Неспешно, недрогнувшей рукой он взял лежавший перед ним кинжал – он смотрел на него мечтательно, почти любовно; секунду, казалось, он собирался с мыслями в последний раз, потом глубоко вонзил кинжал в левую нижнюю часть живота, медленно повел его в правую сторону и, поворачивая кинжал в ране, слегка подал его наверх. Во время этой ужасающе болезненной операции ни один мускул не дрогнул на его лице. Он вынул кинжал, наклонился вперед и вытянул шею, и тогда чувство боли впервые отразилось на его лице, но он не издал ни звука. В этот момент кайсяку, который все это время находился рядом и зорко наблюдал за каждым движением, вспрыгнул на ноги, задержал на секунду свой меч в воздухе – вспышка, тяжелый отвратительный глухой звук, грохот падения – одним ударом голова была отделена от туловища.
Установилась мертвая тишина, – прерываемая только мерзким звуком крови, извергающейся из обездвиженной кучи перед нами – того, что секунду назад было мужественным рыцарем. Это было чудовищно»[54].
Инцидент в Кобэ не стал последним. 15 февраля в городе Сакаи двадцать самураев из княжества Тоса напали на безоружных французских моряков. Погибло 11 человек – некоторых из них застрелили, некоторых – забили до смерти. Леон Рош потребовал извинений от принца Ямасина (министр иностранных дел) и князя Ямаути Ёдо из Тоса, казни преступников, выплаты 150 тысяч долларов семьям погибших моряков и удаления из открытых портов самураев Тоса. Ямасина и Ямаути согласились выполнить все эти требования. Ямаути Ёдо, которого в это время лечил врач английской миссии, заявил, что это преступление не имеет никакого отношения к истинному самурайскому духу. Двадцать самураев приговорили к совершению харакири. Многие из них оставили предсмертные стихи, в которых воспевали свою доблесть. Ни один из них не раскаялся, некоторые даже в момент самоказни выкрикивали антииностранные лозунги. После того как одиннадцать самураев уже вспороли себе животы, капитан французского корабля и Рош остановили самоказнь. Сатов в очередной раз был недоволен действиями французов: он утверждал, что это не исполнение приговора, а месть по принципу «око за око».
А всего несколькими днями позже, 30 дня второго месяца, император Муцухито должен был дать обещанную еще до кровавого инцидента в Сакаи аудиенцию Рошу, представителю Голландии Полсброеку и Гарри Парксу. Для того чтобы оправдать такую смелость, пришлось вспомнить, что еще в далеком VIII веке японские государи принимали посланцев из Кореи и Китая. Однако правители Японии не встречались с иностранцами уже больше тысячи лет. Ивакура Томоми и князю Фукуи по имени Мацудайра Ёсинага (1828–1890) пришлось убеждать не только самого императора, но и его ближайшее окружение. Особенно сильно протестовала женская половина двора во главе с биологической матерью Муцухито – Накаяма Ёсико. Она даже заявила, что ее сын не может дать аудиенцию ввиду болезни. Ивакура пришлось попросить доктора освидетельствовать Муцухито, и тот признал его абсолютно здоровым.
Сторонникам императора эта аудиенция была намного нужнее, чем иностранным представителям. В эти дни еще не было окончательно ясно, одержат ли императорские войска победу в борьбе с приверженцами сёгуната, а согласие иностранных представителей прибыть на аудиенцию означало признание Муцухито верховным правителем страны. Ивакура Томоми благодарил Англию за то, что она первой признает Муцухито сувереном Японии. Американский, итальянский и прусский посланники приглашение отклонили, сославшись на то, что держат нейтралитет в схватке между сёгуном и императором.
Представители Франции, Голландии и Англии должны были прибыть в Госё в одно и то же время. Однако Паркс опаздывал, и аудиенцию решили начать без него. Около двух часов дня Муцухито появился в тронном зале. В руках у него были меч и яшма – символы его власти, с которыми он никогда не должен был расставаться. Однако иностранцы не видели императора, так как он расположился за занавесками, отделявшими его от посланцев.
Перспектива. В. Крестовский, посетивший дворец Госё в 1881 году, так описывал тронный зал, превращенный к тому времени в подобие музея: он устроен на четырех уровнях, каждый из них соответствует важности занимаемого положения. Четвертая, самая высокая площадка, напоминающая «концертную эстраду», предназначалась для императора. Над ней «из-за высоких боковых ширм, напоминающих кулисы, опущена во всю высоту комнаты широкая зеленая штора, собранная из длинных и тоненьких бамбуковых спиц. За этою-то шторой и помещался микадо во время аудиенции, и, когда он усаживался на свое место… штора медленно поднималась до высоты его груди, но так, что лицо „Внука Солнца“ все-таки оставалось невидимым для простых смертных; сам же он мог созерцать их, как через вуаль, из-за сквозящей шторы»[55].
В тот достопамятный день Сандзё Санэтоми и Накаяма Тадаясу стояли подле императора, а принц Ямасина и Ивакура Томоми вместе с менее знатными придворными находились снаружи занавешенного пространства. Введенный в залу Рош был первым из иностранцев, который слышал голос Муцухито. Император сказал: «Мы рады узнать, что император вашей страны пребывает в добром здравии. Надеемся, что отношения между нашими двумя странами будут еще более сердечными, пусть они будут вечными и неизменными». От имени Наполеона III Рош пожелал Японии процветания, а самому Муцухито – защиты со стороны божеств синто. После того как та же самая процедура была повторена с участием голландца, иностранных представителей угостили чаем со сладостями.
Что же случилось с Парксом? Возглавляемая им процессия, которую сопровождали Накаи Хироси (1838–1894) и Гото Сёдзиро, вовремя покинула храм Тионъин, где остановилась английская делегация. Все 70 англичан ехали верхами, и только Митфорд передвигался в паланкине – его кобыла не ко времени охромела. Позади английской делегации двигалось настоящее войско численностью в полторы-две тысячи человек. Такое мощное сопровождение означало скорее почет, оказываемый Англии, чем реальную возможность защиты. По пути к дворцу на англичан бросились двое террористов. Улица была настолько узкой, что конные английские охранники не смогли пустить в ход свои пики. Но Накаи успел спрыгнуть с коня и ввязался в борьбу с одним из нападавших. Эрнест Сатов продолжает: «Однако он запутался в своих широких штанах и упал на спину. Его соперник уже собрался обезглавить его, но Накаи отвел удар, получив только легкое ранение головы, а затем поразил нападавшего в грудь. Это лишило того сил, и, когда он поворачивался к Накаи спиной, Гото поразил его в плечо; он упал на землю, а вскочивший с земли Накаи снес ему голову»[56].
Второго преступника удалось схватить живым. Правда, Митфорду едва удалось при этом избежать смерти. «Я услышал пистолетные выстрелы, звон мечей, крики „Нападение!“, „Убейте его!“, „Застрелите его!“. Я выпрыгнул из своего паланкина, мне никогда не приходилось выпрыгивать из чего-нибудь с такой быстротой. Я бросился вперед. Улица была покрыта лужами крови, я увидел, как убийца приближается ко мне. Он был ранен, но не слишком серьезно, он был полон решимости. С его клинка капала кровь, лицо кровоточило. Я знал достаточно о японском искусстве владения мечом, чтобы понять – пробовать увернуться от удара не было никакого смысла. Поэтому я поднырнул под гарду и вырвал окровавленный меч из его руки». Однако преступнику удалось вывернуться, он бросился бежать, но был схвачен несколькими минутами позднее. Тем временем сам Митфорд побежал убедиться в том, что Паркс в безопасности. По пути он «споткнулся обо что-то. Это была человеческая голова»[57].
Никто из членов английской депутации не погиб, хотя раненых оказалось около десятка человек. Накаи положил отрубленную голову нападавшего в ведро и отнес его в храм Тионъин. Пойманного преступника по имени Саэгуса Сигэру освидетельствовал английский врач Виллис. Нападавший происходил из самурайского сословия, служил в буддийском храме. Волосы на его голове еще не успели отрасти. Он «выразил свое величайшее раскаяние и попросил, чтобы ему отрубили голову, которая была бы выставлена на всеобщее обозрение, чтобы японский народ узнал о его преступлении»[58].
Саэгуса отправился в Киото, узнав, что там находятся иностранцы, и желая напасть на них – ведь одним своим присутствием они сделали «нечистым» священный императорский город. Из какой они страны, для него не имело значения, он был готов убить любого. Его погибший сообщник оказался деревенским врачом и не принадлежал к самурайскому сословию.
Гарри Паркс на сей раз не настаивал на казни нападавшего, заявив, что его преступление наносит большее оскорбление Муцухито, чем ему самому, а потому японцы вольны поступить с ним согласно своим представлениям о законе. Однако он не хотел повторения печального опыта с убийцами французских моряков, которые восприняли свое харакири за огромную честь. А потому Паркс просил о «настоящей», позорной казни. Саэгуса действительно лишили самурайского звания и приговорили к усекновению головы, причем за два часа до казни сфотографировали. Головы обоих преступников выставили на всеобщее обозрение, а трех их сообщников сослали. Многие жители Киото сочувствовали им на том основании, что допуск иностранцев во дворец императора непременно грозит Земле Богов и самому Муцухито осквернением и неслыханными бедствиями.
Аудиенцию для английской делегации пришлось отложить, Муцухито выразил свое глубочайшее сожаление по поводу случившегося, а храм Тионъин превратился на время в настоящий лазарет, рубашки и простыни пошли на бинты.
Через три дня, 3 марта, Паркс, Митфорд и Сатов снова отправились во дворец. На сей раз английских охранников было меньше – некоторые еще не успели оправиться от ран. Зато двое из них, ехавшие по обе стороны от Паркса, обнажили свои сабли – вещь для Японии немыслимая, поскольку самурай вытаскивал меч из ножен только в одном случае: если он намеревался немедленно пустить его в ход. Однако на сей раз все обошлось без происшествий. Англичан, привыкших к роскоши дворцов европейских и восточных монархов, поразило скромное убранство дворца Муцухито.
Сатова в зал приемов не допустили – ему было нельзя появляться перед Муцухито, так как он не был представлен к английскому двору. Депутации повезло – они стали первыми европейцами, которые увидели японского императора. Муцухито окончательно вышел из тени, в которой его предки пребывали столько веков.
Вот как Митфорд описывает Муцухито: «В центре залы находился балдахин, поддерживаемый четырьмя тонкими, покрытыми черным лаком колоннами, задрапированными белым шелком с красно-черным узором. Под балдахином пребывал юный Микадо, он сидел, вернее, он прислонился спиной к высокому креслу. Позади него сидели на коленях два принца крови, готовые придти ему на помощь. За пределами балдахина, впереди Его Величества сидели два других принца крови.
После того как мы вошли в залу, Сын Неба поднялся и принял наши поклоны. В то время это был высокий юноша с ясными глазами и чистой кожей; его манера держаться была очень благородной, что весьма подходило наследнику династии, которая старше любой монархии на земном шаре. На нем была белая накидка и длинные пузырящиеся штаны из темно-красного шелка, которые волочились по полу наподобие шлейфа у придворной дамы. Его прическа была такой же, как и у его придворных, но ее венчал длинный, жесткий и плоский плюмаж из черной проволочной ткани. Я называю это „плюмажем“ за неимением лучшего слова, но на самом деле он не имел никакого отношения к перьям. Его брови были сбриты и нарисованы высоко на лбу; его щеки были нарумянены, а губы напомажены красным и золотым. Зубы были начернены. Чтобы выглядеть благородно при таком изменении природной [внешности], не требовалось особых усилий, но и отрицать в нем наличие голубой крови было бы невозможно»[59].

Ито Хиробуми (фотография 1867 г.)
К этому весьма выразительному описанию, свидетельствующему о том, что в это время зримый образ императора моделировался в соответствии с понятиями о женственности придворных дам (свободные и длинные одежды, бритые брови, грим, чернение зубов), Митфорд добавляет еще одну примечательную деталь: Муцухито едва шевелил губами, а потому стоявший рядом принц крови должен был повторять его слова погромче, чтобы Ито Хиробуми мог перевести их. Митфорд объясняет это юношеской застенчивостью императора, но на самом деле, разумеется, дело было не только в этом. Император впервые встречался лицом к лицу с иностранцами, но древняя традиция, предписывающая общение с посторонними при помощи посредника, сохранялась в полном объеме. Согласно синтоистским представлениям, божества говорят не сами, но передают свою волю через медиумов (жрецов). Являясь обладателем божественной природы, император должен был поступать точно так же.
Перспектива. Запрет «на голос» был окончательно ликвидирован только 15 августа 1945 года, когда император Хирохито (Сёва) впервые в жизни выступил по радио с заявлением о капитуляции Японии во Второй мировой войне.
Муцухито выразил свое сожаление по поводу произошедшего три дня назад инцидента, на что Паркс галантно отвечал, что милостивое отношение к нему государя заставило его полностью забыть о случившемся. На этом аудиенция была закончена, она длилась всего 15 минут. Аудиенция оказалась знаменательной во многих отношениях. В том числе и в том, что высокие стороны общались через переводчика с английского языка. С этих пор международным языком общения для японского двора становится именно английский. В придворной жизни Европы господствовал французский, но французы долгое время поддерживали не императора, а сёгуна.
Императорские войска шли к Эдо, не встречая никакого сопротивления. Однако это продвижение не было похоже на марш-бросок – путь проходил через многие княжества, в том числе и такие, которые были прямыми вассалами дома Токугава. Всем им следовало разъяснять обстановку, их уговаривали оказать помощь или хотя бы соблюдать нейтралитет. Старые порядки были разрушены, новая дисциплина еще не устоялась.
Для того чтобы перетянуть на свою сторону простолюдинов, было сформировано специальное подразделение «Сэкихотай» («Отряд красной вести»), в который входили крестьяне, торговцы и ронины. Отряду поручили обещать, что на родовых землях Токугава налоги будут снижены наполовину. Однако командиры отряда стали обещать повсеместное снижение налогов. Революционная стихия выходила из-под контроля. Отряд объявили вне закона, десятки его членов были безжалостно казнены без суда и следствия. Власть действовала быстро, не давая народной стихии разгуляться. Жертвовать налогами – это абсурд, ради их сохранения жизнью простолюдинов можно было пренебречь как величиной бесконечно малой. С отрядом обошлись по законам революционного времени, но это время находилось под полным контролем власть предержащих.
Перспектива. Потомкам командира «Отряда красной вести» Сагарака Содзо удалось добиться восстановления его доброго имени в 1928 году. Памятник ему и его десяти подчиненным был установлен в 1930 году[60].
В это время в Эдо шли переговоры о сдаче замка сёгуна войскам под водительством Сайго Такамори. От Ёсинобу требовали, чтобы он сам открыл ворота замка. Сам Муцухито отправился в Осака, который теперь был очищен от сёгунских отрядов.
Муцухито несли в закрытом паланкине, рядом с ним лежало священное зеркало, люди вдоль дороги падали на колени. По дороге он заехал в святилище Хатимана в Ивасимидзу. Всего пять лет назад его отец Комэй молил там богов об изгнании европейцев. А теперь Муцухито просил божеств оказать ему покровительство в борьбе с тем самым Ёсинобу, который в 1863 году отказался принять там меч из рук Комэй. В Осака, с горы Тэмпо, Муцухито впервые увидел море. Впервые в жизни он смог воочию убедиться в том, что оно действительно существует и что стандартный оборот указов, утверждающих, что император является повелителем четырех морей с четырех сторон света, – не просто метафора. Военный корабль «Дэнрю-мару», принадлежавший княжеству Сага, салютовал императору из своих пушек.
13—14 марта состоялась встреча Сайго с высокопоставленным чиновником сёгуната Кацу Кайсю (1823–1899). Сайго был настроен чрезвычайно решительно и считал, что Ёсинобу заслуживает смерти. Гарри Паркс настоятельно советовал достичь компромисса, уверяя, что казнь сёгуна противоречила бы «международным законам». Сайго смягчил свои первоначальные требования. Теперь фамилии Токугава уже не грозили прямые репрессии, Кацу согласился прекратить борьбу и сдать город. Одновременно сёгунат приказал своим студентам в Европе немедленно вернуться на родину. Это было одно из последних распоряжений, отданных сёгунатом. Только один из японских студентов в Петербурге отказался возвратиться в Японию.
Императорская армия, возглавляемая сацумским самураем Сайго Такамори и киотосским аристократом Хасимото Санэяма, 11 апреля заняла Эдо, не встретив никакого сопротивления. Там их почтительно приветствовал новый глава рода Токугава – Ёсиёри. Он был главой старинного рода, но сёгуном он не был. Он не был даже «обычным» князем. Власть полностью перешла в руки сторонников императора.

Кацу Кайсю
Сёгунская династия Токугава прекратила свое существование. От ее имени правили 15 сёгунов. В то же самое время Муцухито был 122-м по счету императором. Для общества, которое ценит традицию, – разница колоссальная. И пусть все первые древние государи с точки зрения современной исторической науки были личностями легендарными, важно то, что люди не считали их таковыми.
При занятии Эдо удалось избежать кровопролития. Но сдача оружия была формальной, многие прямые вассалы прежнего сёгуна не желали признавать нового порядка, то есть гегемонии «предателей» из Сацума и Тёсю, и бежали в Ава. Ушло и семь кораблей сёгунского флота.
На северо-востоке страны началась гражданская война. Главными противниками правительственных войск выступили княжества Айдзу и Сёнай, которые составили коалицию с другими княжествами северо-востока. В коалицию входило 31 княжество. Воины Айдзу во главе со своим князем Мацудайра Катамори раньше охраняли дворец Госё, части Сёнай обеспечивали порядок в Эдо.
Эта гражданская война получила название «войны Босин» (название 1868 г. по 60-летнему циклу). Хотя повстанцы бились против войск Муцухито, их лидеры утверждали, что только они, а не «двурушники» из Сацума и Тёсю по-настоящему верны императорскому делу. Это был типично феодальный строй мысли, когда основой любых поступков является месть и безоговорочная преданность «хозяину». А хозяином теперь был Муцухито. Реставрации сёгуната не требовал никто. Точно так же, как и власти самого Ёсинобу. Со стороны непокорных эта война не имела ни цели, ни будущего.

Воины Сацума перед отправкой на фронт. На ковре выткан герб Сацума

Воины княжества Уэда вместе со своим князем Мацудайра, поддержавшим императора, перед отправкой на фронт
Пока в Эдо шли переговоры, новому правительству в древнем Киото нужно было что-то предпринимать. Следовало успокоить людей и обрисовать перспективы. 14 марта, на следующий день после первой встречи Сайго и Кацу, во дворце Госё состоялась масштабная церемония, на которой присутствовала большая часть политической элиты (принцы, придворные, князья, чиновники). Целью этой церемонии было создание общего для этой элиты политического и идеологического поля. Перед началом церемонии залу обрызгали соленой водой и разбросали рисовые зерна – синтоистский обряд очищения. После того как глава синтоистского придворного ведомства прочел молитву, Муцухито занял свое место на возвышении в северной части залы, – согласно традиционным китайским представлениям, давным-давно усвоенным в Японии, государь является земным воплощением Полярной звезды и потому должен находиться на севере, а его подданные – на юге. Место, где сидел Муцухито, с трех сторон окружали ширмы с изображением четырех времен года – символ того, что именно император обеспечивает правильное чередование сезонов и, таким образом, богатый урожай. Одно то, что Муцухито не был скрыт от присутствующих занавесом, было огромным новшеством. Подавляющее большинство из них видело своего повелителя впервые в жизни. Открыв им свое лицо, Муцухито признал присутствующих своими ближайшими сподвижниками. Заместитель главы правительства Сандзё Санэтоми прочел синтоистскую молитву, призывающую богов Неба и Земли. Затем Муцухито прошествовал к алтарю, устроенному справа по диагонали от его места, поклонился и совершил приношения красной и белой материей (сочетание этих цветов является в синто наиболее чтимым). Затем Санэтоми перед алтарем от имени императора прочел текст «Высочайшей клятвы в пяти статьях». Своим адресатом клятва имела богов.

Церемония «Высочайшей клятвы в пяти статьях»
Статьи «Клятвы», прошедшие несколько этапов редактуры (последний вариант принадлежал кисти Кидо Такаёси), были сформулированы в чрезвычайно абстрактных выражениях, которые поддаются истолкованиям, но плохо поддаются буквальному переводу. Во-первых, Муцухито обещал принимать решения на основе «общественных собраний» и учета мнений общественности. Это положение было призвано успокоить политическую элиту. Понятно, что многие даймё в это время были обеспокоены возможностью возникновения авторитарного правления, а коллегиальность управления действительно почти всегда являлась для японской элиты одним из основных политических принципов. Во-вторых, прокламировался конфуцианский принцип, что и элита и подданные обязаны объединиться в деле управления страной. В-третьих, чинам военным и гражданским, а также простым людям предоставлялось право проявлять личную инициативу. Это положение было направлено на разрушение сословных границ в обществе. В-четвертых, обещалось, что «будут устранены дурные обычаи прошлого», а управление станет основываться на «Пути Неба и Земли», то есть справедливо и по закону. В-пятых, говорилось, что «знания будут обретаться во всем мире» и это должно послужить укреплению императорского трона. То есть данной статьей император провозглашал отказ от политики изоляционизма и подчеркивал образовательный аспект своей программы действий.
Документ получился коротким, риторические фигуры – абстрактными. Это было традицией – указы императора всегда старались формулировать именно таким образом, чтобы оставить простор для исполнителей. Несмотря на полностью изменившуюся к тому времени политику, текстом клятвы козыряли и во время Второй мировой войны, и после ее окончания. В заключительной части документа Мэйдзи поклялся перед «богами Неба и богами Земли» в том, что он будет неукоснительно придерживаться этих пяти принципов, и просил у своей элиты содействия в своих начинаниях.
Прибывшие в Киото князья и их вассалы скрепляли клятву своими подписями, признавая тем самым свое подчиненное положение по отношению к императору и его новому курсу. Высшей же инстанцией, перед которой были ответственны все те, кто поставил свою подпись, выступали синтоистские божества. Клятву подписали 832 человека. Теперь император получил полное право отдавать им приказы. Своими главными советниками Муцухито назначил двух придворных – Сандзё Санэтоми и Ивакура Томоми.
После принесения клятвы Муцухито направил высшим государственным лицам послание, в котором заявил о том, что теперь, в соответствии с древними обычаями, будет самолично управлять страной, заботясь о народе. Только при этом условии страна сможет преодолеть последствия изоляционизма, отбросить устаревшие обычаи, обновиться, заслужить уважение иностранных государств, стать такой же мощной, как гора Фудзи. Это может быть обеспечено только при одном условии: если все подданные отбросят эгоистические заботы о себе и станут печься об общественном благе. Только так может быть обеспечена безопасность Земли Богов[61].
Муцухито и его советники хотели, в частности, сказать: теперь между императором и народом не будет никаких посредников, будь то сёгун Токугава, князья или же канцлер из рода Фудзивара, как то было в период Хэйан. Простые люди, которые раньше были полностью отстранены от принятия решений, теперь вовлекаются в политический процесс. Многоступенчатая система управления отменяется, император превращается в символ единства страны, единения народа и его правительства, без чего невозможно сохранить суверенитет.
Угроза со стороны Запада и неспособность ей противостоять, комплекс неполноценности по отношению к мощным «цивилизованным» странам и решимость его преодолеть стали главными причинами, по которым Япония решилась на модернизацию. Ее первым объектом стал сам император. Он выступал в двух ипостасях: реформатора и приверженца древних устоев. Под последними в это время понимался прежде всего синто. Его древние божества были призваны освящать новый курс нового правительства.
Европейские страны нового времени искали образцы для подражания в Древней Греции и Риме; средневековая Япония чаще всего обращалась в сторону древнего Китая; новая Япония видела преемственность со своим собственным прошлым. Но с прошлым не «ближним», когда в политической жизни доминировали сёгуны, а с прошлым «дальним», под которым понимался миф и древняя история.
Текст «Клятвы» был оглашен перед политической элитой и богами. Народу же предложили для ознакомления пять указов, которые разместили на досках для объявлений, имевшихся в населенных пунктах, – там, где раньше вывешивали приказы сёгуната. Эти доски служили в качестве «средства массовой информации», обеспечивавшего связь между властями и народом. Первые три указа фактически повторяли предписания сёгуната. Они призывали заботиться о родителях, старших и увечных, предупреждали о недопустимости преступлений, запрещали христианство. Еще один указ запрещал покидать места своей прописки, что тоже в полной мере соответствовало политике сёгуната. По-настоящему новым следует считать только последний указ, который объявлял: политика императорского правительства полностью изменилась, установлены отношения с иностранными государствами. А потому всякое недружелюбное действие по отношению к иностранцам будет рассматриваться как преступное.

Пепелище на месте центрального святилища храма Канъэйдзи
На примерах Китая и Индии, а также в результате поражения в Симоносэки японская политическая элита убедилась: сопротивление западным державам в настоящий момент невозможно. Но это вовсе не означало, что эта элита смирилась. Она лишь затаилась, чтобы приступить к модернизации и построению сильной государственности, без которой призывы к мщению оказывались сотрясением воздуха. А сейчас нужно было унять на время жажду «благородной мести» и справиться с внутренними проблемами.
Императорские войска вошли в Эдо без всякого сопротивления, но около тысячи сторонников Ёсинобу засели на холме Уэно – там, где находился сёгун до занятия города правительственными войсками. Ёсинобу там уже не было, но его вассалы все равно не хотели сдаваться. 15 мая две тысячи воинов правительственной армии под предводительством Омура Масудзиро (1824–1868) разгромили их. Это был первый и последний случай, когда в Эдо слышались разрывы снарядов. По холму Уэно стреляли два орудия, пожары уничтожили дотла гигантский буддийский храм Канъэйдзи, где находилась одна из усыпальниц дома Токугава (другая находилась в храме Дзодзёдзи). Теперь в Эдо не осталось никого, кто мог бы оказать вооруженное сопротивление новому правительству. Императорские войска в надежде на поимку мятежников хватали всех подозрительных. Если на теле пойманного оказывалась татуировка, его отпускали без дальнейших расспросов. Свое тело татуировали только простолюдины, которые в политике не участвовали.
Мятежники действовали на свой страх и риск. Ёсинобу не имел к ним никакого отношения. В награду за сговорчивость Ёсинобу 24 мая дому Токугава было определено огромное содержание – 700 тысяч коку риса в год. Потерпев поражение, Ёсинобу не стал совершать харакири. Именно ему Япония в значительной степени обязана тем, что эпоха правления сёгуната закончилась сравнительно бескровно.
Перспектива. Ёсинобу удалился в крошечный городок Нумадзу на побережье залива Суруга (нынешняя префектура Сидзуока), где и провел остаток жизни, работая над усовершенствованием агрокультуры чая, охотясь на кабанов и упражняясь в фотографическом деле. Кроме того, он оказался плодовитым отцом – у него было десять сыновей и одиннадцать дочерей.
В стране царила неразбериха, и на какое-то время прежние запреты пали. В том числе и запрет на критику власти. Бывший сотрудник внешнеполитического ведомства сёгуната Фукути Гэнъитиро приступил к изданию одной из первых японских газет – «Коко симбун» («Мир новостей»). Ему удалось выпустить всего несколько номеров, в которых он, в частности, пророчил, что «клике Сацума-Тёсю» не удастся удержаться у власти. Никогда в истории страны люди с юго-запада не стояли у кормила власти, а потому они обречены и сейчас, – утверждал Фукути. Как и очень многие сторонники сёгуната, он был возмущен: благородный Ёсинобу вернул власть императору, а она оказалась в руках безродных выскочек с юго-запада.
Главного редактора арестовали и поместили в сёгунский замок, где он находился вместе с другими неблагонадежными элементами. Порядок еще не установился, заключенные курили свои трубочки и выпивали. С ними поступали по-революционному: или рубили голову, или отпускали на волю. Фукути повезло и его выпустили. Он пообещал прекратить издание газеты и отдал властям те доски, с которых печатались прошлые выпуски. Такое же требование новое правительство вскоре выдвинуло и по отношению к другим издателям. К осени продолжали свою деятельность только две проправительственные газеты[62]. Имя Фукути осталось в истории, поскольку он оказался первым журналистом, который подвергся репрессиям при новом режиме. Впоследствии его назовут «отцом японской журналистики».
Для сторонников возрождения власти императора в японской истории не существовало периода более «правильного», чем VIII–XII века (эпохи Нара и Хэйан). Это время было достаточно нестабильным, дворцовые заговоры следовали один за другим (это в особенности верно для VIII в., когда большинство правителей были женщинами, выбираемыми в качестве компромиссных фигур), к IX веку род Фудзивара уже начинал подминать под себя императоров. Но для поборников монархии важнее было другое: согласно тогдашнему законодательству, император являлся главной фигурой управленческого процесса, а чиновники являлись лишь передаточными механизмами для исполнения высочайшей воли. Поэтому решили «восстановить» название главного управленческого органа того времени: Палату большого государственного совета (Дадзёкан). Дадзёкан существовал при императорском дворе и во времена Токугава, но никакими реальными полномочиями не обладал.
Хотя название Дадзёкан было старым, его внутренняя структура сильно отличалась от древних установлений. Достаточно сказать, что в его составе были представлены три ветви власти: законодательная (Гисэйкан), исполнительная (Гёсэйкан) и судебная (Кэйхокан). Сама идея о разделении ветвей власти была заимствована из Америки. В то время многие наивно полагали, что Америка может послужить моделью для политического устройства Японии. Надо ли говорить, что они глубоко ошибались. Так, известный обществовед Като Хироюки (1838–1918) совершенно серьезно утверждал об органическом сходстве Японии с Америкой на том лишь основании, что в Америке есть правительства штатов, а в Японии есть князья с их советами старейшин. При таком понимании не стоит удивляться тому, что заимствование разделения властей не было системным. Названия ветвей были, но при этом принцип их независимости в расчет не принимался. Согласно распоряжению о создании Дадзёкан, именно ему принадлежала власть в Поднебесной. Поднебесной, которой управляет наследственный монарх. Идея выборности не находила в Японии достаточного количества сторонников.
Была восстановлена и Палата небесных и земных божеств (Дзингикан), впервые созданная еще в VIII веке. Теперь под ее наблюдением находились все святилища, жрецы и отправляемые ими культы. При этом главным жрецом синто считался сам император. Идеологи нового режима утверждали, что в древности управление осуществлялось с помощью ритуала, что император совмещал в себе распорядительные и жреческие функции (сайсэй итти). А потому и ныне следует устроить жизнь именно таким образом. До осуществления этого идеала оставалось еще далеко, но движение к нему уже началось. В качестве первого шага уже 28 марта было обнародовано распоряжение о запрете отправления в синтоистских святилищах буддийских культов.
Имелось в виду, что стержнем официальной идеологии следует сделать синто. При Токугава такую роль в значительной степени обеспечивал буддизм. Все японцы без исключения находились в его власти, поскольку буддийским монахам удалось монополизировать отправление похоронного ритуала. Буддийские храмы выполняли и роль передового отряда борьбы с христианством. Отправляясь в путешествие, нужно было получить справку из храма, что ты не являешься адептом этого «ужасного» вероучения. Именно монахи составляли списки жителей, храмы являлись разновидностью государственных учреждений.
Теперь людям сказали, что нужно относиться к иностранцам (прежде всего европейцам) терпимо, хотя запрет на принятие христианства по-прежнему сохранялся. Именно христианство рассматривалось как наиболее опасный элемент, который грозит размыванием духовных основ. Все европейцы, с которыми имели дело японцы, были христианами. Что можно было противопоставить христианству? Ответ напрашивался сам собой: свою религию.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
1875 год 8-й год правления Мэйдзи
1875 год 8-й год правления Мэйдзи В январе правительство приказало компании «Мицубиси», в пользовании которой находились закупленные в прошлом году пароходы, открыть линию Иокогама – Шанхай. Это была первая международная линия, обслуживаемая японской компанией. До этого
1877 год 10-й год правления Мэйдзи
1877 год 10-й год правления Мэйдзи Государственные расходы существенно превышали доходы, инфляция набирала обороты, продукция земледельцев дорожала, но дорожало и многое из того, что было нужно крестьянам. Росла и производительность труда. Поэтому довольно скоро размер
1879 год 12-й год правления Мэйдзи
1879 год 12-й год правления Мэйдзи В январе главный инспектор полицейского управления Кавадзи Тосиёси (1834–1879), считающийся «отцом-основателем» японской полиции, подал докладную записку, в которой он ратовал за возрождение искусства фехтования мечом (кэндзюцу). Во время
1880 год 13-й год правления Мэйдзи
1880 год 13-й год правления Мэйдзи 30 марта было объявлено, что в июне император собирается посетить префектуры Яманаси и Миэ, а также город Киото. Пожалуй, это была первая поездка Мэйдзи, которая вызвала дискуссию в прессе. В Японии этого времени фактически отсутствовала
1881 год 14-й год правления Мэйдзи
1881 год 14-й год правления Мэйдзи Для Мэйдзи этот год выдался хлопотным. Ему пришлось присутствовать на 66 заседаниях кабинета министров. Заседания начинались в 10 утра, Мэйдзи обычно уходил в 12, когда наступало время обеда. Если в прошлом году он занимался верховой ездой 144
1886 год 19-й год правления Мэйдзи
1886 год 19-й год правления Мэйдзи В феврале Вильгельму I исполнилось 90 лет. Сайондзи Кинмоти, японский посланник в Австрии, направил Ито Хиробуми письмо, в котором утверждал, что настал подходящий момент для путешествия Мэйдзи за границу. Ни один японский император даже не
1888 год 21-й год правления Мэйдзи
1888 год 21-й год правления Мэйдзи В начале года группа молодых людей образовала общество «Сэйкёся» («Общество политического обучения»), которое приступило к изданию журнала «Нихондзин» («Японцы»). Его тут же признали идеологическим соперником «Друга народа». Журнал
1889 год 22-й год правления Мэйдзи
1889 год 22-й год правления Мэйдзи 9 января Мэйдзи распорядился о переносе синтоистских святилищ из своего временного дворца в новый. Официальный переезд состоялся 11 января. Помимо Мэйдзи с супругой, в процессии находились принцы крови, члены правительства и другие
1890 год 23-й год правления Мэйдзи
1890 год 23-й год правления Мэйдзи В прошлом году было наконец-то закончено строительство железной дороги между восточной и западной столицами, и теперь путь от Токио до Киото занимал всего 20 часов. 28 марта Мэйдзи прибыл из Токио в Нагоя по этой ветке. С развитием
1891 год 24-й год правления Мэйдзи
1891 год 24-й год правления Мэйдзи В начале года разразилась жестокая эпидемия гриппа. Сам Мэйдзи находился на постельном режиме 40 дней. Эпидемия унесла жизни людей из ближайшего окружения императора. 22 января скончался Мотода Накадзанэ, который за время двадцатилетней
1892 год 25-й год правления Мэйдзи
1892 год 25-й год правления Мэйдзи В феврале состоялись новые выборы в нижнюю палату. Правительство было раздражено несговорчивостью парламента и на сей раз постаралось сделать все, чтобы его сторонники победили. В ходе предвыборной кампании в столкновениях с полицией
1893 год 26-й год правления Мэйдзи
1893 год 26-й год правления Мэйдзи 28 января в городе Саката префектуры Ямагата местное высшее общество решило потешить свою душу. На втором этаже ресторана «Сомая» собрались богатеи, члены префектурального и городского собраний. Они вообразили, что находятся во дворце
1894 год 27-й год правления Мэйдзи
1894 год 27-й год правления Мэйдзи Иностранцам, между тем, жить в Японии становилось все неприятнее. Националистические настроения распространялись все шире, газеты, общественность, обе палаты парламента требовали от правительства «независимой внешней политики». И это в
1895 год 28-й год правления Мэйдзи
1895 год 28-й год правления Мэйдзи 19 марта в Хиросиму наконец-то приехала императрица. Мэйдзи не видел ее с тех пор, как в сентябре прошлого года покинул Токио. Харуко привезла с собой целую свиту придворных дам, включая любимых наложниц императора – Тигуса Котоко и Сонно
1907 год 40-й год правления Мэйдзи
1907 год 40-й год правления Мэйдзи Год был юбилейный – Мэйдзи взошел на трон 40 лет назад. Многие полагали, что 40 лет исполнилось и новой Японии. В стране никогда не праздновали свержение сёгуната, однако разрыв между Японией «старой» и «новой» все-таки ощущался. «Новая
1912 год 45-й год правления Мэйдзи. 1-й год правления Тайсё
1912 год 45-й год правления Мэйдзи. 1-й год правления Тайсё В январе с берега моря Росса на двух собачьих упряжках три члена экспедиции, возглавляемой Сирасэ Нобу (1861–1946), направились на покорение Южного полюса. Они смогли пройти всего 283 км, но им все-таки удалось преодолеть