1740 год. Как погиб Волынский
1740 год. Как погиб Волынский
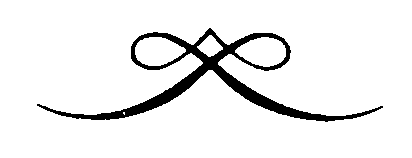
Имя Артемия Петровича Волынского общеизвестно. На протяжении многих десятилетий считается, что роковым для него, кабинет-министра, обер-егермейстера императрицы и главы Конюшенной канцелярии, стал проект задуманных им реформ, обсуждавшийся в кругу близких друзей – «конфидентов» – осенью 1739 – зимой 1740 года. Якобы фаворит царицы Анны Иоанновны, герцог Курляндский Эрнст-Иоганн Бирон и вице-канцлер Андрей Иванович Остерман воспользовались прожектерством своего политического оппонента, чтобы опорочить его в глазах государыни и безжалостно расправиться с ним.
Однако, если внимательно прочитать не помещенные в сборниках и журналах отрывки и выжимки из документов, посвященных процессу Волынского, а подлинные следственные дела из фондов РГАД А, включая факты, опущенные или незамеченные публикаторами, то становится очевидным, что не проекты привели к гибели знаменитого кабинет-министра, а иные обстоятельства, поистине удивительные и в чем-то уникальные.
* * *
Вечером 4 февраля 1740 года Артемий Петрович Волынский присутствовал на одной из последних репетиций маскарадной процессии, которой предстояло удивить императрицу и петербуржцев через два дня, во время шутовской свадьбы Квасника – князя М. А. Голицына. Дело происходило на Слоновом дворе, рядом с Фонтанкой и Летним садом. Кабинет-министр, отвечавший за организацию торжества, придирчиво наблюдал за передвижениями делегаций разных народов – малороссов, татар, самоедов, киргизов и т. д., разглядывал их причудливые костюмы и интересовался готовностью к церемонии экипажей – саней, запряженных волами, свиньями, козами, собаками или оленями. Особенного внимания заслуживал слон – подарок персидского посла. На нем собирались привезти новобрачных к выстроенному прямо под окнами императорского Зимнего дворца дому из чистого невского льда.
Вельможу явно увлекло увиденное, почему он с большим неудовольствием оторвался от зрелища и посмотрел на того, кто посмел обратиться к нему в такой момент с какой-то жалобой. Недовольство мгновенно обернулось гневом, когда Артемий Петрович узнал в дерзкой личности Василия Кирилловича Тредиаковского, секретаря Академии наук, придворного рифмоплета и креатуру обер-шталмейстера Александра Борисовича Куракина, старого недруга Волынского. Кабинет-министр даже не потрудился выслушать стихотворца. С размаху вдарил кулаком по уху пиита, а другим – в глаз. Затем, не давая опомниться, повторил «науку», примолвив: «Ну что, каково оно бездельничать?!».
Стоявший тут же кадет Криницын, сопровождавший несчастного, не преминул воспользоваться благоприятной оказией. Ведь Василий Кириллович намеревался наябедничать министру именно на него. Причем за сущий пустяк. Юноша, приехав к Тредиаковскому, решил поважничать. Громко объявил хозяину дома, что тот немедленно вызывается в Кабинет Ее Императорского Величества, хотя в действительности поэта ожидали не в правительственном апартаменте, а в потешном. Правда, посылал за ним сам кабинет-министр А. П. Волынский, первый любимец государыни после светлейшего герцога Курляндского, Иоганна-Эрнста Бирона. Однако Тредиаковский воодушевления Криницына не оценил, зато насмерть перепугался. В сани сел «в великом трепетании». Успокоился лишь после уверений кадета в том, что едут они на Слоновый двор. Успокоился и стал укорять «мальчишку» за шалость, грозя донести о ней прямо кабинет-министру. «Мальчишка», попререкавшись, попросил прощения. Тем не менее академический секретарь пожелал уведомить Волынского о проступке кадета. Но в итоге получил от обоих – и от Волынского, и от Криницына, которому сановник велел отлупить спутника за напрасную обиду. Только потом Артемий Петрович, вспомнив, за какой надобностью приглашал поэта, отправил его к архитектору Еропкину, крутившемуся где-то поблизости. Петр Михайлович и известил бедолагу о главной задаче – сочинении к «дурацкой свадбе» дурацких виршей. Задачу Василий Кириллович исполнил. Публичного же оскорбления и битья позабыть не смог. Вздумал пойти к Бирону за справедливой сатисфакцией. Утром во вторник 5 февраля в передней герцога и произошла встреча, ставшая для Волынского роковой.
Видно, недаром в народе говорят, что гордыня – большой грех. А за грехи рано или поздно расплачивается каждый. Увы, Волынский с юных лет кичился своими аристократическими корнями и родословной, свысока взирал на тех, кто служил в маленьких чинах, и презирал беспородных выскочек. Легко догадаться, кого при подобном мировоззрении заносчивый боярин люто ненавидел – холопствующих шутов, высмеивающих ради забавы патрона все и всех, в том числе и аристократическую спесь. Артемий Петрович просто терял самообладание, если особы данного сорта попадались ему в руки. На снисхождение, тем более на прощение, рассчитывать не стоило. Барин отводил душу до конца, и едва ли кому из «дураков» повезло после экзекуции остаться неизувеченным. К примеру, над мичманом Егором Мещерским, паяцем генерал-поручика и гвардии майора Михаила Афанасьевича Матюшкина, Волынский измывался около суток – в течение 17 и 18 декабря 1723 года. Избив и заперев на ночь в караульной, в ту пору астраханский губернатор усадил на рассвете пленника «на деревянную кобылу» и, привязяв «к обеим… ногам по пудовой железной гире и по живой сабаке задними ногами», продержал на ней целых два часа. Затем «пригвоздил» мичмана «голым телом» к обсыпанному солью льду и не позволял подняться с час.
Понятно, какие чувства господин Волынский начал питать к первому российскому поэту Василию Тредиаковскому, написавшему в угоду А. Б. Куракину по адресу самолюбивого соперника обер-шталмейстера несколько ядовитых эпиграмм. Кабинет-министр отныне относился к стихотворцу не иначе, как к штатному насмешнику, «дураку» руководителя царской конюшни. А с «дураком», то есть, по мнению Артемия Петровича, с «непотребным человеком», можно было и не церемониться. Вот с Тредиаковским февральским вечером на Слоновом дворе никто и не церемонился. Шута наградили зуботычинами соответственно его шутовскому званию. О том, что Тредиаковский к разряду шутов себя не причислял, вельможа, естественно, не помыслил. Оттого и изумился до крайности наглости «дурака», явившегося к герцогу Курляндскому, несомненно, чтобы пожаловаться на своею обидчика. В воображении надменного аристократа сразу же возникла картинка: секретарь Тредиаковский бьет челом Бирону на министра Волынского, и Бирон, заступаясь за челобитчика, тут же при всех предлагает Волынскому извиниться. Снести такое унижение гордый нрав родовитой персоны никак не мог. Позорную сцену надлежало предотвратить любым путем, и сановник, отбросив в сторону приличия, одержимый одной идеей, атаковал ненавистного шута первым.
Пользуясь тем, что Бирон замешкался с выходом, он подошел к Тредиаковскому, спросил о цели визита, затем ударил промолчавшего поэта по щекам, схватил за шкирку и вытолкнул вон из покоя, приказав ездовому сержанту отвезти наглеца «в камисию» под арест. Собравшихся в зале посетителей, конечно же, шокировало случившееся. Впрочем, образумить и остановить Волынского они не пытались. Слишком высокий ранг тот имел. Посему аудиенцию у Бирона скандал не омрачил. Но по окончании приема герцогу, безусловно, доложили о неучтивости кабинет-министра, вынудив Светлейшего хорошенько призадуматься. Волынский же в это время отводил душу в здании главной полиции, где размещался штаб «Машкерадной» комиссии. Подчиненного Корфа и Шумахера солдаты нещадно били палками в присутствии шефа, приговаривавшего: «Будешь ли на меня еще жаловатца и песенки сочинять?!» Избитая до бесчувствия жертва ночь провела здесь же. В среду ее не терзали, ибо в среду 6 февраля 1740 года она в маскарадном платье и в маске декламировала в Манеже (на Адмиралтейском лугу у Зимнего дворца), где праздновалась свадьба Квасника, собственные вирши. С торжества несчастного поэта вновь вернули под караул. Только утром 7 февраля Тредиаковский обрел свободу. Правда, перед тем в особняке Волынского на Большой Морской улице хозяин дома распорядился закрепить преподанный накануне урок добавочными десятью ударами палки и пообещал в следующий раз более жестокую кару{76}. Однако следующего раза быть уже не могло. Министр, истязая Василия Кирилловича, даже не подозревал, что в минувший вторник предпочел унизительному покаянию в царском дворце мучительную смерть на столичном Сытном рынке…
* * *
Герцог Курляндский посвятил не час и не два размышлению над тем, что же означал демарш третьего кабинет-министра в аудиенц-зале императорского Зимнего дворца. Неужели это – демонстрация силы?! Растущая месяц от месяца симпатия государыни к Волынскому свидетельствовала в пользу такого вывода. Иное объяснение – нервный срыв – выглядело не очень убедительно, учитывая место происшествия – резиденцию монарха. Хотя Артемий Петрович обладал на редкость импульсивным и необузданным характером, все же с трудом верилось в то, что он способен из-за каприза нарушить в жилище Анны Иоанновны нормы придворного этикета. Поневоле Бирону приходилось выбирать из двух зол наименьшее: либо пассивно уповать на «авось обойдется», либо предпринять что-то решительное, сыграв на опережение.
Судя по всему, фаворит Анны Иоанновны чего-то не учел, рекомендуя императрице весной 1738 года А. П. Волынского в качестве кандидата на образовавшуюся после кончины П. И. Ягужинского вакансию – пост третьего кабинет-министра (первый – А. М. Черкасский, второй – А. И. Остерман). Герцог тогда оценил независимость и энергичность обер-егермейстера (с 3 февраля 1736 года), возглавлявшего к тому же Конюшенную канцелярию, не боявшегося идти на конфликт и отважно пикировавшегося с князем А. Б. Куракиным, шефом Придворной конюшенной конторы, от которой 14 мая 1736 года и отпочковалась новая структура, координировавшая деятельность казенных конских заводов. Куракин возненавидел строптивого и неуживчивого коллегу, стремившегося к абсолютной самостоятельности. Бирону же сия манера поведения весьма приглянулась. Ему как раз требовался упрямый вечный спорщик в Кабинете министров, дабы гасить политическую активность хитрого вице-канцлера А. И. Остермана. Поэтому 3 апреля 1738 года Волынский и удостоился важной должности{77}.
Но герцог ошибся, и ошибся не в Артемии Петровиче, а в Андрее Ивановиче. Волынский полностью оправдал ожидания Светлейшего, дразня и провоцируя на ссору вице-канцлера по поводу и без повода. А вот реакция Остермана оказалась необычной. Немец уклонился от дуэли и добровольно уступил лидерство бойкому сопернику. В результате Кабинет не обзавелся нужным Бирону равновесием, зато Волынский в кратчайший срок и без особых проблем стал официальным докладчиком от правительства при императрице. И, что хуже всего, царице понравилось общаться с ним, министром толковым, галантным, инициативным. Фаворит с тревогой замечал, насколько быстро складывались дружеские отношения между его протеже и его фактической супругой. Конкурент Остермана на глазах превращался в конкурента Бирона, не на альковном фронте, разумеется, а на политическом.
Опасность того, что герцога в один прекрасный день разжалуют из главы русского правительства в русское подобие заграничного принца-консорта, все больше и больше волновала некоронованного короля России. В июле 1739 года он не постеснялся проверить на прочность расположение Ее Величества к Волынскому, увы, с неутешительным для себя финалом. Князь Куракин подговорил трех конезаводчиков, уволенных директором Конюшенной канцелярии 11 декабря 1738 года за профессиональное «неискусство», обратиться за милостью и судом к государыне. Та челобитную Кишкеля-отца, Кишкеля-сына и зятя первого – Людвига (двое смотрели за конюшнями в Хорошево, третий – в Пахрино) отдала Волынскому, велев написать собственную версию событий. Кабинет-министр бумагу подготовил, включив в текст помимо сентенций о нерадивости и плутовстве жадного до казенных денег семейства намеки на неких интриганов, манипулирующих ропотом недовольных. К документу прилагались тезисы о том, «какие притворствы и вымыслы употребляемы бывают» при дворах монархов и в чем состоят принципы «безсовестной политики». Перечень вкупе с ответом позволял сразу же угадать, в кого метил Артемий Петрович. В Остермана, конечно же. Лица, успевшие ознакомиться с опусом царского докладчика (А. М. Черкасский, К. Л. Менгден, И. Х. Эйхлер, И. Г. Лесток, К. А. Шемберг), тут же называли имя главного интригана империи.
Бирон тоже прочитал записку в немецком переводе В. Е. Ададурова. Но внимание обратил не на критические стрелы в вице-канцлера, а на эпилог с «поучениями». Герцог Курляндский хорошо знал нрав «женушки», не любившей выслушивать нотаций от кого-либо, и было интересно посмотреть, какой отклик найдут у царицы тезисы ее нового друга. В общем, Бирон одобрил затею Волынского, который тогда же в Петергофе и преподнес монархине разоблачение остермановых козней. Индикатор сработал как нельзя лучше, хотя и не так, как мечталось Светлейшему. Анна Иоанновна не разгневалась на «учителя». Всего лишь пожурила, посетовав не без досады: мол, ты письмо подаешь, «якобы [для] моладых лет государю»{78}.
Тем инцидент и завершился. Артемий Петрович не угодил в опалу. Влияние министра нисколько не уменьшилось. Императрица по-прежнему с удовольствием встречалась с ним и, более того, благословила на проработку целого ряда реформ – военной (сокращение армии), образовательной (поддержка государством обучения дворян в европейских странах, а священников – в специальных академиях), церковной (поощрение службы дворян в духовном звании), экономической (упорядочение налоговых и таможенных сборов), кодификации законов («о розобрании указов, которые один другому противны»). Центральным являлся проект об устройстве правительства.
По свидетельству Ф. Соймонова, на первых порах Волынский намеревался реорганизовать Кабинет, учредив на базе или под крылом старой структуры две экспедиции под председательством двух секретарей («о разделении оных в Кабинете дел на две експедиции дву[м] секретарям»). Вероятно, Артемий Петрович планировал уладить размолвки с Остерманом посредством раздела сфер компетенции. Вице-канцлеру поручался бы Иностранный департамент, обер-егермейстеру – Внутренний. Однако позднее реформатор, возможно, памятуя о склоках с А. Б. Куракиным, взял на вооружение вариант радикальный – замену Кабинета Сенатом, численно умноженным за счет дополнительно назначенных членов. Друзей, остерегавшихся повторения истории с Верховным Тайным Советом, министр успокаивал гвардейским аргументом: да не переживайте вы, «буде Сенат усилитца, то у Ея Величества в руках гвардия есть».
Сочинение проектов под общим титлом «О поправлении внутренных государственных дел» интенсивно и успешно шло с осени 1739 года. Постепенно в творческий процесс вовлекались приятели, соратники, знакомые. Генерал-крикс-комиссар Федор Соймонов первым проконсультировал предприимчивого сановника. Далее черед отредактировать черновики выпал сотруднику Генерал-Берг-Директориума (Берг-коллегии) Андрею Хрущеву. Архитектор Петр Еропкин высказал мнение о грандиозных замыслах в рождественские дни. Параллельно Волынский беседовал о том же с советниками Александром Нарышкиным, Василием Новосильцевым, Платоном Мусиным-Пушкиным, князем Яковом Шаховским, контр-адмиралом Захаром Мишуковым, прокурором Адмиралтейской коллегии Никитой Желябужским, гвардии офицерами Василием Чичериным и Федором Ушаковым, секретарем Иностранной коллегии Иваном Судой и личным секретарем государыни Иваном Эйхлером. А еще надеялся прозондировать точку зрения Антиоха Кантемира, российского посла во Франции. Примечательно, что акты преобразований гражданского характера инициатор объединил в один пакет, а новый военный штат рассчитывался обособленно сенатскими секретарями Петром Ижориным и Василием Демидовым. Кроме того, Артемий Петрович решил снабдить главный документ, во-первых, пространной преамбулой о развитии российского государства со времен Рюрика до воцарения Романовых и вплоть до краха «мнимой републики Долгоруковых», во-вторых, обращением к императрице с обоснованием предлагавшейся на высочайшее утверждение программы реформ{79}.
Понятно, как нервничал Бирон, отслеживая новости, связанные с творческой лихорадкой, охватившей кружок Волынского. Он ясно видел, к чему все клонится, – к тому, что Анна Иоанновна осуществлять намеченные мероприятия доверит автору проекта.
При этом внакладе останется не Остерман, курировавший внешнюю политику империи, которой реформаторский зуд не коснется, а нынешний глава правительства, то бишь сам Бирон. Ему просто придется уйти в тень, когда государыня выдаст прожектеру карт-бланш на реализацию им задуманного. Правда, в отношениях с фаворитом Артемий Петрович вел себя подчеркнуто корректно, почему шанс на компромисс (Волынский командует реформаторским блоком правительства, Бирон – правительством в целом) еще сохранялся при том, что ситуация уже балансировала на грани. Ведь до дня «X» оставалось совсем немного.
Между тем ни императрица, ни, в первую очередь, Волынский, урегулировать на ранней стадии назревавший конфликт не торопились, и, похоже, герцог тщетно надеялся на диалог со своим выдвиженцем. Гордый русский аристократ жертвовать личными амбициями во имя дела не умел. В итоге напряжение в Зимнем дворце, невзирая на предсвадебные хлопоты, потихоньку росло и в декабре 1739 года, и в январе 1740 года. В феврале медленное нагнетание политической атмосферы продолжилось бы, не выгони Волынский Тредиаковского из передней светлейшего герцога. Для Бирона учиненный в его палатах, на виду у всех мордобой послужил знаком безусловного нежелания кабинет-министра заключать с ним союз. Прозвучавшие вечером 5 февраля дежурные извинения ничего не значили, ибо вслед за ними Артемий Петрович не пригласил герцога к переговорам о наболевшем, и теперь курляндец должен был или смириться с поражением, или защищаться. Фаворит предпочел ретираде поединок и, если промешкал с контратакой, то с неделю, не больше – до окончания длившихся с 14 по 17 февраля празднеств в честь подписания в Белграде русско-турецкого трактата, положившего конец четырехлетней войне России с Османской империей.
* * *
Мы не знаем, когда именно Анне Иоанновне довелось прочитать жалобу Бирона. Ориентировочно на исходе февраля или в первых числах марта 1740 года. Зато можно с уверенностью говорить о том, что первый выстрел светлейшего герцога обернулся промахом. Достучаться до августейшего сердца ему не удалось. Императрица не сочла убедительными аргументы фаворита, считавшего, будто Волынский тщится низвергнуть возлюбленного государыни, что в «петергофском письме» речь идет о нем, Бироне, а не об Остермане, и что случай с Тредиаковским – «первейший пример» враждебности кабинет-министра к обер-камергеру. Ее Величество списала придирчивость его светлости на утомленность от праздничных забав да на разыгравшееся сверх меры воображение, и, разумеется, поспешила успокоить милого друга, призвав на помощь вице-канцлера.
Царица попросила Андрея Ивановича изложить на бумаге собственное мнение о событиях в Петергофе в июле 1739 года. Остерман пожелание исполнил, начертав: «Без сумнения, он, [Волынский], чрез то писмо болше меня повредить и дела мои помрачить искал…» Со столь категоричным утверждением самого хитрого и умного царедворца империи спорить не имело смысла, и Бирон неохотно смирился с крахом первой атаки на соперника. А самодержица между тем 6 марта 1740 года поторопила Штатс-контору с выдачей Артемию Петровичу ранее пожалованных 20 тысяч рублей, дабы тот, в свою очередь, не разволновался, прослышав о нервном срыве герцога Курляндского. Конфликтная ситуация благополучно разрешилась, и жизнь при русском Дворе вошла в обычную колею. До конца марта. Пока разочарованный Бирон не обнаружил новый повод для нападения на кабинет-министра{80}.
13 февраля 1740 года торжества мира с Турцией освободили из-под караула секретаря Военной коллегии Андрея Яковлева. Впрочем, секретарем Военной коллегии Яковлев служил менее пяти месяцев, с 21 сентября 1739 года, а до того около четырех лет трудился в том же звании в императорском Кабинете. Однако с приходом в высший орган А. П. Волынского фортуна отвернулась от чиновника. Преемник Ягужинского сразу же невзлюбил его и спустя год добился перевода на менее престижное место. Опала этим не завершилась. 11 октября 1739 года за нерадение и прогулы Яковлева взяли под «рабочий» арест, то есть обязали сидеть с утра до ночи в коллегии, корпеть над документами и общаться с посетителями под надзором солдат.
Понятно, какие чувства питал к гонителю господин секретарь, и в какое грозное оружие униженный и оскорбленный, ведавший многое о кабинетной деятельности Волынского, мог превратиться, заинтересуйся им курляндский герцог. К несчастью для русского боярина, Иоганн-Эрнст Бирон Яковлевым заинтересовался и, похоже, не преминул встретиться с ним. Контакт вельможи с простым смертным дал нужный эффект. Исповедь клерка о порядках внутри Кабинета в пересказе фаворита произвела впечатление на Анну Иоанновну. Императрица согласилась ознакомиться с письменным заявлением секретаря, которого Бирон сразу же отправил сочинять челобитную.
Государыня же в первый момент растерялась. Как ей отреагировать на обвинения герцога? Вдруг они вымышленные?! А если правдивы… 1 или 2 апреля царица позвала к себе главу Тайной канцелярии А. И. Ушакова, чтобы при посредничестве генерала запретить Волынскому приезжать в Зимний дворец. Не успел Андрей Иванович покинуть царские апартаменты, как хозяйка резиденции опять затребовала посыльного во внутренние покои, и там произнесла иной вердикт: с визитом к Артемию Петровичу повременить. Сутки или двое Анна Иоанновна колебалась между действием и ожиданием. Наконец в пятницу 4 апреля под давлением Бирона, демонстративно уклонившегося от свидания с конкурентом, императрица санкционировала опалу кабинет-министра. Ушаков съездил к сановнику и сообщил о высочайшей немилости.
Новость сия потрясла всех. Большинство, не исключая и героя дня, безуспешно пыталось разгадать причину августейшего гнева. Естественно, сперва поминали петергофское письмо и битье Тредиаковского. Волынский же больше подозревал собственную принципиальность в горном деле Шемберга и хорошие отношения с принцессой Анной Леопольдовной. Друзья, не видя серьезных оснований к опале, надеялись на краткосрочность охлаждения государыни, хотя одними надеждами не жили и пробовали как-то приободрить, помочь приятелю. В целом же в столице мало кто считал положение влиятельной персоны смертельно опасным. Ведь даже фельдмаршал Миних брался ходатайствовать за изгоя…{81}
В воскресенье 6 апреля 1740 года Двор по обыкновению отметил Пасху, после чего потянулись томительные дни Святой недели. Томительные потому, что Зимний дворец хранил странное молчание. Царица не обнародовала мотивов отлучения Волынского от Двора, не налагала новых кар, но и не прощала второго любимца. Публика тщетно старалась проникнуть в тайну чрезмерной паузы, которая была на удивление прозаична: Бирон приготовил к поднесению на высочайшее имя челобитную А. Яковлева только 11 апреля. 12 числа императрица прочитала ее, и туман неизвестности быстро стал рассеиваться.
Анна Иоанновна удовлетворила желание светлейшего герцога расследовать прегрешения заносчивого кабинет-министра. Особого внимания самодержицы удостоился пункт шестой перечня вин Волынского, прилагавшегося к секретарской жалобе. В нем упоминались пятьсот рублей, то ли присвоенные, то ли взятые в долг Артемием Петровичем в 1737 году у Конюшенной канцелярии. Императрице не понравилось, что в ту пору руководитель государевых конских заводов проигнорировал запрос Тайной канцелярии, выяснявшей, почему прапорщика Андрея Насакина, отвечавшего за казну канцелярии, шеф обеспечил приходно-расходной книгой по прошествии двух месяцев со дня получения денег, а не до того. Не устроил ли нынешний царский докладчик из государственного учреждения дополнительный и хорошо налаженный источник личного обогащения?! Волынский не отпустил к Ушакову двух участников истории – секретаря Петра Муромцева, снабдившего Насакина книгой, и Василия Кубанцева, забравшего 500 рублей. Посему царица распорядилась без проволочек доставить их в Петропавловскую крепость.
Первым 12 апреля на Заячий остров привезли Василия Васильевича Кубанцева, по рассказу которого выходило, что третий кабинет-министр явно плутовал, мороча обер-офицеру голову чужими векселями. Оттого 15 апреля Анна Иоанновна через кабинет-секретаря И. Эйхлера велела расширить тему диалога, предложив слуге откровенно поведать и об иных финансовых махинациях барина – вымогательстве подарков, заимствовании средств из госказны, небескорыстной протекции разным лицам, приобретении пособников из числа подчиненных и знакомых.
Ну а самому барину чуть ранее, 13 апреля, объявили домашний арест и увольнение со всех постов – кабинет-министра, обер-егермейстера и главы Конюшенной канцелярии. Таким образом, программу-минимум Бирон реализовал. Теперь надлежало закрепить достигнутое ссылкой соперника из столицы куда подальше, для чего требовалось накопать на арестанта хороший компромат. Снабдить им сформированную императрицей «Генерал итетскую комиссию» мог единственно Василий Кубанцев.
Отсутствие у генералов серьезных зацепок к Волынскому наглядно продемонстрировала уже их первая встреча с Артемием Петровичем 15 апреля 1740 года в Итальянском доме, штаб-квартире комиссии. Сановники завели речь об обстоятельствах сочинения одиозного «петергофского письма». 16, 17 и 18 апреля беседа о подоплеке июльского демарша продолжилась с тем же нулевым эффектом. Волынский страстно разоблачал злые козни Остермана, Куракина и адмирала Н. Ф. Головина, извиняясь за «горячесть» своего характера. Следователи терпеливо слушали товарища, изредка возражая. 19 апреля с результатами четырехдневных откровений ознакомилась Анна Иоанновна. К тому моменту Василий Кубанцев, не битый и не пытанный, зато сильно напуганный пребыванием в государственной тюрьме, настрочил несколько чистосердечных признаний, судя по которым, Волынский весьма энергично заботился о собственном обогащении неправедным путем. Однако исповедь слуги прегрешениями хозяина в экономической области не исчерпывалась. В ней перечислялись тревожные факты, подразумевавшие политическую неблагонадежность кабинет-министра. Нет, подозрение вызывали вовсе не реформаторские инициативы лидера Кабинета. Для государыни они не стали открытием. А вот ночные посиделки важных особ в доме Артемия Петровича под видом обсуждения и редактирования законопроектов, контакты реформатора с придворными принцессы Анны Леопольдовны, составление родословного древа Волынских с подчеркиванием кровных уз семьи с Рюриковичами через брак с родной сестрой Дмитрия Донского, вдобавок наличие некой политической книги, едва не сожженной, крайне обеспокоили царицу{82}.
Более десяти лет Анна Иоанновна жила под постоянным страхом повторения бурных событий зимы 1730 года. Императрицу бросало в дрожь от единого упоминания ужасного слова «Република» и всего, что с ним так или иначе связано. В каждом критическом отзыве, в каждом акте неповиновения она в первую очередь видела зародыш новой революции и жестоко карала любого за малейшее фрондерство, невзирая на звания и прошлые заслуги. Императрица целенаправленно упекла за тюремную решетку или в сибирские остроги всех членов Верховного Тайного Совета, в 1730 году активно выступавших за фактическое введение в России республики, а наиболее опасного из них – Василия Лукича Долгорукова – без стеснения отправила на эшафот. Теперь же, после ознакомления с покаянными листами Кубанцева, государыня возжелала точно выведать, что конкретно затевал Артемий Волынский. Если государственный переворот по примеру верховников, то от позорной казни ему не уйти.
15 апреля Анна распорядилась арестовать Петра Еропкина и Андрея Хрущева, согласно Кубанцеву, вместе с Федором Соймоновым наиболее активных советчиков Волынского. Того же числа архитектора привезли в Итальянский дом, чиновника горного ведомства – в Петропавловскую крепость. С Хрущевым члены комиссии пообщались в первую очередь, утром 18 апреля. Но он приятеля не выдал, подтвердил лишь приезды к тому по партикулярным делам. Не более. Еропкина неделю, другую предпочли не трогать. В итоге на допросах самого Волынского 20, 23 и 24 апреля генералитет довольствовался малым, безусловно, недостаточным для уличения главного фигуранта в антигосударственной деятельности. Арестант легко отговорился по всем пунктам. Однако сомнения, возникшие у царицы, рассеять не сумел. Мысль о политической нелояльности, вынашивании вчерашним любимцем тайных планов по переустройству страны в духе 1730 года крепко засела в голове Ее Величества. Монархиня намеревалась удостовериться в обоснованности или беспочвенности воскресших страхов, отчего и настаивала на ужесточении следственных действий.
Еще 22 апреля Волынского препроводили из личного особняка под караул в Адмиралтейство, куда свезли и прочих узников, а 26 апреля вместе со всеми – в Петропавловскую крепость. Параллельно под нажимом из Зимнего дворца генералы пробовали выжать что-либо из эпизодов, связанных с Тредиаковским и Яковлевым. 23 апреля в комиссии официально зарегистрировали жалобу поэта. 24 апреля опросили лиц, упомянутых в челобитной секретаря. Без толку… 28 апреля А. И. Ушаков и И. И. Неплюев, с 22 апреля непосредственно занимавшиеся дознанием, прочитали покаянное письмо Петра Еропкина. Ничего интересного для императрицы в нем тоже не было. Так что и на исходе месяца государыня, как и в середине, терялась в догадках, ни на йоту не приблизившись к истине{83}.
Возможно, царица в конце концов смирилась бы с неопределенностью, ограничившись, к радости Бирона, изгнанием опального русского аристократа в какую-нибудь глушь. Но вдруг Василий Кубанцев 4 мая в очередном доносе «рассекретил» патрона. Не вполне ясно, от искреннего сердца сочинительствовал главный свидетель или под диктовку Неплюева, беседовавшего с ним в тот день о проектах. Зато очевидно значение рокового документа: колебания Анны Иоанновны мгновенно прекратились. Она убедилась в виновности Волынского и тут же решила его участь. Человек, рискнувший идти по стопам князя В. Л. Долгорукова, заслуживал той же кары, что и предшественник – эшафота. Предупреждение Кубанцева прозвучало как нельзя вовремя. Ведь кабинет-министр мало того, что критиковал августейшую особу. Злодей задумал «оной свой проэкт и разсуждении… разгласить всему народу, дабы по ево разсуждению все утвердилися, а прежние бы де порядки и уставы отставили и… уничтожали. И чрез то он хотел себя первым человеком в государстве зделать власно так, как государем самому быть». Государственный руль новый почитатель Кромвеля захватил бы, опираясь на гвардию и широкие шляхтетские массы. С целью переманить дворянские фамилии на сторону свежеиспеченного царского родственника (вот зачем понадобилась Волынскому картина с родословной?!) и разрабатывались многие реформаторские затеи, на редкость привлекательные для россиян благородного сословия. Отсюда вытекало, что А. И. Остерман мешал не персональному возвышению Артемия Петровича при императрице Анне, а торжеству российской республики в ущерб самодержавию династии Романовых. Точь-в-точь, как зимой 1730 года, когда именно Остерман воспрепятствовал не просто карьерному взлету кого-либо из верховников, а учреждению в России «мнимой републики Долгоруковых».
С помощью Кубанцева государыня проникла в тайные устремления Волынского. Однако для казни заговорщика одного понимания, чего тот желал, недостаточно. Нужны доказательства. Прямых улик при обысках раздобыть не получилось, почему Тайная канцелярия и сконцентрировала все внимание на вытягивании из конфидентов Волынского улик косвенных, то есть словесных. Увы, никто, даже Кубанцев, приписать патрону бесспорную подготовку мятежа не отважился. 11 мая Федор Соймонов, 16 мая Петр Еропкин, 19 мая в застенке и на дыбе Андрей Хрущев признали, что поступки Артемия Петровича весьма схожи с поведением человека, замышляющего государственный переворот. И только. Правда, каждый из них повинился и в том, что при благоприятном стечении обстоятельств охотно примкнул бы к лидеру-республиканцу. Сам же «организатор» революции вытерпел и психологическое, и физическое давление Ушакова с Неплюевым. С 7 мая на допросах, 22 мая в застенке и на дыбе он упорно стоял на том, что народного возмущения и свержения императрицы («себя чрез что-нибудь зделать государем») никогда не добивался, царицу же порицал «с продерзости и от невоздержания языка»{84}.
Видя такую непреклонность центральной фигуры процесса, Анна Иоанновна постановила призвать к ответу других хороших знакомых Волынского. 22, 24, 26 и 27 мая следователи встречались с секретарем И. Эйхлером, 27 и 28 мая – с переводчиком И. Судой, 30 мая – с П. Мусиным-Пушкиным. Не прерывалось общение и с группой арестованных ранее, для уточнения мелких нюансов и противоречий. Однако польза от увеличения обитателей Петропавловской крепости оказалась минимальной. По крайней мере, раскрытию республиканского заговора новички ничуть не помогли. И тогда 4 июня Анна Иоанновна санкционировала применение радикального метода – пытки четырех конфидентов Волынского. 6 июня розыску подвергли Ф. Соймонова, П. Еропкина, И. Эйхлера и П. Мусина-Пушкина. Десяток и более ударов кнутом нисколько не изменили ситуацию. Мученики не вспомнили что-либо принципиальное. 7 июня повторное истязание пережил Артемий Петрович (18 ударов), и с тем же результатом. Причем Волынский поклялся перед Богом, что не планировал вместо абсолютной монархии царицы вводить республиканскую форму правления, а грешен и казни достоин исключительно за произношение «злодейственных» фраз и за мерзкие сочинения.
На этом следствие практически завершилось, снабдив государыню максимумом информации. На большее рассчитывать не стоило, что Анна Иоанновна поняла, заслушав доклад Ушакова и Неплюева. Хотя дуэт не обнаружил несомненных подтверждений существования в России республиканской партии, императрицу такой поворот нисколько не смутил. Она уже решила обезглавить Волынского, а обоснование высочайшей воле будет. Подчиненные напишут манифест по всем правилам риторического искусства.
9 июня царица повелела Тайной канцелярии прекратить розыск с допросами и целиком переключиться на сочинение «изображения» вин Волынского и его друзей. Два сановника поручение исполнили и 17 июня отвезли в Петергоф (туда Двор переехал из столицы 10 июня) проект обвинительного акта, который Анна Иоанновна одобрила 19 числа.
20 июня в Сенате состоялся суд. Два десятка вельмож безропотно обрекли Волынского с шестью конфидентами на гибель. 22 июня под давлением государыни бумагу подписали те, кто «за присудствием в Питергофе» на заседании не был (А. Б. Куракин, Д. А. Шепелев, В. Салтыков, С. Лопухин). 23 июня царица конфирмовала приговор суда, сохранив жизнь Соймонову, Эйхлеру, Мусину-Пушкину и Суде. Утром 27 июня 1740 года узников отвели на Сытной рынок, располагавшийся поблизости от крепости, где палач казнил Волынского, Хрущева и Еропкина, а прочих высек кнутом или плетью. Публичного унижения избежал лишь Мусин-Пушкин. Ему экзекуцию – урезание языка – устроили в одной из Петропавловских казарм. Через час после расправы три мертвых тела доставили на Выборгскую сторону. Там, на погосте при церкви Самсона Странноприимца, они и обрели вечный покой{85}.
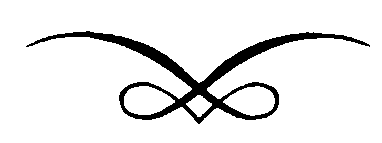
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Роман Волынский и княжество Галицкое от 1198 до 1212 года
Роман Волынский и княжество Галицкое от 1198 до 1212 года Ярослав Владимиркович, сын первого Галицкого князя Владимирка Володаревича, был достоин своего знаменитого отца, которого мои читатели, конечно, помнят, потому что он был племянником ослепленного Василька и
АРТЕМИЙ ВОЛЫНСКИЙ
АРТЕМИЙ ВОЛЫНСКИЙ Еще более яркая история: судьба Артемия Петровича Волынского! Потому что Волынский входил в число самых приближенных к Анне вельмож.Вообще–то уже давно культивируется мнение, что погиб Артемий Петрович из–за того, что чересчур уж хотел реформировать
Но почему «князь Волынский»?
Но почему «князь Волынский»? Вообще в это самое время князем Волынским был Любарт, сын великого Гедимина. Его родственником Боброк точно не был, и ничьим он вообще родственником не был, кроме собственных потомков. Ну, и жен с их родней.Во. Из Нижнего Новгорода Боброк прибыл
А. П. Волынский
А. П. Волынский Артемий Петрович Волынский родился в 1689 г. в небогатой, но родовитой семье. Род Волынских ведет начало со второй половины XIV в., когда один из его представителей в должности воеводы прославился участием в Куликовской битве. О юношеских годах Артемия
Императрица Анна Иоанновна Годы жизни 1693–1740 Годы правления 1730–1740
Императрица Анна Иоанновна Годы жизни 1693–1740 Годы правления 1730–1740 Отец — Иван V Алексеевич, старший царь и государь всея Руси, соправитель Петра I.Мать — Прасковья Федоровна Салтыкова.Анна Ивановна (Иоанновна), императрица Всероссийская, была средней дочерью царя Иоанна
Император Иван VI Годы жизни 1740–1764 Годы правления 1740–1741
Император Иван VI Годы жизни 1740–1764 Годы правления 1740–1741 Отец — принц Антон Ульрих Брауншвейг-Беверн-Люненбургский.Мать — Елизавета-Екатерина-Христина, в православии Анна Леопольдовна Брауншвейгская, внучка Ивана V, царя и великого государя всея Руси.Иван VI Антонович
Иван Иванович Волынский
Иван Иванович Волынский Принадлежал к боярскому роду, представители которого выехали на службу к московским князьям из бывшего Волынского княжества в XIV в. Первые сведения о службе Ивана Ивановича относятся к 1604 г. — он был послан царем Борисом под Пронск для борьбы с
Императрица Анна Иоанновна (28.01.1693-17.10.1740) Годы правления – 1730-1740
Императрица Анна Иоанновна (28.01.1693-17.10.1740) Годы правления – 1730-1740 Анна Иоанновна, которую в некоторых исторических романах и научно-популярных книгах представляют едва ли не узурпаторшей русского императорского престола, имела полное право занять трон. Она была дочерью
Император Иван VI Антонович (02.08.1740-04.07.1764) Годы правления – 1740-1741
Император Иван VI Антонович (02.08.1740-04.07.1764) Годы правления – 1740-1741 Правление императора Ивана Антоновича – самое короткое в истории России. Весь тот единственный год, когда он считался государем, Иван не просидел на троне, а пролежал в своей младенческой колыбели. В отличие
Лекция 12 «Ученая дружина». «Бироновщина». А. П. Волынский и его «конфиденты»
Лекция 12 «Ученая дружина». «Бироновщина». А. П. Волынский и его «конфиденты» Кто же возглавлял шляхетство в эти бурные дни, кто вел его за собой, кто был душой шляхетской оппозиции «верховникам»? Мы называли уже имена Ягужинского и Черкасского, Трубецкого и
Клубок пятый Русский исход и Мстислав Волынский
Клубок пятый Русский исход и Мстислав Волынский До XII в. Русской землей называли территорию нынешней Украины. Юрий Долгорукий обижался на племянников, что его пытаются «лишить доли в Русской земле». Его княжество, Ростово-Суздальское, именовалось вовсе не Русской, а
Императрица Анна Иоанновна Годы жизни 1693–1740 Годы правления 1730–1740
Императрица Анна Иоанновна Годы жизни 1693–1740 Годы правления 1730–1740 Отец — Иван V Алексеевич, старший царь и государь всея Руси, соправитель Петра I.Мать — Прасковья Федоровна Салтыкова.Анна Ивановна (Иоанновна), императрица Всероссийская, была средней дочерью царя Иоанна
Император Иван VI Годы жизни 1740–1764 Годы правления 1740–1741
Император Иван VI Годы жизни 1740–1764 Годы правления 1740–1741 Отец — принц Антон Ульрих Брауншвейг-Беверн-Люненбургский.Мать — Елизавета-Екатерина-Христина, в православии Анна Леопольдовна Брауншвейгская, внучка Ивана V, царя и великого государя всея Руси.Иван VI Антонович