Слухи из-под пера писателя
Слухи из-под пера писателя
Мистификация
Я опять затрудняюсь заменить это слово каким-нибудь подходящим из родного языка. Я уже писал однажды, что можно выбирать любое: обманывать, надувать, намеренно вводить в заблуждение, тешиться обманом, строить каверзы, дурачить, наставлять нос, плутовать, жульничать, околпачивать, подделывать, — но ни одно из них само по себе не передает всех оттенков смысла этого слова. Итак, я остановлюсь на мистификации.
Пески Оссиана
Блуждающее кривыми дорогами писательское перо не берусь сопровождать по всем его закоулкам. Большинство нынешних читателей они уже не интересуют, лишь специальная наука вынужденно заглядывает в них.
Ряд моих примеров начну с литературного события XVIII века, вокруг которого был поднят страшный шум: с дела Макферсона- Оссиана.
Джеймс Макферсон учительствовал в небольшой деревеньке на севере Шотландии. Имея склонность к поэзии, написал одну героическую поэму в шести песнях («The Highlander»), она была опубликована, но с треском провалилась.
Тогда он задумал другое.
В ту пору англо-шотландское противостояние сказывалось и в литературной жизни. Шотландцы в противовес англизирующим тенденциям правительства стали много уделять внимания памятникам древней кельтской культуры, реконструируя прошлое соответственно песням и балладам на гэльском (шотландском) языке.
Таким образом, вторая книга Макферсона увидела свет в наилучший для нее период времени: «Отрывки из древней поэзии, собранные в горной Шотландии и переведенные с гэльского».
Эти отрывки, — добавляет он, — происходят из песен Оссиана, кельтского барда, жившего в III веке. Оссиан, сын короля Фингала, в юности неплохо орудовал мечом, поседев и ослепнув, стал, подыгрывая себе на лютне, петь песни о славном прошлом. Макферсон в затерянных в северных провинциях уголках страны нашел написанные на гэльском языке рукописи перевел их на английский ритмизованной прозой.
Великая радость обуяла литературные круги Шотландии. Вот он, великий национальный поэт той поры, когда об английской нации еще и слуха не было. Макферсона поздравляли, объявили для него сбор денег, пусть, дескать, по непроторенным горным тропам поищет, а вдруг найдет новые образцы древней гэльской поэзии.
И Макферсон пошел и нашел. И издал в двух частях: в 1762 году была издана поэма под заглавием «Фингал, древняя эпическая поэма в шести книгах. Сочинение Оссиана, сына Фингала», в 1763 — «Темора, древняя эпическая поэма в восьми книгах, и некоторые другие стихи, сочиненные Оссианом, сыном Фингала»[222].
Книги имели неслыханный успех. Вот он, нашелся шотландский Гомер, певец, равный слепому греку. Радостное ликование шотландцев охватило и континент, Оссиан и тут взлетел на высоту Гомера. Его сочинения перевели почти на все европейские языки; особенно популярен он был в Германии, там одно издание буквально наступало другому на пятки.
Сам Гёте перевел несколько поэм и упомянул о «Поэмах Оссиана» в «Страданиях юного Вертера» — даже сделал в дневнике своего неисправимого несчастливца такую запись, датированную 12 октября:
«Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера. В какой мир вводит меня этот великан! Блуждать по равнине, когда кругом бушует буря и с клубами тумана, при тусклом свете луны, гонит души предков, слушать с гор сквозь рев лесного потока приглушенные стоны духов из темных пещер и горестные сетования девушки над четырьмя замшелыми, поросшими травой камнями, под которыми покоится павший герой, ее возлюбленный! И вот, я вижу его, седого странствующего барда, он ищет на обширной равнине следы от шагов своих предков, но, увы, находит лишь их могилы и, стеная, поднимает взор к милой вечерней звезде, что закатывается в бурное море, и в душе героя оживают минувшие времена, когда благосклонный луч светил бес-страшным в опасности и месяц озарял их увитый цветами победоносный корабль; я читаю глубокую скорбь на его челе и вижу, как, изнывая в одиночестве, бредет к могиле последний из великих, как впивает все новые мучительно-жгучие радости от бесплотного присутствия родных теней и, глядя на холодную землю, на высокую колышущуюся траву, восклицает: “Придет, придет тот странник, что знал меня в моей красе, и спросит он: где же певец, прекрасный сын Фингала? Стопы его попирают мою могилу, и тщетно меня он ищет на земле”. И тут, о друг, мне хочется, подобно благородному оруженосцу, обнажить меч, разом освободить моего господина от мучительных судорог медленного умирания и послать вслед освобожденному полубогу собственную душу»[223].
Наглотались оссиановского тумана и во Франции. Как восхищался им 17-летний Виктор Гюго; он оказал влияние и на Ламартина; стало модным называть детей именами героев и героинь Оссиана, возросло число Оскаров и Мальвин. Одно его карманное издание взял с собой в военный поход в качестве отдохновенного чтения сам Наполеон.
В Венгрии его переводил Ференц Казинци, не могли освободиться от его влияния Янош Арань и Шандор Петефи.
Чтобы нынешний читатель тоже получил некоторое представление об оссиановском мире, приведу несколько отрывков в переводе Казинци[224].
Речь идет о битве при Лоре. Альдо, по роду занятий тоже герой, гостит у короля Эрагона. Чудовищно нарушая законы гостеприимства, он соблазняет супругу короля, прекрасную Лорму. Либо он сам, либо Оссиан, либо Макферсон, должно быть, читали Гомера, и, как некогда Парис прекрасную Елену, Альдо похищает женщину. Бежит с нею к королю Фингалу. Эрагон с войском нападает на Фингала, происходит битва при Лоре. Альдо, вместо того чтобы уйти от оскорбленного мужа, ищет встречи с ним, в великом гневе нападает на него:
«Кто там несется, — спросил Фингал, наблюдавший битву героев, — словно скачет олень, словно лань с гулкозвучной Коны? Сверкает щит, прикрывающий стан, и скорбно бряцают доспехи. Он сошелся в бою с Эрагоном. Смотрите на битву вождей; она, как поединок духов в буре зловещей. Но ужель ты повержен, о сын холма, и белая грудь твоя кровью запятнана? Плачь, несчастная Лорма, нет любезного Альдо!»
Но не стоит опасаться за Лорму из-за мести мужа. В конце всякой порядочной героической поэмы все сколько-нибудь стоящие герои погибают. Эрагон тоже. Тема супружеской измены неактуальна.
Лорма ждет своего Альдо:
«Лорма сидела в чертоге Альдо при свете горящего дуба. Ночь наступила, но он не вернулся, и печаль на душе у Лормы. “Что удержало тебя, охотник Коны? Ведь ты обещал вернуться? Быть может, олень далеко убежал и темные ветры вздыхают вокруг тебя среди вереска? Я одна в чужеземном краю, кто мне здесь друг, кроме Альдо? Приди со своих гулкозвучных холмов, о мой самый любимый!” Очи ее обратились к воротам, и слышит она шумные ветра порывы. Мнится ей, это шаги Альдо, и радость взошла на лице ее, но печаль набегает снова, как на луну прозрачное облачко. “Неужели ты не вернешься, мой милый? Дай погляжу я на склоны холма. Луна на востоке. Покойно блистает лоно озера! Когда же я увижу псов его, бегущих с ловитвы? Когда я услышу глас его громкий, издалека принесенный ветром? Приди со своих гулкозвучных холмов, охотник лесистой Коны!”
Его неясная тень на скале возникла, словно луч водянистый луны, когда он прорвется меж двух облаков, а в поле полночный ливень. Она поспешила по вереску вслед за смутным призраком, ибо она поняла, что герой ее пал. Я слышал, как близятся стоны ее, подобные скорбному голосу ветра, когда он вздыхает в траве пещеры.
Она пришла, она отыскала героя, и голос ее умолк. Молча она обращала скорбные очи, бледная, как водянистое облако, что подъемлется с озера к лунным лучам.
Немного она прожила на берегу Коны: ее приняла могила».
Перевод Казинци, несомненно, хорошо передает оссиановские интонации. Другой вопрос — содержание. Многие, кроме него, пробовали воссоздать на венгерском языке печаль песен кельтского барда.
И все ж сыскался поэт, которого не увлекла кельтская эпидемия, — Карой Кишфалуди[225] счел образы героев преувеличенны-мм: они никогда не трудились, все только охотились да воевали, но возможности при лунном свете. Взяв в руки лютню, сам сочинил героическую песнь «Герой Ферчи». Начинает он так:
«Пробудись, моя лютня, услада уху творение! Время геройства настало, праздность оставь позади.
О звезда дебелая, что бургомистр на небе, что дрожишь сквозь дырочки занавесей? На Ферчи глядишь крепыша? Ишь, потягивается, трубкой попыхивает, небу подмигивает. Пред ним скелетик еще неоплаченного каплуна и сердито за ее пустоту опрокинута фляга. Спит уж. Мирно похрапывая».
Но тут перед ним возникает душа деда.
«Лицом бел; щит с крепостные ворота, пуговица на доломане — мертвая голова, с отвислых усов осыпается каменная пыль». Корит нерадивого внука: Имруш, сосед-козлодуй, окопал границы надела, а он тут дрыхнет, нет чтоб мечом поквитаться. «На том вскинул головушку Ферчи, стукнул по столу так, что дрогнул ветхий домишко». Проснувшись, очухался, оружие, вернее дубину, схватил и пошел на врага.
«Поскакал Ферчи, закричал могуче. Зашумела битва. Силы тратит Имруш, не щадит того и этого. Кликнули кличи, поразилися, волосы дыбом встают. Палица Ферчи-героя просвистела в воздухе. Ветром почел то пастух и на дождик загадывает. Ферчи свистит, и ему на спину удары сыплются. Поворотился тяжко, ведая: сбежать во время непостыдно герою.
О сладость памяти прошлого, да с боевыми-то да с синяками!»
После пародии Кишфалуди представляется излишним подробный анализ хриплого от извечного тумана шотландских гор голоса барда, которым он певал свои песни. И все же, несмотря ни на что, образованный мир венчал Оссиана лавровым венком, досталось несколько листочков и самому Макферсону. Только слава его потихоньку начала бледнеть, подобно притененному лику луны в звездную ночь, выражаясь языком того же Оссиана.
В голове у англичан не укладывался шотландский Гомер. Со всех сторон стали раздаваться голоса, что да, мол, прекрасны эти славные национальные сокровища, но давайте же посмотрим сами оригинальные тексты па языке ga?l.
А вот их-то Макферсон и не предъявил!
Тут первоначальное подозрение разрослось, точно крона дуба, под которым Лорма исплакивала свои плачи. Стали пристально всматриваться в английский текст и выяснили, что в нем полно таких оборотов и сравнений, которые в III веке не встречались. Так где же, в конце концов, этот пресловутый оригинальный гэльский текст?
И снова молчание.
Зато заговорили литературоведы Ирландии. Шотландский бард по имени Оссиан — фигура вымышленная, — заявили они, — шотландцы заимствовали ее из круга ирландских легенд об Ойсипе.
Итак, дискуссия расширилась, теперь уже схватки полемистов, вертелись вокруг того, к какой национальности принадлежит личность, которой никогда и не было на свете.
Поскольку Макферсон так и не предъявил оригинальных текстов на языке ga?l, стало ясно, что они, без сомнения, никогда и не существовали. Тогда не стоит и трудиться, доказывать, что издания Макферсона — все до единого — фальсификация.
Но давайте здесь на минутку остановимся. Секрет Макферсона еще не вполне раскрыт.
Интересный вопрос: если уж он сам создал песни Оссиана, то почему же ему было не открыть правды? Ведь в этом случае вся та слава, в которой купался кельтский королевич, досталась бы ему одному, и он одним махом вошел бы в число величайших поэтов мира!
Полная правда и по сей день сокрыта в оссиановском тумане. В общем можно только подозревать, что Макферсон и в самом деле открыл бытовавшие в устной традиции древние баллады и, пользуясь ими, создал собственное сочинение.
Секрет такого эффекта объясняется таящейся в народных традициях силой и очарованием древней поэзии. Свое произведение Макферсон так замаскировал туманами древней кельтской мистики, что реальные очертания поэтической контрабанды оказались размытыми. А слабые места относили за счет архаичной шероховатости древней поэтики.
Да и он сам не рассчитывал на такой широкий успех, но теперь отступать было нельзя. Оригинальные мотивы оказались настолько перемешаны с его собственными, что разделить их было уже невозможно.
По-видимому в Англии литературную контрабанду приняли за оригинальную поэзию, потому что Макферсона вовсе не выслали назад в его деревеньку с островерхими деревянными башенками, более того, он был избран депутатом парламента, а когда он умер в 1796 году, был с почетом похоронен в Вестминстерском аббатстве, в Национальном пантеоне. (Посетители обнаружат его могилу в Poet’s Corner, возле могилы Диккенса.)
История Формозы
Героем лондонского сезона 1703 года был один молодой человек лет 20 от роду. Он был принят в аристократических домах Лондона, — ученые искали знакомства с ним, — главным его покровителем был сам лондонский епископ. Он был изрядно образован, сведущ в теологии, говорил и писал на нескольких языках, по-латыни тоже.
От европейских привычек его отличало одно: на званых обедах он ел сырое мясо.
Да он и не был европейцем, а происходил с острова Формоза, — как сам о том рассказывал. На Формозе (совр. о. Тайвань. — Ред.) он воспитывался у миссионеров-католиков, и христианская религия оказала на него такое влияние, что он получил отвращение к языческой вере своего государства и бежал из дому. Ему удалось добраться до Европы, здесь после многих приключений и испытаний он поступил в солдаты в английский полк, дислоцировавшийся в Нижней Германии (Нидерланды). Тамошний полковой священник взял его судьбу в свои руки, окрестил, дав имя Георг (Джордж), потом взял его с собой в Лондон и представил епископу.
Псалманазар[226] — такова будто бы была его фамилия — был с радостью принят. А как же, ведь вот он, будущий англиканский миссионер; он, местный уроженец, со временем выдернет ковровую дорожку из-под ног чуждых католических священников и завоюет Формозу для англиканской церкви. Епископ снабдил его деньгами и послал в Оксфорд, пусть далее образовывает себя в университете в желаемой области.
Конечно же. ему поначалу не поверили. Епископ пожелал, чтобы он перевел отрывки из английского катехизиса на формозский язык. Он сделал это, ученые круги Англии без всякого сомнения приняли перевод за достоверный. Это было первое испытание поистине чудесной доверчивости англичан, а также беспримерной ловкости и наглости Псалманазара. Ведь это он сам придумал азбуку и самый язык Формозы.
Потом, увидев, что церковные и ученые круги хорошенько заглотили крючок, он написал целую книжку о Формозе и посвятил ее лондонскому епископу[227].
Заслуживающее почетное место в истории мистификации произведение сообщало, что Формоза поначалу была независимым государством, пока японский император военной хитростью не подчинил ее своей власти.
Он якобы послал к государю Формозы посольство с тем, что он будто бы тяжело заболел, а японские божества не могут ему помочь. И он хочет прибегнуть к божествам Формозы, обещает щедрые жертвоприношения, и если они излечат его, то он готов изгнать отеческих богов и насадить богов Формозы.
Государь Формозы обрадовался предложению, с воодушевлением его принял и с большим почтением ожидал прибытия гостя. И гость прибыл. В сопровождении трехсот закрытых повозок, которые везли слоновьи упряжи. Повозки были увешаны бычьими и бараньими головами в знак того, что они битком набиты тушами жертвенных животных.
Торжественный прием обернулся военной хитростью. Не жертвенные туши ехали в повозках, как полагали островитяне и, возможно, подумал английский читатель, а вооруженные японские солдаты, по тридцать-сорок человек в каждой, то есть всего десять тысяч. По условному знаку они высыпали из повозок, и безоружный изумленный народ Формозы был вынужден сдаться.
История тупоумнее проделки с троянским конем, но английская публика ей простодушно поверила. Точно так же, как и другим вдохновенным вракам этой книги.
Автор подробно рассказал в ней о конституции Формозы, религии, общественном строе, жизни простых людей, о животном и растительном мире страны, ее природных богатствах.
Формоза — страна богатая. В ней столько золота, что им покрыты не только дома горожан и общественные здания, даже деревенские лачужки отделаны золотом.
Государственная религия — язычество. Богам приносят жертвы, среди них самая важная — дети. Ежегодно проводится девятидневное празднество, во время которого ежедневно убивают две тысячи мальчиков, а сердца их приносят в жертву деревянному идолу главного бога.
Это всего восемнадцать тысяч.
Ого! Эдак маленькая страна потихоньку совсем обезлюдеет! Но автор заранее придумал ответ: на первенцев в семьях этот закон не распространяется, кроме того, на Формозе принято многоженство.
Народ больше похож на европейцев, чем на азиатов. Как правило, все долгожители, этим они обязаны тому, что их главный продукт пропитания — змеиное мясо. Особенно мясо гадюк. А чтобы не отравиться ядом, пойманную живую змею зажимают и бьют кнутом. От злости яд ударяет змее в голову. Теперь, если змее отсечь голову, то тело ее представляет собой совершенно безопасный деликатес.
Животный мир чрезвычайно богат. Особенно много слонов, верблюдов, носорогов и бегемотов, они настолько смирные, что их употребляют для работ по дому. Погонщики слонов управляют животными не с их спины, а сидя на загнутом вверх хоботе, словно в седле.
Английская публика свято поверила и в бегемотов, употребляемых для домашних работ. Нашлось всего несколько священников, которые годами работали на Востоке, а также долгое время жили на самой Формозе, — они ссылались на свой опыт и скромно заявляли, что во всей этой чуши нет ни слова правды. Псалманазар легко расправился с ними. В предисловии ко второму изданию своей книги, имевшей огромный успех, он просто спросил: «Кто заслуживает большего доверия: какой-то чужестранец либо местный туземец?».
Этого оказалось достаточно. Англичане поверили туземцу, и это чудесным образом продолжалось целых двадцать пять лет. Сейчас уже неизвестны подробности такого длительного мошенничества, известно только одно, что все это время он успешно околпачивал целый свет. Пока не разоблачил сам себя, — к тому же лагерь не верящих значительно умножился, тогда он признал, что на бегемотах много воды из реки не привезешь. Он сотрудничал в одном из географических альманахов и писал для него статьи о Китае и Японии, а в одно анонимно вышедшее исследование вставил такое замечание: «Все, что некто Псалмапазар написал о Формозе, от начала до конца — сплошная выдумка».
Подробное признание содержат и его мемуары. Он писал их годы, но вышли они только после его смерти в 1765 году. Он признается, что никакой он не туземец с Формозы, даже никогда гам и не был, но кто он и откуда, этого он так и не открыл, гак что секрет его происхождения так никогда и не выяснился. Представляется, что родился он где-то на юге Франции.
Впрочем, он все же кое-что сообщает о похождениях своей юности. Воспитывали его монахи-францисканцы, от них он набрался сведений по теологии, у них же научился латыни. Затем исходил всю Европу, бегая туда-сюда, был преследуем по религиозным мотивам как католик, потом с помощью украденного из одной церкви облачения выдавал себя за ирландского паломника, страстно желающего добраться до Рима, и, наконец, был солдатом. Свои плутовские подвиги философски оправдывал тем, что куда бы ни занесло его, повсюду видел только ложь и обман, и тогда решил, что и он будет действовать подобным образом.
В деле с Формозой он не видел особого риска, ну самое большее, что подлог раскроется, ну выбросят его из порядочного общества и снова пойдет бродить по свету. Он сам больше всего изумился неожиданному успеху своей подделки.
После всего этого в своей долгой жизни, а прожил он 83 года, свой хлеб зарабатывал честным трудом. Работал на книготорговцев, собирал научные материалы, переводил с иностранных языков. Ни во что не веривший авантюрист превратился в усердного богомольца. Регулярно посещал церковные службы, читал Библию, слушал проповеди, стал чрезвычайно богобоязненным, распевающим псалмы прихожанином. Этим он склонил на свою сторону общественное мнение святош и ханжей, ему простили и военную хитрость японского императора, и 18 000 детских сердец, и толстокожих домашних животных.
Вот это и была его самая удачная мистификация.
Трагедия Чаттертона
Томас Чаттертон родился 20 ноября 1752 года, три месяца спустя после кончины от чахотки своего отца, школьного учителя в Бристоле. Матушка его шитьем содержала свою маленькую семью, сына и его старшую сестричку. Учился Томас в школе, содержавшейся на средства благотворительных фондов, как бесплатный воспитанник, в 15 лет был отдан писцом к одному бристольскому адвокату. Ему полагались: полное содержание, еда в кухне, ночлег вместе с остальной прислугой, денежное довольствие — пять шиллингов в неделю. Работа с семи часов утра до семи часов вечера.
Беспощадная эксплуатация все же не смогла истребить в подростке его поэтического таланта. Он был на удивление работоспособен. Когда заканчивался 12-часовой рабочий день, он продолжал работать для себя, порой до поздней ночи, при лунном свете, потому что на свечи уже не хватало.
Чтобы понять, над чем же он трудился, надо уяснить себе, что его отец был в приходе еще и ризничим церкви св. Марии Рэдклиффской XIII века. Архивом старинной церкви, по сути дела, никто не занимался: кто отпирает древние лари, кто роется в них, кто вынимает и уносит погрызенные мышами документы. Отец переплетал в пергаменты тетради школяров, мать пускала их на выкройки, а сыну, к чему бы он ни прикоснулся, всюду попадались старые письма, старинные документы. Он стал перечитывать их, пока совершенно ни проникся духом английского средневековья, да и сам научился писать на языке ветхих пергаментов.
Этот своеобразный талант к подражанию подвергся испытанию в октябре 1768 года, когда в Бристоле открывали заново отстроенный старинный мост. К великому изумлению бристольцев в одной из газет появилось старинное описание церемонии открытия старого моста, проходившей в XV веке. Неизвестный отправитель сообщал только, что описание он скопировал с рукописи того времени.
Сотрудники газеты удивились еще больше, когда к ним в редакцию спустя несколько дней заявился 16-летний юноша и признался, что это он прислал описание, а дома у него имеется еще несколько старинных рукописей.
Об этом прознали еще два бристольских любителя старины, они взяли юношу под свое крыло, одолжили ему книг, приняли в своих домах.
За эго от него ждали старинных копий.
И они одна за другой были ими получены, но теперь уже как лирические, драматические и повествовательные поэмы Томаса Раули, жившего в XV веке монаха, каноника церкви св. Марии Рэдклиффской.
Оба любителя искусств — один хирург, другой разбогатевший торговец — были очарованы архаичностью звучания сти-хов. Но все же ограничились восхищением и обедами. Им и в голову не приходило открыть кошельки ради юноши, перебивающегося на пять шиллингов в неделю.
Однако на редкость честолюбивый юноша не удовлетворился тщетой сладких лакомств: он жаждал славы. Он предложил сочинения монаха Раули одному лондонскому издательству. Ответа не последовало. В довершение всего у него начались неприятности в конторе: хозяин-адвокат пронюхал что-то об этих литературных опытах и почел их вредными, дескать, его писец наверняка что-то выгадывает для себя из 12-часового рабочего дня. Он стал следить и, напав на зловредные писания, неумолимо рвал их.
Тогда запертый в атмосфере провинциального городка, эксплуатируемый за нищенскую плату юноша-поэт задумал смелый шаг. Он обратится к самому Хорасу Уолполу, автору «Замка Отранто».
Из переписки завсегдатаев лондонских и парижских салонов вырисовывается фигура этого героя, достаточно сказать, что и сам он был знатен, его готический замок был известен не только значительным собранием произведений искусства, но и типографией, которую завел этот барин, кокетничавший литературными занятиями, чтобы печатать свои труды, а также произведения своих друзей.
«Замок Отранто» вышел в свет в 1764 году. Уолпол издал его анонимно, как перевод старинной, готической печати, итальянской книги. Но это не была сознательная мистификация, просто авторский прием — во втором издании книги он уже назвал себя. Мне удалось прочесть пару строк аннотации к книге: «В одном из крепостных замков Италии происходят таинственные вещи, зловещие приметы, кровоточащие портреты и прочие подобные предвестники рока, настигающего это семейство». Другими словами, это был настоящий роман ужасов.
Юноша послал своему собрату по перу, аристократу, в качестве образца несколько стихотворений монаха Раули. Наверняка рассчитывая на то, что если при посредничестве Уолпола они предстанут перед публикой и будут иметь успех, тогда и он сбросит маску. Уолпол отписал в Бристоль, что стихи отмечены печатью «дивного духа и гармонии», где, мол, остальные рукописи Раули? Он готов некоторые из них напечатать.
Дитя и Радуга! Уже так недалеко, еще лишь несколько шагов и он ступит на семицветный мост славы! Он тут же выслал несколько стихотворений и написал, что сам он сын бедно» вдовы, за нищенскую плату строчит бумаги в одной адвокатской конторе.
Радуга тут же поблекла и растаяла. Уолпол показал стихи друзьям. Среди них был Грей, сын богатого биржевика, который тоже грешил подражаниями средневековой поэзии. Он отверг стихи: современная фальсификация.
Тон знатного коллеги по перу резко переменился. Он вернул стихи с припиской: «Оставайтесь при адвокате, позднее, когда составите состояние, можете посвятить себя литературной учебе».
Некоторые из биографов аристократа-любителя стремятся эти бессердечные, холодно-презрительные строки представить якобы как добрый совет. Как же, совет! Оскорбленное тщеславие, тайная зависть так и сочится из этих строк, набросанных со всею возможной надменностью, потому что ему пришлось признать, что вот этот провинциальный паренек — настоящий поэт, а он, сын всемогущего премьер-министра, он рядом с ним — просто пописывающий джентльмен.
А мальчику Чаттертону оставалось сознание того, что хотя талантом он настолько же выше автора «Замка Отранто», насколько самая высокая башня готического замка превосходит по уровню высоты ее же типографский подвал, да вот только ворота замка захлопнулись перед поэтом-бедняком.
К этому добавилась новая беда: адвокату надоели побочные поэтические занятия писаря, и он выставил его из конторы.
Оба его покровителя, хирург и торговец, организовали сбор денег в пользу Чаттертона, собрали несколько фунтов, чтобы он мог попытать счастья в Лондоне. Это было самое большое желание юноши. Мечта о славе опять засияла радугой сквозь лондонский туман.
Он снял комнату в одном из пригородов Лондона, вернее койку. Да и той только половину, потому что ему пришлось делить ее с другим молодым человеком.
Сосед по койке хорошо устроился при парнишке из провинции, как он говорил позже, тот почти не спал, до утра сидел и писал. Он засыпал лондонские журналы своими сочинениями, их хватило бы на целый номер. Он уже пытал счастья не только произведениями монаха Раули, но и под своим именем писал стихи, прозу, политическую сатиру.
Но он не знал, что Лондон — город денег, где у людей вместо сердца — карман, и раскрывать его перед первым встречным они не торопились. Не знал он, что здесь один способ пробиться в писатели — поступить на службу к какому-нибудь лорду, прославлять его и поносить его противников.
В семнадцатилетнем парне была гордость пламенного ума. Он не желал лакействовать, ему хотелось собственными силами выбиться из неизвестности. Он обивал пороги редакций и возвращался, чуть ли не ежедневно обогащая свой горький опыт. Неопытностью провинциала нагло пользовались. За статью ему платили один шиллинг, за стихотворение и только треть — восемь пенни. Один журнал взял у него сразу шестнадцать баллад всего за десять с половиной шиллингов. Судя по его записям доходов, таким лихорадочным трудом он заработал всего двенадцать фунтов, то есть на день у него приходилось по два шиллинга.
Из этих нищих заработков он еще умудрялся посылать подарки домой, писал домашним обманные письма, сообщая, как, дескать, хорошо идут дела в Лондоне, что его начинают признавать, перед ним открывается славная будущность.
Только и эта тоненькая струйка денег вдруг иссякла. Журналы были забиты рукописями Чаттертона. Случалось, ему возвращали одну из самых прекрасных его поэм, потому что «она не подходила по объему журнала». Несчастного парня качало без единого пенни, да, именно качало от голода, в этом большом бесчувственном городе. И только у его квартирной хозяйки сжалось сердце при виде этого вконец исхудавшего, с впавшим лицом, бледного, но с горящим взором юноши, она пригласила его пообедать.
— Спасибо, у меня совсем нет аппетита, — ответил он и закрылся в своей комнате, вернее в каморке, к тому времени он жил в своем уголке один.
И это говорил юноша, три дня не бравший в рот пи крошки.
На другое утро, поскольку он не отвечал на стук, взломали дверь. Его нашли на кровати мертвым. Гордый юноша ни в ком не нуждался. Люди не захотели ему помочь, тогда он покинул их. Он отравился.
Было 25 августа 1770 года. Ему еще не исполнилось и восемнадцати лет…
Похоронили его в братской могиле бедняков, там его следы окончательно затерялись. Следы одного из блистательных гениев Англии.
После его смерти, естественно, газеты запестрели его именем. «Мы потеряли великого поэта», — вздыхали толстые журналы, те, которые платили ему жалкие гроши. Им вдруг открылась поэтическая красота его стихов, скрытая маской модной архаики. Мэлоун, один из наиболее видных шекспи-роведов, иисал, что в Англии со времен Шекспира не рождалось подобного таланта.
Его сочинения, которые он писал с четырнадцати лет, позднее вышли национальным изданием. Имя его увековечено на мемориальной доске в Бристоле, в церкви св. Марии Рэдклиффской, где он призвал к жизни фигуру монаха Раули.
А что же Уолпол? Тот стал знаменит, унаследовав от отца высокий ранг и большое состояние, возможно совсем незаслуженно, потому что злые языки утверждали, что его отец вовсе ему не отец, а отец совсем другой — лорд по имени Херви. Литературной известностью Уолпол был обязан своей обширной переписке, которую сочли остроумной и несколько раз переиздавали в нескольких томах.
Однако все эти тома перевешивает одно единственное письмо, которое отсутствует в этом собрании{Я включил сюда несколько стихотворных строк, в которых Чаттертон излил свою горечь в отношении Уолпола.
Уолпол! Я и в мыслях не имел,
Сколь ты жестоко сердцем очерствел;
Вкушая роскошь, ты не внял мольбе
Подростка одинокого, к тебе
Воззвавшего; его стыдить ты рьяно, -
А сам не знал подобного обмана?
«Отранто» вспомни! — Что за словопренье?
Презреньем я отвечу на презренье.
(Пер. Д. В. Сильвестрова)}:
«Сэр, я не могу примирить Ваше отношение ко мне с теми представлениями о Вас, которые я некогда разделял. Сэр, я полагаю себя оскорбленным: не будучи осведомлены о моих обстоятельствах, Вы не осмелились бы обходиться со мною подобным образом. Дважды обращался я к Вам с просьбой вернуть мне копии рукописей — от Вас ни слова. Буду признателен, если Вы объяснитесь или извинитесь за свое молчание.
Томас Чаттертон.
Июля 24 дня».
Поддельные памятники венгерской письменности
Литератор Шамуель Немеш, один из самых ловких мастеров-фальсификаторов, сбывал свои подделки за деньги. Была у него лавка древностей в Буде, в ней битком было всяких рукописей, бумаг, медалей и орденов, оружия. Он даже писал статьи по антиквариату в научные журналы.
Поначалу он занимался подделками просто из любви к искусству, позднее, когда подметил, как легко и просто можно обвести вокруг пальца и самого ученого из ученых, поставил дело на широкую ногу.
На старинных пергаментах бледными чернилами он писал якобы древние венгерские, латинские и немецкие тексты. Он мог точно копировать не только средневековые готические и латинские буквы, но и древневенгерские и даже татарские письмена. Мастерски подделанные тексты вставлял в переплеты старинных фолиантов и снисходительно «дозволял» ослепленным ученым мужам «открывать» такие редкости и за хорошие денежки приобретать их{Подробно описывает эти фальсификации Бела Тот в книге «Венгерские редкости» (B?la T?th. Magyar ritka?agok. Будапешт, 1899). Всего он описывает 26 подделок.}.
Подделывал он карты XV столетия, охранные грамоты и указы татарских ханов, договоры, скрепленные большими висячими печатями, дворянские грамоты, даже одну иллюстрированную венгерскую летопись 1301 года. В 1851 году из вторых рук ее приобрел венгерский Национальный музей, а Габор Матраи, замечательный музыковед и хранитель библиотеки музея, 24 июля провел ознакомительные чтения по ней в Венгерской академии наук.
На эту удочку попался и другой наш замечательный ученый Янош Йернеи (1800–1855), один из тех, кто занимался древней историей Венгрии, однако же питавший иллюзии относительно истории венгерского языка. Особенно его поразили молитвы времен короля Андраша I, которые счастливчику Шамуелю якобы удалось откопать в Клагенфурте среди прочих древних текстов. Йернеи провел детальнейший научный анализ и признал молитвы оригинальным текстом, о чем и написал в своей работе «Сокровища венгерского языка эпохи династии Арпадов» («Magyar nyelvkincsek az ?rp?dok kor?b?l», 1854).
Свое мнение он выразил так:
«Эти два текста настоящие, оригинальные; это древности, несущие все признаки той эпохи, соответствующие всем ее устремлениям, выраженным с соблюдением всех дипломатических правил. Вследствие чего оригинальность этих бесподобных национальных сокровищ, если кому, не дай
Бог, придет на ум подвергать сомнению либо под воздействием не знамо какого духа подозревать в чем-либо, то его затруднения и сомнения рассеять и просветить себя заявляю готовым во всякое время, более того, выступить в их защиту святым долгом для себя почитаю».
Позднее, когда лихорадка иллюзорной лингвистики немного отпустила, и «национальные сокровища» проанализировали прояснившимся взглядом, то и с секретов лавки древностей в Буде тоже спала кисея. О том свидетельствует собственноручная надпись того же Габора Матраи на пергаментном переплете небольшого старинного кодекса, попавшего в собрание Национального музея в 1874 году. Так вот, эта надпись подтверждает, что, как говорится, фальшивые монеты и звенят-то не по-настоящему:
«Носящая ложные признаки старины иллюстрированная рукопись изготовлена в будайском заведении покойного Литерати Немеш Шамуеля мошенничества для».
Скандал с Шекспиром
Только что такое эти заблуждения венгерских ученых-мечтателей в сравнении со скандалом, разразившимся в 1795 году в Англии вокруг пресловутых подделок Шекспира!
У Самюэля Айрленда была букинистическая лавка в Лондоне. Сам он был известен как большой поклонник литературы, особенно творчества Шекспира; по этой причине разные литературные знаменитости той поры назначали друг другу встречи в его лавке.
Был у него 18-летний сын Уильям Генри. И у паренька просто звенело в ушах от множества разговоров о литературе, чтений, декламаций, и он сам читал с отцом старинные стихи, а среди них и «Баллады Раули» Чаттертона. Поначалу дела молодого Уильяма Генри развивались по сценарию, очень похожему на историю Чаттертона; но не более чем походит раскрашенный оттиск репродукции-эстампа на оригинальное живописное полотно.
Молодой человек получил хорошее образование, отец даже несколько лет учил его в Париже. Потом отдал его писарем к лондонскому адвокату. Шкафы в адвокатской конторе оказались набиты старинными документами, по большей части времен Елизаветы и Якова I, то есть как раз шекспировской эпохи. В один прекрасный день Уильям Генри заявился домой с сообщением, что ему удалось в свалке документов обнаружить договор на покупку земельного участка в Стратфорде за собственноручной подписью Шекспира. Бумага, чернила, юридический слог той поры без сомнения свидетельствовали об оригинальности документа. Ученые посетители книжной лавки одобрительно закивали головами.
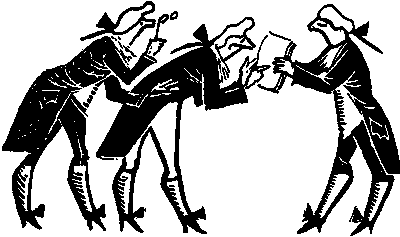
Первый успех окрылил молодого человека, теперь уже вместо простой подписи он стал приносить домой целые рукописи Шекспира. Счастливый отец радовался настоящему небольшому собранию этих рукописей.
Правда, про них уже нельзя было утверждать, что все они вынырнули из шкафов адвоката. Следовало подумать о другом их происхождении. Уильям Генри-младший выдумал историю об одном якобы не пожелавшем назвать себя добросердечном джентльмене, которому эти бумаги достались по наследству, и он с беспримерным великодушием подарил их Айрленду-младшему как «пламенного ума юноше и духовному собрату Шекспира».
Посетители отцовской книжной лавки проглотили эту наживку. Их не слишком занимал какой-то чужак, хотя бы и благородной души, им важно было, что теперь перед ними открывалась самая большая ценность этого собрания: протестантский трактат «Исповедание верой», в котором изложено религиозное кредо Шекспира.
Они не стали доискиваться, зачем это Шекспиру понадобилось высказывать свою убежденность в протестантизме. Они удовольствовались тем, что могут наслаждаться прекрасным шекспировским слогом. Особенно очаровала любителей из книжной лавки вот эта молитва: «О Господи, спаси и сохрани нас, подобно нежной курице, что укрывает мелкое потомство свое крылами, и тем надежно сохраняет его».
Когда старый Айрленд блеснул этой драгоценностью, явно выковырянной на скотном дворе, перед двумя протестантскими попами, один из них воскликнул: «Господи, наши молитвенники богаты прекрасными строками, но вот, Господи, это муж, который превзошел нас всех».
Теперь юный Уильям совсем осмелел и представил еще одну бесценную вещь — собственноручно написанное любовное письмо Шекспира к жене, Анне Хэтеуэй.
Не помешает ознакомиться с ним полностью:
«Дражайшая моя Анна!
Поскольку ты могла убедиться, что я верен своему обещанию, вот, посмотри, как я держу слово. Прошу тебя, этот маленький локон умасти твоих глаз свежим взором, и тогда короли с почтением склонятся перед нами. Уверяю тебя, не грубая рука заплела его, то сделала рука твоего Вилли. Королевские головы украшают золотые безделицы, но они не принесли бы мне и половины той радости, как сознание, что этот пустяк тебе по нраву. Это чувство утверждает, что за любовью к Богу следует нежная любовь к тебе, к моей добродетельной Анне, которую я замкнул в своем сердце. Потому что ты, словно могучий кедр, раскинувший свои ветви и охраняющий малые растения от суровых зим и жестоких бурь. Да пребудет Господь с тобою до завтра, скоро свижусь с тобой. А до той поры Adieu, родная любовь моя.
Навеки твой У. Шекспир».
К сему был приложен локон. Старый почитатель Шекспира (Айрленд-старший) запер его в золотую шкатулку и только наиболее достойным из почитателей Шекспира дарил по одному волоску: удостоенные такой чести, они отдавали вправить волосок в перстни с драгоценными камнями.
А чтобы, помимо сравнения с курицей и кедром, дать образчик совершенно нераскрытых в нем возможностей Шекспира как драматурга, он представил несколько неизвестных отрывков из «Гамлета», а также черновики отдельных сцен «Короля Лира».
В слепом порыве старый почитатель выставил эти реликвии в своей лавке. Более того, поскольку кое-где стали сгущаться тучи сомнения, так вот, чтобы рассеять их, он представил весь материал на рассмотрение некоей комиссии.
Двадцать четыре ученых мужа, писатели и прочие знатные особы поставили свои подписи под заявлением, в котором говорилось, что они, рассмотрев представленные Самюэлем Айрлендом в их распоряжение бумаги, убедились в том, что они подлинные. Среди подписавшихся были Генри Пай, официально увенчанный лаврами поэт, три лорда, д-р Парр, авторитетный теолог и критик, и, цитируя «Короля Лира», last not least — завершающий, но не последний — Джеймс Босвелл, которого Томас Маколей назвал «великим мастером биографий»{Босвелл (или Босуэлл) Джеймс (1740–1795) — шотландский литератор, известный главным образом как многолетний секретарь, собеседник и биограф ученого Самюэля Джонсона, с которым познакомился в Лондоне в 1763 г. и более 20 лет вел ежедневные записи своих бесед с ним. Из этих записей родилась его знаменитая книга «Жизнь Самюэля Джонсона» (Boswell. The Life of Samuel Johnson, 1791), считающаяся литературным шедевром и классическим образцом биографического жанра. — Прим. ред.}.
Тут последовала прямо театральная сцена, когда Босвелл, исследовав бумаги, упал на колени и воскликнул: «Поцелуем запечатлеваю реликвии нашего бессмертного поэта и благодарю Бога, что позволил мне дожить до того, что мне воочию довелось лицезреть их».
Понятно, что после такой реакции у парня воистину выросли крылья, он уже воображал себя чуть ли эвонским лебедем. Тогда он притащил домой еще один бесценный дар на удивление щедрого незнакомца: полную рукопись дотоле неизвестной трагедии Шекспира «Вортигерн и Ровена».
При этой вести загудела вся страна. Еще бы! Целая пьеса великого и бессмертного! Чьи отдельные строки до сих пор только вдыхали, подобно дымку опийного мака! Англия плавала в море радости и простодушной надежды. Два директора лучших лондонских театров осаждали старого Айрленда, сражаясь за честь и право поставить вновь обретенную пьесу на сцене. Победил Шеридан, директор театра «Друри-Лейн» («Drury Lane»), сам известный поэт. Он немедленно заплатил за право постановки триста фунтов стерлингов и оговорил половину доходов от первых шестидесяти представлений.
Единственным, кто не разделял восторгов, был Мэлоун. В свое время это он признал в Чаттертоне поэта, а теперь в юном Уильяме увидел всего лишь фальсификатора. Но его голостонул в общем гаме. Представление было назначено на 2 апреля 1796 года.
В спектакле на главных ролях были заняты самые блестящие актеры: великий Кембл, миссис Сиддонс (которую впоследствии удостоили быть похороненной в Вестминстерском аббатстве), миссис Джордан (которая сверх своего сценического таланта была еще и любовницей герцога Уэльского).
Театр был полон, торжественная тишина, напряженное ожидание. Поначалу дело как-то шло, только публика понемногу зашевелилась. Так это Шекспир? Эта простенькая сказочка, плоские мизансцены, бездарные стихи, скудоумие, пустой лепет? Гул в зале усиливался, наконец разразился скандал. Развязка наступила в 5-м акте, когда Вортигерну по ходу пьесы надо было произнести: «Положим конец этой трагикомедии!»
Кембл произнес эти слова столь выразительно, что по театру прокатился взрыв хохота. В зале со всех сторон раздались крики одобрения, публика неистовствовала и хохотала. Судьба пьесы была решена, первое представление оказалось и последним.
Мыльный пузырь с Шекспиром лопнул. Уильям Генри бежал из театра, бежал из дому, а из адвокатской конторы бежать не пришлось — его и так выгнали на другой же день.
Свое неслыханное святотатство позднее он попытался исправить тем, что издал сочинение под заглавием «Признания», в нем с великим раскаянием он сознался в заблуждениях юности.
Его былые поклонники отступились от него и, наверное, задним числом сами удивлялись, где был их разум, когда пачкотню 18-летнего юнца принимали за шедевр величайшего английского поэта.
Старик Айрленд продолжал оставаться в плену своих заблуждений, теперь уже в одиночестве. Ни доводы Мэлоуна, нн признания сына (с которым он окончательно порвал и до самой своей смерти не желал его видеть) не могли вызволить его оттуда. Он упрямо держался того, что реликвии настоящие. Что касается сыновних признаний, тут у него был один контрдовод: «Я лучше знаю своего сына: это такая бездарность, что он просто неспособен состряпать хотя бы одну стихотворную строчку».
Правда, позднее Уильям Генри попробовал себя в нескольких томиках стихов и одном романе, но они годились разве на то, чтобы еще раз показать: одно дело хороший подражатель, другое — слабый поэт.
В дальнейшей жизни его бросало в разные стороны: работал в библиотеке, давая книги в долг, был копиистом, актером, уличным писарем и мошенничал. Умер в нищете 17 апреля 1835 года.
И в его случае возникает все тот же вопрос: что навело его на мысль о фальсификации? Может быть, он хотел угодить отцу, может, получал за свои подделки деньги, а может, в его голове бродили честолюбивые мысли: начать с розыгрыша, выбиться в большие поэты и сбросить маску?..
Вслед за пером писателя
Легенда о Вильгельме Телле
Альтдорф — городок в Швейцарии, известный тем, что наместник герцогов Габсбургов на рыночной площади велел установить шест со шляпой герцога на верхушке, которой всем и каждому надо было низко кланяться.
Ныне статуя на рыночной площади увековечивает в бронзе память о Вильгельме Телле, который не стал кланяться и которого наместник Гесслер вынудил стрелой из лука сбить яблоко с головы собственного сынишки. Как говорит предание, памятник установлен на том самом месте, где стоял тогда стрелок-снайпер Телль.
Стоят чередой и другие памятники истории Телля: на берегу люцернского озера стоит Teilsplatte, плоская скала — сюда забрался Телль с корабля Гесс лера и отсюда его столкнули в бушующие волны. За нею построенная в его честь Teilskapelle, далее следует, по дороге в Кюшнахт, Hohle Gasse — ущелье, где Телль послал стрелу отмщения в самое сердце Гесслера.
Герой борьбы за свободу Швейцарии был воспет Фридрихом Шиллером. Драма Шиллера позолотила мировой славой исторического Телля.
В знак благодарности на стене отвесной скалы Мишенштейн, вздымающейся из озера Ури, три первоначальных кантона (Ури, Швиц, Унтервальден) гигантскими буквами высекли надпись: «Фридриху Шиллеру, воспевшему Телля, первоначальные кантоны, 1859».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Народ, открытый на кончике пера
Народ, открытый на кончике пера До 40-х годов XIX века о существовании цивилизаций Древней Месопотамии — Вавилонии и Ассирии — было известно по скудным и многократно искажавшим реальность повествованиям Библии, а также из исторических рассказов Геродота и тенденциозных
ВЕРСИЯ ПИСАТЕЛЯ
ВЕРСИЯ ПИСАТЕЛЯ В конце 50-х годов весьма осведомленный человек-сын генерала МГБ писатель Евгений Д. утверждал, что Берия, чувствуя затягивавшуюся вокруг его горла петлю, отравил
10. ОРДЕН ХРАМА БАРОНА ФОН ГУНДА И «РЫЦАРЬ КРАСНОГО ПЕРА»
10. ОРДЕН ХРАМА БАРОНА ФОН ГУНДА И «РЫЦАРЬ КРАСНОГО ПЕРА» Возрождение тамплиерских идей в Германии и Австрии было связано прежде всего с именем имперского барона Карла Готтгельфа фон Гунда унд Альтенгроткау. Барон фон Гунд (в русскоязычной исторической литературе
Шестидесятые, пузатые. Союз пера, серпа и молота
Шестидесятые, пузатые. Союз пера, серпа и молота На исходе 1950-х и особенно с начала 1960-х в жизни даже обычных, незатейливых, как дачный туалет, советских пивных вдруг все стало как-то необычно меняться. Но на этот раз не в инфраструктуре. Главная перемена касалась
Путь писателя
Путь писателя В 1846 г. Шарлотта Бронте воплотила в жизнь новый план: три сестры издали за свой счет сборник стихов, взяв мужские псевдонимы: Каррер, Эллис и Эктон Белл. Было продано всего два экземпляра книги, и появилась одна рецензия, автор которой отметил поэтический
Мастера пера
Мастера пера Не трогаем Салтыкова-Щедрина, Аксаковых, Хомякова, Писемского и других русских писателей без примеси иностранной крови. И все же трудно удержаться, чтобы не привести отрывочек из «Писем к тетеньке» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина: «Ах, тетенька,
«Орден Храма» барона фон Гунда и «рыцарь Красного пера»
«Орден Храма» барона фон Гунда и «рыцарь Красного пера» Возрождение тамплиерских идей в Германии и Австрии было связано, прежде всего, с именем имперского барона Карла Готтгельфа фон Гунда унд Альтенгроткау. Барон фон Гунд (в русскоязычной исторической
Святые — герои пера и пистолета
Святые — герои пера и пистолета У русской интеллигенции издавна существовали собственные святцы, куда заносились имена героических борцов (часто совсем не тех, кого чтил народ). Культ Ленина явился кульминационной точкой процесса ступенчатого развития в среде
Власть пера
Власть пера В день Сашиной казни Владимир готовился к выпускным экзаменам в гимназии. Его выдающиеся академические успехи (он получил высшие оценки по всем предметам, за исключением логики) продемонстрировали редкую способность юноши концентрировать все свои силы и
«Русские княжили на Гран-рю-де-Пера…»
«Русские княжили на Гран-рю-де-Пера…» Современников поражало в Стамбуле обилие вывесок, свидетельствующих о российском происхождении их владельцев. И было уже совсем не важно, что хозяева пытаются разговаривать на иностранных языках, ибо в большинстве своем их
Мечта писателя Павленко
Мечта писателя Павленко Весом вклад русской эмиграции 20-х годов прошлого века в просвещение жителей Стамбула. Недолгим было пребывание элиты русской культуры и искусства в Константинополе. Однако благодаря во многом их подвижничеству Стамбул узнал о русском балете,
Глава 12 Каббала или «проба пера»?
Глава 12 Каббала или «проба пера»? После того, как в 1923 году в Берлине вышла книга Р. А. Вильтона «Последние дни Романовых», в среде русской эмиграции повелись разговоры о каббалистических надписях, начертанных на стене той самой «расстрельной» комнаты дома Ипатьева. Одна
Судьба писателя Титаренко
Судьба писателя Титаренко Была у четы Горбачевых одна тайна, тщательно скрываемая от начальства и от народа. У Раисы Максимовны Горбачевой, Титаренко до замужества, была сестра Людмила и брат Евгений. Сестра пошла по медицинскому профилю. Сейчас живет в Уфе. Младший брат