Глава IX
Глава IX
Джидда понравилась нам по дороге в Консульство: поэтому после ленча, когда стало немного прохладнее, или, по меньшей мере, солнце стояло не так высоко, мы вышли побродить по окрестностям. Проводником нашим был Янг, ассистент Вильсона, человек, находивший много хорошего в прошлом, но мало — в том, что делалось в наши дни.
Это был на самом деле примечательный город. Улицы были прямые, покрытые деревянными навесами на главном базаре, но в остальных местах, в небольших промежутках между крышами высоких белых домов, открывалось небо. Дома эти были выстроены в четыре или пять этажей из кораллового песчаника, соединенного балками в виде прямоугольников, и украшены широкими эркерами из серых деревянных панелей от земли до крыши. Стекол в Джидде не было, но было много хороших решеток, и на панелях оконных рам попадалась очень тонкая отделка. Двери состояли из двух тяжелых створок тикового дерева, с глубокой резьбой, часто с окошечками, у них были богато украшенные петли и кольца для стучания из кованого железа. Много было литья или штукатурки, а у более старых домов — прекрасные каменные верхние брусья и косяки окон, выходящих на внутренние дворики.
Архитектурный стиль напоминал причудливую полудеревянную работу елизаветинских времен, по изысканной чеширской моде, только невероятно искаженную. Фасады домов украшались резьбой, лепниной и отверстиями, похожие на картонные декорации романтической постановки. Каждый этаж выступал, каждое окно клонилось в ту или другую сторону, часто даже стены были покосившиеся. Здесь было как в мертвом городе, так же чисто под ногами и так же тихо. Извилистые ровные улицы были устланы сырым песком, уплотненным временем и приглушавшим шаги, как ковер. Решетки и углы подавляли малейшее эхо. Не было телег, не было и улиц, достаточно широких для телег, не было ни подкованных животных, ни суеты. Все казалось заброшенным, напряженным, даже затаившимся. Двери домов мягко закрывались, когда мы проходили. Не лаяли собаки, не плакали дети: вообще везде, кроме базара, тоже наполовину спящего, было мало прохожих; и те люди, которых мы изредка встречали, все худые и явно истощенные болезнью, с безволосыми лицами, покрытыми шрамами, и сощуренными глазами, проскальзывали мимо быстро и осторожно, не глядя на нас. В своих убогих белых рубахах, маленьких шапочках на бритых башках, в красных хлопчатобумажных шалях на плечах и с босыми ногами они казались одинаковыми, как будто носили униформу.
Атмосфера была давящая, мертвенная. Казалось, здесь не было жизни. Жары не было, но сохранялась влажность и чувство великой древности и истощения, которое не было свойственно никакому другому месту: это было не буйство запахов, как в Смирне, Неаполе или Марселе, но чувство долгой изношенности, испарений множества людей, длительного банного жара и пота. Можно сказать, что за год Джидда не продувалась насквозь постоянным бризом: ее улицы сохраняли свой воздух с конца года до конца следующего года, со дня, когда были выстроены, до тех пор, пока будут стоять эти дома. На базарах купить было нечего.
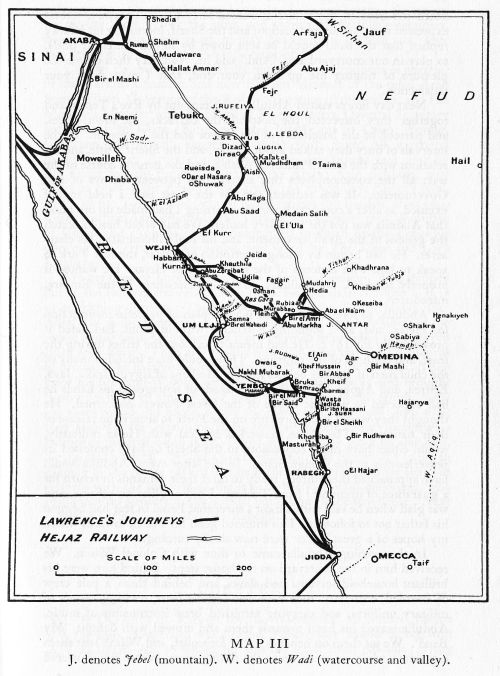
Вечером зазвонил телефон, и шериф позвал Сторрса к аппарату. Он спросил, не хотим ли мы послушать его оркестр. Сторрс в изумлении спросил: «Какой оркестр?» — и поздравил его святейшество с таким крупным продвижением к изысканной жизни. Шериф объяснил, что в штабе хиджазского командования при турках имелся медный духовой оркестр, который играл каждый вечер для генерал-губернатора; и когда генерал-губернатор был взят в плен Абдуллой в Таифе, его оркестр попал в плен вместе с ним. Другие пленные были посланы в Египет для интернирования, но оркестр стал исключением. Его оставили в Мекке, чтобы музыку теперь заказывали победители. Шериф Хуссейн положил свою трубку на стол в приемном зале, и мы, один за другим с важностью подходя к телефону, слушали оркестр из дворца в Мекке, находившегося за сорок пять миль отсюда. Сторрс выразил величайшее удовлетворение, и шериф, умножая свою щедрость, ответил, что оркестр будет выслан в Джидду форсированным маршем, чтобы сыграть и в нашем дворике. «И тогда, — сказал он, — вы можете доставить мне удовольствие и позвонить с вашей стороны, чтобы я мог разделить ваше наслаждение».
На следующий день Сторрс посетил Абдуллу в его палатке у Могилы Евы; и вместе они обследовали госпиталь, бараки, городские конторы, воспользовавшись гостеприимством мэра и губернатора. В промежутках между делами они говорили о деньгах, и о титуле шерифа, и о его отношениях с другими аравийскими принцами, и о генеральном курсе войны: все те общие места, что должны появиться в разговоре между представителями двух правительств. Это было утомительно, и от большей части их разговора я себя избавил, так как после утренней беседы пришел к мысли, что Абдулла не был тем лидером, в котором я нуждался. Мы попросили его набросать происхождение арабского движения: и его ответ прояснил его характер. Он начал с длинного описания Талаата, первого из турок, который заговорил с ним о проблеме беспорядков в Хиджазе. Он хотел, чтобы они были должным образом усмирены, и введена, как по всей Империи, военная служба.
Абдулла, чтобы предвосхитить его действия, составил план мирного переворота в Хиджазе, и после того, как осторожные расспросы Китченера не дали результатов, предварительно отнес его осуществление к 1915 году. Он намеревался созвать племена во время праздника и взять паломников в заложники. В их число вошли бы многие из турецкого руководства, помимо ведущих мусульман Египта, Индии, Явы, Эритреи и Алжира. С этими тысячами заложников в руках он собирался привлечь внимание высших властей. Он думал, что эти страны надавят на Порту, чтобы обеспечить освобождение своих соотечественников. Порта, недостаточно сильная, чтобы иметь дело с Хиджазом в военном плане, или заключила бы концессию с шерифом, или признала бы свое бессилие перед иностранными государствами. В последнем случае Абдулла связался бы с ними напрямую, готовый пойти навстречу их требованиям в обмен на гарантию неприкосновенности от Турции. Мне его план не понравился, и я был рад, когда он сказал с полуусмешкой, что Фейсал в страхе умолил отца не принимать его. Это говорило в пользу Фейсала, к которому теперь медленно поворачивались мои надежды на великого вождя.
Вечером Абдулла пришел отужинать с полковником Вильсоном. Мы приняли его во внутреннем дворике на ступенях дома. За ним располагались его великолепные домашние слуги и рабы, а за ними — кучка бледных, бородатых, изнуренных людей с удрученными лицами, в оборванной военной форме и с тусклыми медными музыкальными инструментами. Абдулла повел рукой в их сторону и сказал с восхищением: «Мой оркестр». Мы усадили их на скамьи во внешнем дворе, и Вильсон послал им сигарет, а мы пока прошли в столовую, где распахнутые двери балкона жадно ловили морской бриз. Когда мы сели, оркестр, под угрозой ружей и мечей служителей Абдуллы, начал вразнобой исполнять душераздирающие турецкие мотивы. У нас от этого шума уши завяли, но Абдулла сиял.
Любопытное собралось общество. Сам Абдулла, вице-президент in partibus[37] турецкой Палаты, а теперь министр иностранных дел восставшего арабского государства; Вильсон, губернатор Суданской провинции Красного моря и министр Его Величества у шерифа Мекки; Сторрс, секретарь по делам Востока, преемник Горста, Китченера и Мак-Магона в Каире; Янг, Кокрейн и я — примкнувшие к ним штабные; Сайед Али, генерал египетской армии, командир отряда, посланного сердаром помогать первым попыткам арабов; Азиз эль Масри, ныне начальник штаба регулярной арабской армии, но когда-то соперник Энвера, вождь турецких и сенуссийских сил против итальянцев, глава заговорщиков среди арабских офицеров в турецкой армии против «Комитета Единения и Прогресса», приговоренный к смерти турками за следование Лозаннскому договору, и спасенный газетой «Таймс» и лордом Китченером.
Мы устали от турецкой музыки и попросили немецкой. Азиз вышел на балкон и по-турецки крикнул оркестрантам сыграть нам что-нибудь заграничное. Они, дрожа, затянули «Deutschland ?ber Alles»[38] как раз в тот момент, когда шериф подошел к своему телефону в Мекке послушать музыку на нашем празднике. Мы потребовали еще немецкой музыки, и они сыграли «Eine feste Burg»[39]. На середине звуки барабанов увяли, превратившись в дряблые диссонансы. В сыром воздухе Джидды кожа на барабанах растянулась. Попросили огня, и слуги Вильсона вместе с охраной Абдуллы принесли охапки соломы и коробки. Музыканты подсушили барабаны, поворачивая их перед пламенем, и затем грянули то, что назвали «Гимном Ненависти»[40], хотя невозможно было узнать в этих звуках что-либо европейское. Сайед Али повернулся к Абдулле и сказал: «Это марш смерти». Абдулла расширил глаза: но Сторрс, быстро пришедший на помощь, обратил все это в шутку; и мы послали остатки пиршества в награду злополучным музыкантам, которые не радовались нашим похвалам, но лишь умоляли, чтобы их отправили домой. На следующее утро я покинул Джидду, отправившись на корабле в Рабег.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
6. ИЗРАИЛЬСКИЕ И ИУДЕЙСКИЕ ЦАРИ КАК РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ В ИМПЕРИИ. ИЗРАИЛЬСКИЙ ЦАРЬ — ЭТО ГЛАВА ОРДЫ, ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. ИУДЕЙСКИЙ ЦАРЬ — ЭТО МИТРОПОЛИТ, ГЛАВА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
6. ИЗРАИЛЬСКИЕ И ИУДЕЙСКИЕ ЦАРИ КАК РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ В ИМПЕРИИ. ИЗРАИЛЬСКИЙ ЦАРЬ — ЭТО ГЛАВА ОРДЫ, ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. ИУДЕЙСКИЙ ЦАРЬ — ЭТО МИТРОПОЛИТ, ГЛАВА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ Не исключено, что Израиль и Иудея — это два названия одного и того же царства, то есть
Глава 18 САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЛАВА
Глава 18 САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЛАВА Любители старой, добротной фантастической литературы помнят, конечно, роман Станислава Лема «Непобедимый». Для тех, кто еще не успел прочитать его, напомню краткое содержание. Поисково-спасательная команда на космическом корабле
Глава 18 САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЛАВА
Глава 18 САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЛАВА Любители старой, добротной фантастической литературы помнят, конечно, роман Станислава Лема «Непобедимый». Для тех, кто ещё не успел прочитать его, напомню краткое содержание. Поисково-спасательная команда на космическом корабле
Глава 4 Глава аппарата заместителя фюрера
Глава 4 Глава аппарата заместителя фюрера У Гитлера были скромные потребности. Ел он мало, не употреблял мяса, не курил, воздерживался от спиртных напитков. Гитлер был равнодушен к роскошной одежде, носил простой мундир в сравнении с великолепными нарядами рейхсмаршала
Глава 7 Глава 7 От разрушения Иеруесалима до восстания Бар-Кохбы (70-138 гг.)
Глава 7 Глава 7 От разрушения Иеруесалима до восстания Бар-Кохбы (70-138 гг.) 44. Иоханан бен Закай Когда иудейское государство еще существовало и боролось с Римом за свою независимость, мудрые духовные вожди народа предвидели скорую гибель отечества. И тем не менее они не
Глава 10 Свободное время одного из руководителей разведки — Короткая глава
Глава 10 Свободное время одного из руководителей разведки — Короткая глава Семейство в полном сборе! Какое редкое явление! Впервые за последние 8 лет мы собрались все вместе, включая бабушку моих детей. Это случилось в 1972 году в Москве, после моего возвращения из последней
Глава 101. Глава о наводнении
Глава 101. Глава о наводнении В этом же году от праздника пасхи до праздника св. Якова во время жатвы, не переставая, день и ночь лил дождь и такое случилось наводнение, что люди плавали по полям и дорогам. А когда убирали посевы, искали пригорки для того, чтобы на
Глава 133. Глава об опустошении Плоцкой земли
Глава 133. Глава об опустошении Плоцкой земли В этом же году упомянутый Мендольф, собрав множество, до тридцати тысяч, сражающихся: своих пруссов, литовцев и других языческих народов, вторгся в Мазовецкую землю. Там прежде всего он разорил город Плоцк, а затем
Глава 157. [Глава] рассказывает об опустошении города Мендзыжеч
Глава 157. [Глава] рассказывает об опустошении города Мендзыжеч В этом же году перед праздником св. Михаила польский князь Болеслав Благочестивый укрепил свой город Мендзыжеч бойницами. Но прежде чем он [город] был окружен рвами, Оттон, сын упомянутого
Глава 30 ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ТАК ОТСТУПАЛИ? Отдельная глава
Глава 30 ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ТАК ОТСТУПАЛИ? Отдельная глава Эта глава отдельная не потому, что выбивается из общей темы и задачи книги. Нет, теме-то полностью соответствует: правда и мифы истории. И все равно — выламывается из общего строя. Потому что особняком в истории стоит
34. Израильские и иудейские цари как разделение властей в империи Израильский царь — это глава Орды, военной администрации Иудейский царь — это митрополит, глава священнослужителей
34. Израильские и иудейские цари как разделение властей в империи Израильский царь — это глава Орды, военной администрации Иудейский царь — это митрополит, глава священнослужителей Видимо, Израиль и Иудея являются лишь двумя разными названиями одного и того же царства
Глава 7. Лирико-энциклопедическая глава
Глава 7. Лирико-энциклопедическая глава Хорошо известен феномен сведения всей информации о мире под политически выверенном на тот момент углом зрения в «Большой советской…», «Малой советской…» и ещё раз «Большой советской…», а всего, значит, в трёх энциклопедиях,
Глава 21. Князь Павел – возможный глава советского правительства
Глава 21. Князь Павел – возможный глава советского правительства В 1866 году у князя Дмитрия Долгорукого родились близнецы: Петр и Павел. Оба мальчика, бесспорно, заслуживают нашего внимания, но князь Павел Дмитриевич Долгоруков добился известности как русский
Глава 7 ГЛАВА ЦЕРКВИ, ПОДДАННЫЙ ИМПЕРАТОРА: АРМЯНСКИЙ КАТОЛИКОС НА СТЫКЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИМПЕРИИ. 1828–1914
Глава 7 ГЛАВА ЦЕРКВИ, ПОДДАННЫЙ ИМПЕРАТОРА: АРМЯНСКИЙ КАТОЛИКОС НА СТЫКЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИМПЕРИИ. 1828–1914 © 2006 Paul W. WerthВ истории редко случалось, чтобы географические границы религиозных сообществ совпадали с границами государств. Поэтому для отправления