1. ИЗГОРОДЬ
1. ИЗГОРОДЬ
Работа была окончена. Лоб его пылал, глаза рассеянно обводили каморку, не видя ни топчана с тряпьем, ни грубо сколоченного, заваленного бумагами стола, ни оплывшего огарка. Хотя точка была уже поставлена на последней фразе и он понимал, что сказал все, что хотел, огонь в нем еще горел, и душа жаждала излиться. Последний лист бумаги был донизу исписан, он перевернул его, поднял лицо к сумраку потолка, немного помедлил, и перо само быстро-быстро заскользило по чуть косо положенному белому полю.
Главнокомандующий Господь,
Он правит нашей душой.
Ищите его, смиряя плоть,
И вы обретете покой.
Кому же плоть дороже всего,
Цель жизни и поводырь, —
Низвергнет, накажет себя самого
И лопнет, как мыльный пузырь.
Огарок затрещал и рассыпал искры. Тень шелохнулась на потолке. Стихи сами полились дальше.
Средь бурь, испытаний, и бед, и страстей,
Свергая обычай времен,
Бог Зверя теснит и спасает людей,
Их дух очищая огнем.
Отбрось же вражду, человеческий род!
(Сколь многие брани хотят!)
Господь спасет угнетенных: придет
Христос, наш старший брат.
Он поднялся, прошелся по каморке. Четыре шага до двери и опять к столу, к груде исписанных, закапанных воском листков. За тонкой перегородкой заворочался, забормотал во сне старик. Сколько времени он писал? Час, два? Всю ночь? И словно в ответ ему в деревне сонно и хрипло прокричал петух. Счастливая ночь кончалась. Скоро начнут выгонять коров.
Джерард Уинстэнли взял в руки последний листок, перечитал написанное, вздохнул и дописал:
Но нет, неспокойны, несыты еще
И злобны сердца людей.
Вчера было жарко, сейчас горячо,
А будет еще горячей.
Ведь должен же Зверь свершить свой труд,
Сыграть свою роль до конца.
Но вот он низвергнут. Святые встают,
Поют «Аллилуйя» сердца.
Почти под самым окном громко замычала корова, защебетали, просыпаясь, птицы. Джерард задул огарок и вышел на улицу.
Небо светлело. Стоял апрель 1648 года. И явственно, волнующе пробуждалась земля. От нее исходил ни с чем не сравнимый сырой запах ранней весны. И этот запах, и розовеющая на небе полоска, и ликующий весенний гомон птиц, и ночь, полная самозабвенного высокого труда, все казалось ему прекрасным. Божественный свет переполнял его. Он был счастлив.
— Мистер Уинстэнли! Мистер Уинстэнли!
По дороге бежала, задыхаясь, женщина. Из фартука, который она придерживала на животе руками, вываливался хворост. Он шагнул навстречу, подхватил готовую было рухнуть груду.
— В чем дело, Дженни? Заболел кто-нибудь?
— Нет, мистер Уинстэнли… — она задыхалась. — Беда!
— Что случилось? Может, зайдешь в дом, присядешь?
— О нет, благодарю… Мне кормить своих надо, я сейчас побегу… Я пошла собирать хворост на ближний выгон… Подхожу, темно еще, и вижу: будто я не туда зашла! Изгородь! Ее отродясь там не было. Это что же теперь — ни хворосту собрать, ни коров выгнать? Вы все время там пасли, вы знаете. Как же?..
Круглое честное лицо Дженни, тронутое ранними морщинами, горело, волосы выбились из-под чепца, над верхней губой блестели капельки пота. Испуганные глаза ждали помощи.
Значит, вчера вечером лорд, владелец земли, приказал своим работникам огородить общинный выгон. Весь манор, большое поместье, принадлежал ему по наследственному праву. Пахотную землю обрабатывали для него крестьяне — держатели и бедные арендаторы, чьи хижины лепились к подножию холма святого Георгия со стороны Уолтона. Но в манор входили еще и заливные луга вдоль Моля, и пойменные болотца, и обширные выгоны, на которых никогда никто не сеял, и рощицы, и сам холм, огромный и горбатый. Испокон века крестьяне косили здесь траву, пасли коров, собирали хворост. Теперь же, когда бедняков стало так много, когда поборы, произвол лордов и война разорили деревню до нищеты, выгоны и болотца эти стали для многих чуть ли не единственным спасением. В прибрежных тростниках можно было поймать в силки дикую утку, на лугу подбить зайца или, если повезет, лису. В роще собрать хворост для очага, в овраге скосить траву для коровы. Древний обычай свято охранял эту землю — общинные крестьянские угодья. А вот сейчас лорд, пользуясь междувластием, отгородил ее, вытеснив деревенских жителей, объявил ее своей безраздельной собственностью. Все помешались на собственности. Как будто и борьба в парламенте, и кровь гражданской войны, и бесконечные потери и бедствия были только прелюдией. Главное же — хватать, огораживать свое добро, никого не допускать к нему…
Он посмотрел на женщину. Ветхая шаль, стоптанные деревянные башмаки, исцарапанные, огрубелые руки… Как ей помочь? Ей и всем тем, кого эта проклятая изгородь лишила пищи, сена, топлива? Сердце стеснила знакомая тупая боль, радостное возбуждение ночи потухло. «Аллилуйя» петь еще рано, горько усмехнулся он про себя. Надо что-то делать. Грош цена тому, кто говорит и не делает.
— Дженни, ты сейчас иди домой. Я соберу стадо, прихвачу кое-кого из людей, и мы пойдем туда посмотрим. Не горюй, что-нибудь придумаем. Держи свой хворост.
Он бережно положил охапку в старый фартук, ободряюще улыбнулся и, только когда она, несколько успокоенная, пошла прочь, оглянулся вокруг. Лицо его сделалось озабоченным.
Дорогу постепенно заполняло теплое, сонное, пахнущее молоком и навозом стадо. Кое-где дети хворостинками стегали по бокам непослушных. Стадо шло знакомым, изо дня в день проторенным путем — дорога через село, малая роща, ближний выгон с болотцем и осокой… И вот теперь поперек этой дороги — наглая новенькая изгородь. До последнего придорожного кустика знакомые, исхоженные, вдоль и поперек места недоступны. Куда же теперь гнать коров?
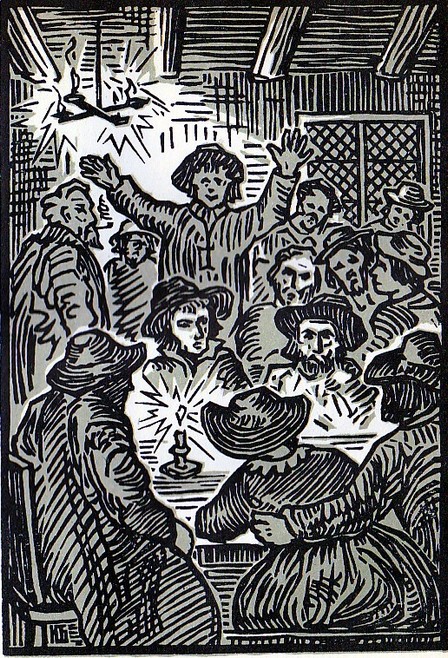
В гуще черно-белого стада произошло движение. К нему шел, почти бежал маленький человечек со злым, сморщенным лицом. Огромный бык с отталкивающей тупой мордой и дважды перевязанными цепью рогами двигался за ним следом.
— Ну вот, дожили, — сказал человечек. — Ты уже знаешь?
— Знаю, Саймон.
— И что теперь?
— Надо пойти посмотреть. Что он нам оставил.
— А потом?
— Тогда и будем решать.
— Эх! — Саймон Сойер в сердцах взмахнул кулаком, на котором была намотана цепь, она зазвенела, бык боднул короткими рогами воздух. — Разрази их всех гром! Дьяволы! Мало им нашей крови! Мало того, что в каждом доме ночуют солдаты! Мало рент, штрафов, поборов! Они выгоняют бедняков из родного прихода, едва те заболеют или покалечатся на их же пашнях! Больных везут на телегах за сто миль, лишь бы не давать им пособия! А теперь и последнее у нас отбирают — пустошь! Отродья сатаны! Чтоб им никогда больше имени божьего не услышать! Чтоб им сгнить заживо!..
— Подожди… — Джерард поморщился. Он давно уже понял недейственность злобы. Разум должен быть спокоен. Вот и старый Кристофер вышел из лачуги — одной головой больше. И еще несколько фигур спешат с разных концов деревни. Джерард поднял руку, старик протянул ему кнут, и три удара, как выстрелы, как сигнал, хлопнули в воздухе. Бык взревел, коровы с краю шарахнулись, и вся лавина — коровы, козы, ягнята, подростки, вслед за вскрикивающими и тревожно переговаривающимися взрослыми покатилась за село, к роще, к ближнему выгону, которого больше для них не существовало.
Несколько часов спустя Джерард сидел один на холме святого Георгия под дубом, коровы вольно разбрелись по пустоши, а он все переживал события утра.
Ближний выгон вернуть не удалось. Со сказочной быстротой выросшая за ночь прочная ограда, для острастки перевитая терновником, закрыла к нему путь. Так распорядился владелец манора — сэр Фрэнсис Дрейк. На него того и гляди наложат крупный штраф за связи с роялистами — вот и надо поднять доходы. Он будет разводить овец, наемники его — шустрые перекупщики из города — станут продавать шерсть на суконные мануфактуры. Благо управы теперь нету — король в плену на острове Уайт, парламент занят внутренними распрями, Армия бунтует. Раньше хоть статуты против огораживаний выпускались…
Ну собрались они на заре к этой изгороди, ну поохали, ну покричали. Женщины поплакали. Кое-кто из самых рассудительных поговаривал, что надо писать петицию в парламент. Так и сказать: житья от лордов нету, при короле и то больше порядка было. Саймон Сойер, неугомонный заводила, сначала грозил бунтом, красным петухом, а потом уговорил всех пойти к судье. Тучный судья нехотя вышел к ним, скорбно скривился, послушав возмущенные речи, и сказал то, что и следовало ожидать: эта земля по наследственному праву принадлежит сэру Фрэнсису Дрейку, он волен ставить изгородь там, где ему заблагорассудится.
— Но древние обычаи! Наши промыслы! — кричали ему. — Помогите, господин судья, нам нечем топить, нечем кормить коров, а коровы кормят наших детей!..
Да ведь судья каждую неделю обедает в доме у лорда. И в церкви сидит рядом с ним на почетном месте.
— Ежели вы будете бунтовать, — отвечает он, — я вызову войска. А тебе, Джон Полмер, давно пора вносить арендную плату — ты забыл? А тебе, Саймон Сойер, следовало бы быть поосторожнее — ты вообще в нашем приходе без году неделя. Ты и хижину без разрешения построил.
И притихли, потупили головы бедняки, отошли в молчании от добротного судейского дома. И Джерард отошел, хотя чувствовал, что не должен он молчать. Несправедливость мира сего требовала действия, борьбы, воли. Конечно, идти с топорами на господский дом или поджигать амбары, как предлагал Саймон, нелепо: их слишком мало, они разрозненны и слабы. Бунт будет подавлен в тот же час, как начнется. Написать в парламент? Но у сытых джентльменов из нижней палаты и без них забот хватает: переговоры с королем, растущее влияние Армии, движение левеллеров… Парламент не станет их слушать.
Надо искать иной путь — путь осознания, что есть свобода, что есть правда, что — справедливость. Он поднял голову: пусть все займутся своим делом. Он поведет стадо на холм — там достанет общинной земли на всех. Бедняки привыкли уважать его спокойное негромкое слово. Они разошлись.
Осознать, что есть справедливость… Он подумал о труде, который закончил ночью. «Наступление дня божьего» назывался трактат, второй его трактат. К сорока годам он вдруг открыл в себе способность писать, и этот дар спасал его от того бедствия, в которое ввергла его судьба пять лет назад.
То было тяжелое время. Сокрушительное разорение, горечь от обмана со стороны компаньона, предательство Сузан… Все, что с таким истовым усердием создавал он своими руками — хороший дом в Лондоне, налаженный семейный уклад (с каким трепетом он жаждал ребенка!), добротный, полный товаров магазин готового платья, — все рухнуло внезапно, пошло прахом… Гражданская война разорила многих. Судьба выбросила его, нищего, одинокого, преданного всеми, сюда, в каморку к старому Кристоферу, к простым, бедным и несчастливым, как он сам, людям. Подумать только: Джерард Уинстэнли из Ланкашира, сын купца, полномочный член компании торговцев готовым платьем в Лондоне, женатый на дочке известного хирурга, — теперь пасет скот своих соседей на окраине нищей деревеньки! Он потерял все, и отчаяние от своих несчастий еще во много крат усугублялось жгучим страданием при виде бедствий, в которых жил народ вокруг него.
Тягостная, темная, нищая жизнь. Бесконечные унижения. Нищета и грязь вокруг, больные дети, голод… Бесправие. Парламент сотрясали словесные бури, короля перевозили из замка в замок, враждующие армии проливали кровь, борясь за «истинные права» и «истинные свободы», а в деревне все оставалось по-старому. Нет, хуже, чем по-старому, ибо цены росли, ренты поднимались, солдаты стояли почти в каждом доме и опустошали и без того скудные закрома, нужда и голод гнали бедняков из селения в селение…
Когда Джерард был лондонским купцом и членом компании, он едва ли задумывался над тем, что его слуги или те, кто взрастил хлеб, лежащий у него на столе, — тоже люди. И годы бедствий понадобились для того, чтобы он, вкусив горький хлеб нужды, понял, что бедняк и есть самый лучший, самый достойный милости человек на свете. Он обладает умом, совестью, он отзывчив на добро, готов поделиться последним, пожертвовать собой. Джерард, живя в деревне, ощутил свое единство с простым трудящимся людом и обрел в этом единстве спокойную уверенность и силу. Безмерные страдания бедняков жгли огнем, он чувствовал, что должен им помочь. И он обратился к тому высшему началу, которое жило внутри него и побуждало к действию.
В долгие часы ночных размышлений или днем, на лугу, когда коровы разбредались по пастбищу и он мог отдаться своим думам, сила, более высокая, чем земной человеческий рассудок, пробуждалась в нем, приходили странные, яркие мысли, внезапные, как озарения. «Моя прежняя жизнь и все ее радости, — думал он, — были связаны с внешним, тварным миром — с богатством, друзьями, чувством удовлетворения самим собой. Я находил удовольствие в тщеславии, в комфорте для моего тела. А сейчас господу было угодно очистить мою душу, вынуть из нее шелуху мирскую, чтобы она услышала его голос».
И голос заговорил в нем. Судьба не наказала его, а освободила. Он почувствовал себя Давидом, который должен выйти на битву. Но не плотский, разящий тело меч поднимал он. Оставим Кромвелю и Фэрфаксу страшное дело кровопролития. Джерард Уинстэнли будет сражаться с грехом и проклятием, которые губят душу. На эту борьбу он выходил с открытым забралом, сжимая в руке перо. Он сознавал себя орудием божьим. «Бог не всегда выбирает мудрых, ученых, богатых мира сего, чтобы через них явить себя, он избирает презираемых, неученых, бедных, ничтожных в мире сем и наполняет их своим добром, а других отпускает с пустыми руками».
И еще он понял: те чистые души, которые влачат бремя полуголодной и оскорбляемой на каждом шагу жизни, не могут и после смерти идти в геенну. Даже те, кто по темноте своей заслужил вечный огонь, должны быть в конце концов прощены. Он давно чувствовал, что нечто общее, живое, человеческое и божественное одновременно, заключено в каждом. Нет конченого негодяя на земле, как нет и святого, — в каждом, как в разбойнике благоразумном, живет искра добра и правды. Поэтому спасены будут все!
Об этом он и написал свой первый трактат — «Тайна бога». Бог любит всех людей — такова была главная мысль. Первородный грех — не некое проклятие, тяготеющее над родом людским, а вполне осязаемое зло: это жадность и себялюбие. В сердце прародителя Адама поселился Змий гордости и алчности; все беды и разрушения в мире — от него. Но злого демона этого может одолеть каждый — одолеть внутри себя. И тогда мир снова станет раем. Отвергая свою прошлую — корыстную, плотскую жизнь, он вместе с ней отверг и условия бытия подобных ему, скованных подсчетами прибыли дельцов. Он отрекся от их взгляда на мир, от погони за деньгами. Их миром правит зло алчности и себялюбия — так пусть же оно будет вырвано с корнем из душ всех людей, пусть низвергнется в бездну вместе со всеми установлениями порочного, его порождающего мира.
Он отдавал себе отчет в том, что пишет непростительную ересь. Издавна, еще с елизаветинских времен, утвердилась в Англии кальвинистская доктрина, согласно которой одни ее жители избраны богом, а другие, большинство, навеки прокляты. При этом ученые пасторы, вещавшие с церковных кафедр, недвусмысленно давали понять, что знак мирского благоденствия — одновременно и знак божьего избрания. Значит, проклятыми и обреченными на вечный огонь оказывались именно бедняки, страдальцы и на земле, и за гробом. Против этого-то Джерард Уинстэнли и осмелился поднять голос.
Сегодня ночью он закончил новый трактат, который посвятил «презираемым сынам и дщерям Сиона» — чистым душой беднякам.
Джерард расправил поудобнее свой старенький плащ, брошенный на землю, лег навзничь и поднял глаза к смутному, затянутому облаками небу. Бессонная ночь давала себя знать: тело словно набили соломой. Мысли текли по привычному руслу. Собственно, кто такие святые? Это те, кто имеет в себе дух Христов, тот самый свет, который и он познал по милости божьей. Это не дворяне и не купцы, не лендлорды, законники и пасторы. Это и не солдаты, воюющие оружием плоти. Это неимущие, обездоленные. Те, кто растит хлеб своими руками. Против кого кричат проповедники, кого преследует закон. Страдания очищают им души и делают их воистину детьми света. Вот Джон Полмер, фамилист, он ведь настоящий святой. Кротчайший человек, и мухи не обидит… И Дженни, его жена, — святая женщина. Если бы Сузан хоть немного на нее походила…
В небе кое-где проглядывали голубоватые бледные клочки, рассеянный свет резал глаза; Джерард сомкнул веки, не переставая думать о несовершенстве, о трагическом изъяне в окружающей его жизни…
Он увидел перед собой Сузан: она сидела у окна и вышивала. Лицо ее было спокойно — так спокойно и весело, как никогда не бывало в последний год их жизни. Он хотел подойти к ней и погладить открытую шею с завитками темных волос и плечи под яркой косынкой. Он желал ее и боялся. Он знал, что теперь у них будет дитя; все горести и мучительные несогласия ушли, будущий неведомый младенец все разрешил и чудесным обратил расставил по местам.
— Сузан, — сказал он, подходя к ней и несмело протягивая руку. — Сузан, как хорошо.
Она подняла к нему довольное гладкое лицо, губы раздвинулись в улыбке, и он вдруг увидел два ряда сверкающих золотых зубов у нее во рту. Это неприятно пугало, у нее никогда не было золотых зубов. Он не любил золота — наглого знака материального преуспеяния.
А она, продолжая улыбаться все шире, все ослепительнее, крепко взяла его за левую руку и стала сжимать запястье. Он взглянул и увидел, что рука ее, словно змея, трижды обвилась вокруг его предплечья и ползет все дальше, теперь направляясь к сердцу. И тут его осенило: Сузан имела несомненное отношение к Змию. Как же он раньше не догадался! Может быть, она сама и была Змием, духом плоти, отравившим мир, соблазнившим его своей бесстыдной прелестью?
Перед ним вдруг возникло лицо ее отца, который сокрушенно качал головой, как бы соглашаясь с ним: что поделаешь, что поделаешь… А рука-змея, холодная и неумолимая, уже добралась до сердца и, как бы пробуя силу, стала тихонько сжимать его… больше… больше… Смертный ужас обдал его холодным потом, он захрипел, ловя ртом воздух, и проснулся.
Солнце било в глаза. Сырость весенней земли прошла сквозь плащ и одежду. Джерард сел, помотал головой, оглянулся на стадо и увидел, что по дороге к нему поднимаются две фигуры.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Взгляд за изгородь
Взгляд за изгородь Немец живет в Германии. Янки живет в Оклахоме. Испанец живет в Испании. Но англичанин – дома… Этот популярный куплет вспомнился мне во время беседы с журналистом-парижанином, которому выпала судьба провести полжизни в Лондоне. Речь у нас шла о том, что