Россию разлучают с Балтикой
Россию разлучают с Балтикой
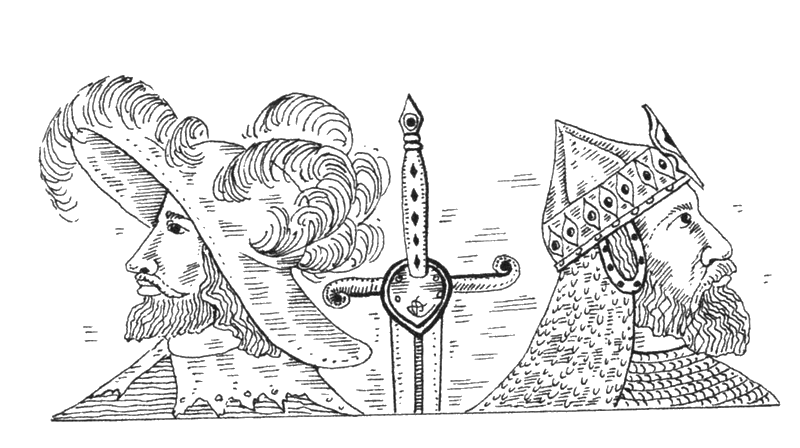
Едва отгремели на Москве пиры по случаю коронации Михаила и бояре вытерли о драгоценные бархатные скатерти руки, испачканные жиром нежной ряпушки из Плещеева озера что под Переславлем — ее подавали в заключение застолья в честь признания многовековой верности Переславля Москве, как Посольский приказ стал собирать первое после Смуты заграничное посольство к римскому императору Матфею. С этого единственного, как считали в Москве, равного по достоинству русскому царю властителя Москва собиралась начать восстановление прерванных Смутой связей с Европой. Посланцы Михаила должны были добиться признания его римским цесарем в качестве единственного законного правителя России и искать пути посредничества в установлении мира с Польшей и Швецией.
Дьяки отсчитывали связки сибирских соболей по сорок шкурок в каждой — на взятки императорским вельможам и чиновникам, — а назначенные в посольство дворянин Степан Михайлович Ушаков и дьяк Семый Заборовский брали под запись дорогие казенные одежды — от платьев с кружевами и бархатных колпаков, унизанных драгоценными камнями до поясов, расшитых серебром и золотом, в которых они должны были представлять царя Михаила Федоровича при цесарском дворе. Все, чего недоставало по бедности в Посольском приказе, вплоть до перстней и дорогих ожерелий, Ушаков и Заборовский собирали, как водится, по друзьям и знакомым: иностранцы должны были видеть, что Московское государство снова богато и царские слуги ни в чем не нуждаются. Впрочем, дьяки понимали, что пустить пыль в глаза Европе на этот раз не удастся — дары императору получились не в пример прошлым временам скромные, даже пришлось писать объяснение: поляки в Кремле все сокровища разграбили, поэтому пусть цесарь не думает, что великий князь решил его унизить столь жалкими подношениями.
Послам предписывалось не мешкая отправиться в Вологду, а оттуда в Архангельск, чтобы уже в июне отплыть на одном из купеческих судов в Любек, а далее сухим путем добираться до цесарских владений — искать императора, там где он будет.
В подробной инструкции излагалась вся история Смуты в благоприятной для царя Михаила интерпретации. Говорилось также о «неправдах» польского и шведского королей, Сигизмунда и Карла IX, сыновья которых якобы были один за другим избраны на московский престол.
Польского королевича Владислава московские люди, как гласила реляция, отвергли из-за обмана Сигизмунда, который захватил Смоленск, пленил посланное к нему русское посольство и отказался крестить сына в греческую веру, как обещал. Шведы были также виноваты перед русскими. Царь Василий Шуйский сполна расплатился за их военную помощь, но шведы коварно предали союзников во время сражения под Клушином, а затем Якоб Делагарди «искрадом за крестным целованием взял» Новгород. Впрочем, германскому императору не следовало придавать значение этому военному успеху. Царь послал на Новгород рать, которая побила шведов. «Ныне, чаем, Свейские люди из Новагорода и из пригородков от Государевых людей выбежали», — должны были заявить послы.
В Германии слышали, что ополчение избрало в Ярославле на русский престол шведского принца. Ко двору императора в Прагу был послан из Ярославля в июне 1612 года переводчик Еремей Еремеев Вестерман. Он вез грамоту от князя Пожарского с просьбой о денежной помощи и призывом умиротворить польского короля Сигизмунда. В письме сообщалось, что государя на Руси пока нет, этот вопрос решат после установления мира, но гонец от себя рассказал, что ополчение в Ярославле уже остановилось на кандидатуре шведского принца.
Ушакову и Заборовскому предписывалось этот факт попросту отрицать, не пытаясь, как в случае с Владиславом, отделаться полуправдой: «А будет Цесаревы думные люди учнут говорити: сказывал им переводчик Еремей Еремеев, который прислан из Ярославля, что обрали были Московского Государства бояре и воеводы и всякие люди на Московское государство Королевича Свейского Карла Филипа, и Новгородский митрополит Исидор и боярин и воевода князь Иван Одоевский и записми и крестным целованием с Яковом о том укрепились, что взяти на Московское Государство Карлусова сына Карла Филипа, — и Степану и дьяку Семому говорити: „то переводчик Еремей говорил не ведая, или затеял собою напрасно; нам про то подлинно ведомо: ни в мысли нашей всех того не было, что было обрати Карлова сына, видели мы, всякого зла много от Полского Королевича, о том у нас у всех Росийского Государства людей крепкий совет и утверженье и крест меж себя целовали на том, что ни из которого Государства, никого не из Российских Государств никоторого Государского сына не Греческие веры на Государство не обирати; а будет какие записи Яков Пунтусов велел митрополиту и князю Ивану Одоевскому написати и руки приложити в неволе, силно под саблею, того нам не ведомо“».
На вопросы о возрасте 17-летнего монарха Ушаков и Заборовский должны были отвечать, что ему исполнилось восемнадцать лет, поскольку возведение на престол несовершеннолетнего могло вызвать сомнения в Европе, а характеризовать Михаила следовало выстраданной в палатах Посольского приказа готовой формулой, не пускаясь в импровизации: «Бог Его Царское Величество украсил дородством, и образом и, храбрством, и разумом, и счастьем, и ко всем людем милостив и благонравен. А которая была в Российском Государстве до него Государя смута и рознь и в людех скорбь, того в радости забыли, кабы ничего не бывало».
Посольство провело за границей целый год, удостоилось приема в Линце у римского императора, завернуло в Голландию, успешно вербовало аптекарей, врачей и серебряных дел мастеров для России в Гамбурге и Любеке: Ушаков и Заборовский вернулись в Москву в конце августа 1614 года с сознанием исполненного долга, ожидая царской награды.
И тут разразилась буря. Боярская комиссия во главе с Федором Мстиславским, изучая привезенные послами ответы заграничных правителей, обнаружила, что главная цель посольства не достигнута: римский император не признал Михаила Федоровича! Если Голландские Штаты передали в Москву грамоту, где были указаны полный титул царя и его имя, то документ, врученный послам в Линце, не дотягивал до высокого звания грамоты, проходя по низкой категории «ответ». Более того, имени Михаила Федоровича там не было — везде значился лишь абстрактный Царь и Великий Князь. Император Матфей явно решил подстраховаться, не зная, кого же русские признают своим царем на самом деле: Михаила, Владислава, Карла Филипа или очередного Дмитрия!
Может быть, не сведущие в иностранных языках Степан и Семый просто не поняли, что там накалякали по-немецки ловкие приближенные императора Матфея? Перед грозными дознавателями предстал переводчик Тимофей Фанебич, сообщивший, что он сразу после приема у цесаря перевел ответ послам, но те не удосужились отослать оскорбительное послание назад, как должны были те сделать, даже рискуя собственной жизнью. Перетрусившие послы ссылались на неопытность: они впервые выехали за границу и не знали тонких отличий между грамотой и ответом. Имя Михаила Федоровича не было названо, но они думали, что так в Европе положено: ведь и сами немцы своего императора называли просто «Его Величество», как в устном общении, так и на письме.
Бояре еще готовы были снизойти до неотесанности Степана в вопросах дипломатии, но дьяк Семый долго служил в Посольском приказе и обязан был вступиться за царскую честь! Расспрос о ходе приема у императора показал, что послы и там умудрились уронить честь своего государя. Император Матфей, оказывается, ни разу не встал, как делали его предшественники, при упоминании имени русского царя, а лишь слегка приподнимался в кресле и снимал шляпу, что являлось неслыханным оскорблением. Послы были обязаны тут же заявить протест, а не терпеть подобное издевательство! Отвечали Семый и Степан покаянно, что виноваты, достойны смерти, но «учинили они то простотою, а не изменою и не умышленьем».
Однако обвинения в измене еще следовало опровергнуть. Провинившихся послов отдали приставам, их животы — то есть имущество — опечатали, а опытному в делах дознания думному дьяку Петру Третьякову поручили выпытать наедине у Тимохи — переводчика в деталях: как вели себя за границей послы, не жили ли по отдельности, не встречали ли днем или ночью гостей для тайных переговоров, как чтили на пирах своего государя и не дрались ли Степановы люди с немцами, а если дрались или секлись на саблях, то из-за чего и чем кончилось, какие подарки цесарь вручил послам при прощании и не утаили ли они чего? Перепуганный Тимофей отвечал как на духу.
Степан и Семый чести царской не уронили, пили всегда за его здоровье и держались всегда вместе, приглашая при разговоре с посланцами цесаря его, Тимофея. Правда, по бытовой части посольство шум за границей подняло, признался Тимоха. Прежде его о том не спрашивали, он и молчал, а теперь скажет. Передадим похождения послов в красочном изложении протокола дознания, сохранив стилистику того времени:
«А драка Степановым людем с Цесаревыми людми учинилась за то (делалось перед их отпуском, как им быть у Цесаря, за день): шла мимо Степанова двора девка, служащая шляхетного дому ото вдовы, а та вдова зговорена за Цесарева порутчика; и те Степановы люди, вышед с двора за ворота, тое вдовину девку ухватили и повалили; и увидев то порутчиков слуга, который ее провожал, тотчас подал весть порутчику, и порутчик, прискоча, девку отнял, и тут меж ими учинилась брань; и порутчик Степановых дву человех бил плашма и их ранил слегка; и приходил порутчик к Степану в том на людей его жаловаться, а Степан посылал к ближним людем на порутчика бить челом его, Тимофея. И Цесарю про тое драку учинилось тотже час ведомо, и Цесарь тот час велел про то сыскивать; и порутчик, услышев про сыск, ухоронился, и сказали, что его нет, без вести; и Цесарь велел тех Степановых людей лечить своим лекарем; и Степан посылал его Тимофея к маршалку о увечье людей своих бити челом и чтоб ему дали за людей его увечье из порутчиковых животов, и Степану в том отказали, а сказали что его нет, без вести, а рухлядишко его служилая запечатна, да и для того ему отказано в увечье, для чего де люди его ночью с двора сходят и задор с здешними людми чинят? Да Степанов же человек на том дворе, где стоял, хотел у дворника жену обезчестить; и дворник, услышев, за ним гонялся с протазаном и хотел его сколоть. А Степан, ведая людей своих воровство, от того их не унимал. Да Степановы же люди, напився пьяни и сидя в ночи долгое время, зажгли были в хоромах постелю, и толко бы вскоре сторожи не услышали, и от того бы учинился пожар. И он Тимофей Степану на людей его про их воровство сказывал и сам их унимал, чтоб они, будучи в чюжей земле, и такого безчестья не делали. И Степановы люди его Тимофея били, а Степан того не сыскивал. Да будучи в том городе, где Цесарь, и едучи дорогою, Степан и Семой пили и меж себя бранились и неоднова, а о чем они, бранились, того он не ведает. Да как они шли назад, от Цесаря Бранденбурского Кухфистра в город Берлин, и на осподе играли меж себя дворяня карты и пришед к ним к столу Степанов поваренной детина пьян, и учал у них карты переворашивати, и дворяня почали ему Тимофею о том детине невежестве говорити, чтоб его отослати; он, Тимофей, видя то, что тем дворяном стало, то за великую досаду, того детину, от стола отпихнул прочь; и детина хотел с ним подраться, и он Тимофей того детину слегка деревцом ударил; и Степан дей его, Тимофея, не сыскав, за малого своего бил по щекам до крови, про то Семому ведомо. Да в Амборху (Гамбурге. — А. С.) были Степан и Семой у Аглинского воеводы у Курмистра в гостех, и шла того воеводы дочь двором в иные хоромы, и Степанов человек, напився пьян, тое воеводскую дочь безчестил, и его за то хотели сколоть кордами, и от того немного драка не учинилась. Да в Аглинской земли (ошибка в тексте — послы были в Голландии, в Гааге. — А. С.) стояли Степан и Семой у казначея, который платить ратным людем из казны за служилое, и тут Степанов же детина, напився пьян, обезчестил, хватался руками за казначееву дочь, и он Тимофей от того учел унимати, и его Степан про то не сыскивал и управы не чинил. Да и во многих местах Степан и Семой пировали, пили и многие простые слова говорили, которые в тамошних землях Государеву имяни к чести не пристоят. Да переводчик же Тимофей Фанемин сказывал: сказывал де при нем, Тимофее, Степану и Семому Карло Цесарев думной, который послов принимает, а к ним к Степану и к Семому приезживал, что Цесарева жалованья изготовлено Степану чепь с Цесаревою парсоною (парсуной, то есть портретом императора. — А. С.), парсона с каменьи и жемчюги, а Семому чепь с парсоною ж золотою; и дали де им чепи без парсон. И он де Тимофей спрашивал пристава их Цесарева дворянина Якуба: преж сего слышели они, что Цесарево жалованье чепи Степану и Семому изготовлены с парсонами, а дали без парсон? И пристав де Якуб ему Тимофею сказал: как де принесли к Цесарю чепи казать, что им дати, и Цесарь де парсоны велел отняли: „Слышел де яз про них, что они люди простые, неученые, ничего доброго, опричь дурости, не делают; прежде сего никоторые послы и посланники, которые прихаживали от Московских Государей, так непригоже не делывали, и таким де бездельникам собакам парсоны моей давать не пригоже“».
Степан и Семый пытались опровергнуть сказанное переводчиком, заявив, что он сам в европах пьянствовал без просыпу, но вернуть к себе доверие дознавателей им так и не удалось. К списку преступлений послов добавилось и взяточничество: они по собственной воле, ради получения подарков от купцов, приехали в Голландию, посетив князя Морица Оранского и приняв от него дары царю. Это было бесчестье: ведь царь ничего не передавал князю. Не имели права послы брать грамоту и от Гамбургского городского совета, поскольку этот город формально входил во владения датского короля. Причина несанкционированной посольской активности была все та же: Степан с Семым выбирали маршруты путешествий и партнеров по переговорам, исходя из собственных корыстных интересов.
Наконец дознание было завершено, и высокая комиссия, посовещавшись, вынесла свой вердикт, приказав послам скинуть порты. Для науки им всыпали плетей и розог, после чего отпустили с миром. Дело могло бы окончиться и хуже — усечением глав, да знающих людей в разоренной Московии не хватало, потому и поберегли дознаватели гуляк и пьяниц. Надо заметить, что похождения Степана и Семого заставили Посольский приказ внимательнее отнестись к пагубной дружбе своих сотрудников с зеленым змием, и уже в 1649 году русские послы, отправленные в Швецию заключать договор о перебежчиках, получили следующий примечательный наказ: «А дворяном и посолским людем приказати накрепко, чтоб они сидели за столом чинно ж и остерегателно, и не упивались, и слов дурных меж собою не говорили; а середних и мелких людей и упойчивых в полату с собою не имати, для того чтоб от их пьянства безчинства не было, а велеть им сидети в другой полате по тому ж, стройно, а бражников и пьяниц на королевин двор с собою не имать».
Анекдоты о «подвигах» русского посольства в 1614 году долго гуляли по европейским столицам, формируя пренебрежительное отношение к «казачьему царю» и его приближенным.
В Стокгольме считали, что не признанный в Европе властитель, окруженный никчемными дипломатами и неумелыми полководцами, должен был пойти на прямые переговоры со шведской короной. Однако русские вели себя так, словно были сильны и по-прежнему могли диктовать свою волю соседям. Король Густав Адольф в раздражении писал Государственному совету в июле 1614 года: «Что бы Мы ни делали, русские становятся все более высокомерными и упрямыми». Московиты, как считал король, не желали слушать разумных предложений из-за своих врожденных пороков. Известно, что эту нацию отличали «дурная природа и грубое высокомерие», затруднявшие цивилизованное общение даже с лучшими ее представителями.
Швеция отчаянно нуждалась в мире на востоке, чтобы выстоять против поляков и датчан, которые в любой момент могли вновь заявить о своих претензиях к Стокгольму пушечными залпами. В январе 1614 года удалось заключить двухлетнее перемирие с Польшей, и нужно было использовать эту временную передышку, чтобы примириться с Московией. Жители Швеции и в особенности Финляндии страдали от бесчинств размещенных там наемных войск и едва выдерживали бремя военных расходов. Подданные Густава Адольфа не понимали, зачем Швеции нужны русские земли, опустошенные смутой и населенные враждебным народом. «Крепости на востоке, захваченные шведами, необходимы для безопасности страны», — терпеливо объясняли темным массам члены королевского совета. Они «дают русским возможность нападать на Финляндию, поэтому нам лучше встречать врага на его собственной земле, чем пускать его к нам».
Королевские манифесты с объяснением восточной политики, которые зачитывали прихожанам тысячи пасторов во всех церквях Швеции и Финляндии, на какое-то время успокоили недовольство, но новая волна возмущения могла подняться когда угодно. Нужен был быстрый и выгодный мир! Однако король не мог первым протянуть Москве оливковую ветвь, не рискуя, что это будет воспринято как слабость Швеции. Все следовало устроить как новгородскую инициативу, которую снисходительно поддержит Густав Адольф, монарх христолюбивый и великодушный.
Первые попытки прощупать готовность противника к миру были предприняты в начале 1614 года, на самом низком уровне, чтобы в случае неудачи можно было отделаться лишь недоуменным пожатием плеч по поводу ненужной суеты каких-то мелких людишек. К передовым заставам князя Трубецкого был направлен из Новгорода с грамотой посадский человек Иван Филатов сын Железников. Затем предприятие повторили, но дело было представлено так, будто шведы лишь уступают пожеланиям русских. Фельдмаршал Эверт Горн в Новгороде пригласил к себе дворянина Якова Боборыкина, зарекомендовавшего себя по прошлым делам умелым переговорщиком и сторонником союза со Швецией, и попросил его внушить горожанам, что, если те будут бить челом Эверту Горну об отправке посольства «к государевым боярам» о мирном постановлении, он к этой просьбе отнесется благосклонно. «Но бояре не должны знать о состоявшемся разговоре!» — отечески внушал Боборыкину фельдмаршал.
Представительное новгородское посольство отправилось к князю Трубецкому искать с Москвой мира, но прием оказался еще более унизительным, чем прежде. Ответом была лишь грубая брань, причем на этот раз досталось не только «изменникам» новгородцам, но и самому Делагарди, назвавшему письмо князя «бессовестным» и «мужланским». «Тот, кто хочет вести дела с русскими, обязательно должен запастись палкой за поясом», — уверял Делагарди своего друга канцлера.
Гнев новгородского наместника был понятен: предводитель московского воинства в очередной раз обвинил полководца в воровстве денег, предназначенных для выплаты шведским наемникам летом 1610 года. Из-за этого наемники перебежали в разгар сражения при Клушине на польскую сторону, что привело к катастрофе соединенного войска и падению царя Василия Шуйского. Предательство шведов, как утверждал Трубецкой, полностью освобождало нынешнего царя от прежних обязательств Москвы по отношению к Швеции. Русские не собирались даже примириться с передачей шведам Корелы — об этом заявляли их послы при всех европейских дворах, а очищение Новгорода Трубецкой называл в качестве предварительного условия мирных переговоров. Московские бояре, сидя в своей сожженной столице, казалось, сошли с ума, перечеркнув годы смуты и разорения. Они как будто мысленно перенеслись в прошлое, в процветающую и могучую Московию начала правления Бориса Годунова. Об их отказе примириться с действительностью свидетельствовало даже упоминание в титуле царя Михаила «Лифляндский», хотя все попытки московитов захватить эту землю закончились поражением еще при Иване Грозном. Вывод из всего этого можно было сделать лишь один: в Москве просто некому формировать внешнюю политику, основанную на реалиях нового времени.
По доходившим в Стокгольм и Новгород слухам, юному Михаилу Романову Бог отказал в государственном уме и сильном характере, и, как всегда бывает при дворах подобных монархов, окружение погрязло в интригах и борьбе за власть, мало заботясь о государственной пользе. Перебежавший к шведам дворянин Михаил Клементьев свидетельствовал, что молодой царь «не особенно занимается делами управления, а от природы имеет грубый и ограниченный ум и к тому же склонен более к безбожным и мерзким делам содомитского свойства нежели к христианским добродетелям. Поэтому эти содомитские дела входят здесь в ежедневный обиход».
Если в Стокгольме считали русское упрямство не поддающимся логическому объяснению, то и в Москве к шведским притязаниям относились с сарказмом. Лазутчики доносили, что шведское господство в Новгородских землях подходит к концу. Захватчики оказались в положении саранчи, съевшей все вокруг и теперь погибавшей от голода.
Местные крестьяне, ожесточенные поборами, сожгли после окончания молотьбы солому, чтобы она не досталась шведским лошадям. Сена возле Новгорода накосили мало — народишко разбежался, — а в окрестностях Пскова на 100 километров вокруг шведы запретили сеять хлеб и косить сено, желая взять бунтовщиков измором: эта мера впоследствии ударила по ним самим.
Финские солдаты, посланные на заготовки сена, роптали из-за невыплат жалованья и выполняли крестьянскую работу спустя рукава, иностранные наемники вообще отказывались брать в руки косы. К маю 1614 года начался голод, пришедший, как всегда, рука об руку с болезнями. 12-тысячное шведское войско в России было распылено по крепостям, Делагарди мог собрать для отпора Трубецкому лишь пять тысяч озлобленных и оборванных солдат, с трудом волочивших мушкеты. Конным казачьим рейдам ответить было нечем. Три тысячи всадников, устроившись на ставших бесполезными седлах, варили в чанах своих сдохших от голода или собственноручно убитых скакунов.
Делагарди писал королю, что воины «вынуждены есть конину, пока она еще есть, поскольку пехотинцы отбирают у всадников лошадей при любой возможности». Король в ответ советовал спалить и ограбить Новгород, население выгнать, знатных людей вывезти в Выборг в качестве заложников и отступить. Полководцу не следовало идти «против Бога, природы и высших сил до последнего».
Осада лагеря Трубецкого у Бронниц шла из рук вон плохо и могла в любой момент привести к бунту шведских наемников. Казаки стреляли из луков в направлении противника «агитационными стрелами», с привязанными к ним листовками, в которых призывали шведов переходить на их сторону, обещая, что ни в еде, ни в деньгах недостатка не будет. Полсотни человек уже перебежало к русским, остальные пока стояли на позициях, мечтая дождаться приезда в лагерь Делагарди, чтобы его растерзать. Однако полководец, умудренный печальным клушинским опытом, войскам не показывался, предпочитая следить за развитием событий издалека.
К концу июня, однако, позиционная война у Бронниц принесла шведам крупный успех. Казаки Трубецкого располагались в четырех шанцах, устроенных по обеим берегам реки Меты, и вызвать их из укрытий на открытый бой было невозможно. Два полковника, шотландец Коброн и голландец Моннихофен, руководившие осадой, медленно и упорно тянули апроши к позициям русских, и, постепенно приблизились к ним так близко, что слышны были разговоры в лагере противника. 27 июня Коброн повел свой полк на штурм одного из шанцев и, уничтожив 300 его защитников, взял земляную крепость. Еще один шанец пал под градом камней, которыми шведы осыпали казаков из подведенных под самые валы мортир. Трубецкой было разгромлен. Большая часть его войска разбежалась, а 400 казаков, сдавшихся на милость победителя, встретили страшную участь. Всех их зарубили по приказу Делагарди, отомстившего таким образом Трубецкому за его оскорбительное послание.
Последний удар по московитам, который должен был заставить их сесть за стол переговоров, решил нанести лично король. Юный монарх не мог смириться с мыслью, что в лавровом венке героя, который когда-нибудь увенчает его голову, не будет листьев за разгром русских. Густав Адольф объявил, что лично возглавит войска, которые приступят к осаде Гдова — крепости, оберегавшей подходы к последнему большому оплоту русского сопротивления на северо-западе — Пскову.
Напрасно королева-мать и советники уговаривали упрямца остаться в Швеции. Пусть Густаву Адольфу не дорога собственная жизнь, но ему следует подумать об интересах государства! Ведь если король будет убит, Швеция станет легкой добычей ее врагов! Войска в России ненадежны, монарх может оказаться в руках бунтовщиков. А в случае поражения насколько тяжелее будет заключить мир с русскими! Ведь победа над королем ценится куда выше разгрома одного из его подданных — тщеславные московиты будут глухи к любым призывам к миру. Наконец, поход Густава Адольфа в Россию придаст военной кампании совсем другое значение, русские воспримут это как вызов, и тогда уже точно длительной войны не избежать. Швеция же преследует в России, как пытался внушить воинственному юноше канцлер Оксеншерна, куда более скромные цели. Война ведется «более ради безопасности государства и достижения мира, чем из-за враждебности или стремления заполучить большие территории и множество крепостей».
Все увещевания были тщетны. Густав Адольф с детства отличался сильной волей и упрямством. Он — король, и он принял решение. Честолюбивые мысли подкреплялись и романтическими мотивами: Густав Адольф переживал свою первую любовь и мечтал положить к ногам избранницы, Эббы Брахе, состоявшей фрейлиной при его матери, покоренную русскую крепость. Незримые путы, свитые родными и советниками, были порваны, и Густав Адольф в конце августа появился в шведском лагере под Гдовом.
Хотя король благоразумно не вмешивался в распоряжения опытного Эверта Горна, возглавлявшего осаду, показывая, что прибыл под стены крепости учиться военному делу, а не отдавать распоряжения, психологический эффект от его присутствия был велик. Защитники Гдова понимали, что лишь крайняя необходимость может заставить шведов снять осаду, поскольку в их лагере находится королевская ставка.
После многодневного артиллерийского обстрела, в результате которого обрушилось более трети 400-метровой стены, окружавшей крепость, и двух яростных штурмов 10 сентября 1614 года Гдов пал. Русские выторговали себе почетную капитуляцию: в обмен на сдачу крепости Густав Адольф разрешил им свободно уйти куда вздумается, с оружием и всеми пожитками.
Десять дней спустя после этого триумфа король отправил Эббе Брахе письмо, написанное в высокопарном стиле того времени. Это был отчет богобоязненного рыцаря о подвиге, совершенном во имя прекрасной дамы: «В особенности возношу я хвалы всесильному Господу, который удостоил меня чести осилить моих врагов».
Пошли дожди, дороги размокли и вот-вот могли стать непроезжими: природа своей властью объявляла перерыв в военных действиях до зимы. Больше в России делать было нечего. В конце сентября триумфатор вернулся в Швецию, оставив Эверту Горну инструкцию, предписывавшую заставить Новгород просить о вхождении в состав Швеции. Это письмо фельдмаршал благоразумно скрыл от новгородцев, боясь открытого разрыва с ними.
К концу 1614 года Швеция получила новые козыри для мирных переговоров с Москвой: Трубецкой был разбит, Гдов взят, в шведском тылу оставался лишь Псков, надежно изолированный окружающими шведскими крепостями. И тем не менее «казачий царь» Михаил Федорович не торопился мириться со шведами, принося на алтарь новой дружбы свои города и сокровища. Да и зачем было спешить, если Бог, по всему видно, вновь обратил свой благосклонный взгляд на православных? Следы польского разорения в Москве еще были видны, но черные пятна пожарищ съеживались с каждым днем, уступая место новостройкам. По всей столице стоял стук тысяч топоров: артели плотников возводили новые избы и купеческие палаты из готовых деревянных конструкций, продававшихся на особом «строительном» рынке. Хороший дом поднимался за день. Москва забыла и о недавнем голоде. Стоило только разогнать царским войскам разбойничьи шайки, промышлявшие по дорогам, как с востока и юга потянулись в столицу продуктовые обозы. Всего было вдоволь, еда подешевела. Московское изобилие бросалось в глаза и лучше всяких уговоров склоняло новгородское посольство архимандрита Киприана в пользу царя.
Ведь в самом Новгороде от непрекращающейся войны и шведских поборов речь шла об элементарном выживании. Каждый день там сбрасывали в общую могилу по полсотни жителей, умерших от голода и болезней. В телеги с трупами впрягались люди: лошадей давно съели или отдали в счет содержания шведского гарнизона.
Принц Карл Филипп превращался в сознании новгородских послов, пораженных московскими переменами, в призрак с далекого Севера, тень которого лишь на короткое мгновение легла на Великий Новгород. Да и был ли он вообще? Первым принес тайную присягу Михаилу Федоровичу дворянин Яков Боборыкин, которому Делагарди и Горн доверяли более всех остальных новгородцев. За ним решились на смену властелина и другие, когда вместе с московскими боярами придумали способ защитить Новгород от шведского гнева. Киприан получил две грамоты — одну, суровую, для шведов, в которой царь возмущался предательством новгородцев и грозил им всяческими карами. Другая, настоящая, предназначалась для тайного распространения среди жителей. В ней Михаил Федорович скорбел о тяжелой судьбе Новгорода, оказавшегося временно во власти врага, и обещал его скорое освобождение. Бояться новгородцам было нечего: царь обещал им свою милость и снисхождение.
Так Новгород и Москва за спиной шведов протянули друг другу руки дружбы. Но как вернуть оторванный шведами кусок русской земли в лоно Московского государства, если Стокгольм на правах победителя диктовал невыносимые условия мира? Но и здесь Бог указал выход, послав царю предложения о посредничестве сразу трех государств: Дании, Нидерландов и Англии.
Датский посол, прибывший в Москву первым, советовал ни в чем не уступать, и шведы со временем откажутся от всех своих притязаний: Копенгаген брал на себя ведение переговоров. Предложение, что и говорить, выглядело заманчивым, но боярам пришлось отклонить датскую помощь. Королю Христиану выгоднее было сорвать мирное соглашение и вновь столкнуть Швецию и Россию лбами. Дании нужна была война на востоке, чтобы ощипать свою скандинавскую соседку с наименьшими потерями. Куда серьезнее выглядели предложения нидерландских Генеральных штатов и Англии. Эти купеческие нации хотели видеть и в Швеции, и в России мир, способствовавший их торговле. Голландцы держали сторону Швеции, главного поставщика меди на европейские рынки, а при английском дворе сильнее было русское лобби в лице могущественной Московской компании, еще со времен Ивана Грозного имевшей привилегии на торговлю с Россией.
В декабре 1614 года в Москве вместе с возвратившимся из Лондона русским посольством появился английский посол Джон Меррик, вручивший царю грамоту государя. Прежде всего английский король просил «брата» «вперед держати всякие те вольности, которые были преж сего у наших подданных в ваших государствах», а уже потом предлагал посредничество в заключении мира со Швецией. Интерес англичан был понятным и справедливым, а личность самого Джона Меррика вызывала у обычно подозрительных к иностранцам бояр исключительное доверие: этот почти свой, русский. Этот не продаст.
Джон Меррик почти тридцать лет провел в России, поднявшись за это время от простого агента Московской компании до главы ее представительства в России. Он давно обрусел, превосходно говорил по-русски и для удобства ведения дел даже просил называть его Иваном Ульяновичем. Так его и именовали в Московии, в том числе и в официальных документах, иногда прибавляя к его русскому имени для значимости княжеский титул.
Плохо только, что Меррик уж слишком отталкивал Голландию от участия в переговорах, всячески очерняя ее в глазах бояр и предлагая вообще не вести с ней дел — ни политических, ни торговых. Бояре понимали, что у англичанина был свой интерес: Лондон хотел избавиться от опасных конкурентов в России. В думе посовещались и решили принять посредничество и Англии, и Голландии. Пусть конкуренты приглядывают друг за другом да за русскую выгодную дружбу бьются. Нельзя англичан в России одних оставлять.
В начале 1615 года по дорогам между Москвой и Новгородом поскакали гонцы, пряча под одеждой от людских взглядов сумки с письмами и инструкциями. Прежде чем посредники могли начать свою работу, предстояло договориться не только о титулах шведского и русского государей, но и о том, как называть их верных слуг, которым доверили вести важное дело. И упаси Боже даже такой мелкой сошке, как гонцу, сделать неверный шаг, нарушив писаные и неписаные правила этикета!
Защита чести своего государя начиналась с мелочей. Важно было не только знать, когда слезать с коня (представителям двух переговаривающихся сторон следовало спешиваться одновременно) и при произнесении каких ритуальных фраз снимать шляпу, но и как осуществлять свои мелкие физиологические потребности, если приспичило. Например, если дипломат захотел плюнуть в присутствии высокого представителя зарубежного государства, не говоря уже о самом государе, надлежало немедленно наступить на плевок ногой. Забылся — оскорбил иностранную державу и сорвал важную миссию!
Поэтому не будем удивляться, что первые робкие мирные контакты Швеции и России привели к конфликту. Думские бояре были вне себя от возмущения. Шведский гонец доставил в Москву письмо от фельдмаршала Эверта Горна, в котором тот посмел величать себя на русский манер, с «вичем», точно он был боярин: Эверт Карлусович Горн. Наглеца отчитали, помянув ему, что прежде никогда шведы не называли себя в общении с русскими полным именем, с отчеством, как бы высоко они ни стояли у себя в земле. Да и сам фельдмаршал прежде именовал себя просто Эвертом Горном.
Упрямый швед на умаление своего достоинства ответил той же монетой, оскорбив первого думного боярина Федора Мстиславского и его товарищей тем, что «забыл» назвать их по отчеству. Свое внезапное «обрусение» он объяснял тем, что шведы прежде не знали, как важно для русских написание имен значимых особ с отчеством, а теперь эта тайна раскрыта, и он, Эверт Горн, как человек высокого происхождения, не намерен поступаться своим достоинством: «А что мы с своей стороны себя „вичи“ описывали, которые вы нам в гордость почитаете, и то с вашего обычая учинено, потому что мы для лутчего выразуменя к вам, по вашему русскому языку и обычаю писали, занеж уразумехом, что вы добрых переводчиков не имате, також что та почестная титла у вас меж господина и раба большая есть, ни выше, ни ниже тое почестная титлы в вашем языке не имате. И сего ради мы найначе, особно ж в посолских делех, которые нам ныне приказаны, возхотехом в вашем языке тако описыватис, яко наши предки не писывалис, потому что оне с вами столке не зналися, как мы уже с вами посямест водимся, но иные титлы, которые не токьмо стол высоки но и выше того у нас имянуютца по нашему языку, в то место имели, якож и по се время всякому по его достоинству чину писатися поволено. Сего ради вам не для чего такие напрасные и плодовитые споры о своем величестве в таких делах чинити, но болши бы об отчизны своей ползы со усердием пецыся».
Стороны обменивались тычками и чванились, упрекая друг друга в бескультурье и неуважении к чужому государю и его верным слугам. Тон посланий мог создать впечатление у робкого человека, что еще чуть-чуть — и грянет война. Но дипломаты были людьми с крепкими нервами и, оскорбляя друг друга, прекрасно понимали, что грубые слова, точно гать на болоте, устилают дорогу к миру, помогая сторонам сближаться без потери достоинства. Если во время предыдущих мирных переговоров в 1594 году, закончившихся Тявзинским миром, шведские комиссары ужасались, что их русские партнеры использовали «такие слова, что и подумать немыслимо, что все это приведет к перемирию или миру», то с тех пор шведская дипломатия успела закалиться. Они на вас орут, а вы еще пуще дерите глотку и грубите, инструктировал своих комиссаров Густав Адольф. Молодой человек был прирожденным полководцем и рассматривал переговоры как разновидность сражения. Если враг ударил из пушек, для победы нужно ответить двойным залпом!
Дело действительно пошло. 15 июня 1615 года в Новгород прибыл английский посредник в сопровождении пятидесяти московитов. Джон Меррик объявил, что ему поручено добиваться соглашения о перемирии, за время которого страсти улягутся и легче будет говорить о мире. Но эта уловка не устраивала шведов, понимавших ход мысли лукавых московитов: русская держава, получив передышку, окрепнет, а там, глядишь, на Швецию вновь обрушатся датчане или поляки. Тогда уже Москва сможет диктовать свои условия поставленному на колени противнику. Горн отверг предложение посредника: король хочет вести переговоры о мире. Иначе война.
Меррик из Новгорода отправился в Нарву, на встречу с Густавом Адольфом, где изложил ему условия великого князя: мир возможен только в том случае, если шведы уйдут из всех захваченных областей и выплатят компенсацию за нанесенный ущерб. В протокольных вопросах русские также проявляли поразительную дерзость, возмутившую короля. Эти шельмы, как их именовали при королевском дворе, требовали, чтобы шведы первыми назвали их великого князя — «казачьего царя», вознесенного на престол толпой разбойников, — полным титулом! А уже потом они соблаговолят почтить полным титулом Густава Адольфа. Изворотливый Меррик хотел убедить шведов, что разделяет их возмущение: русские, мол, не привыкли прислушиваться к голосу разума и принимать рациональные решения, а следуют своим собственным представлениям, не имеющим ничего общего с реальностью. А потому, неожиданно заключил английский посредник, нужно к ним приспосабливаться, если хочешь чего-то достичь. Король с трудом сдерживал ярость. Хитрая английская лиса играла краплеными картами, полностью принимая сторону русских! Чего еще ожидать от человека, составившего себе имя и состояние на близких отношениях с московитами?
Что ж, настало время подтолкнуть великого князя к миру иным способом. У шведов были в запасе последние аргументы — пушечные ядра. «Все, чего можно отныне достигнуть, сделать можно лишь острием меча», — писал Густав Адольф Делагарди.
В начале июля 1615 года король с семитысячным отрядом высадился в Нарве и двинулся оттуда к Пскову. Этот город, расположенный в окружении оккупированных шведами территорий, был для них как больной зуб, от которого раскалывалась вся голова. Пока стоял Псков, нельзя было рассчитывать на повиновение всего русского северо-запада.
Густав Адольф понимал, что мощная Псковская крепость — это не маленький Гдов, который так легко пал под ударами осадной артиллерии. О стены Пскова в августе 1581 года разбилось наступление стотысячной армии выдающегося полководца, польского короля Стефана Батория, потерявшего за время осады более пяти тысяч солдат. «Любуемся Псковом! Боже, какой красивый город, точно Париж! Помоги нам, Господи, с ним справиться!» — эта запись в дневнике похода Стефана Батория так и осталась нереализованным пожеланием. Так же, как 36 лет назад, «Русский Париж» сиял летом 1615 года позолоченными и посеребренными маковками пяти десятков церквей и монастырей из-за валов и стен, дразня честолюбие шведского короля и разжигая алчность голодранцев со всей Европы, навербованных сражаться под шведскими знаменами. Впрочем, в шведском лагере среди палаток вздымались и русские хоругви: Новгород, верный присяге Карлу Филиппу, прислал в помощь своему покровителю, шведскому королю, большой отряд дворянского ополчения. К началу осады 30 июля в распоряжении Густава Адольфа было 13 знамен конницы — более двух тысяч рейтар, — сорок рот пехоты в составе шести тысяч человек и двести артиллеристов.
Сражение за Псков началось для шведов неудачно. Фельдмаршал Эверт Горн, на которого было возложено практическое руководство осадой, решил показать солдатам пример доблести. Он пренебрег советами приближенных остаться в лагере или, по крайней мере, одеться поскромнее и выехал на рекогносцировку под стены крепости в роскошном сияющем панцире, издалека выдававшем его высокое положение. Из ворот навстречу неприятелю вылетела русская конница, завязалась быстротечная схватка, и цель вылазки была достигнута: щеголь в дорогих доспехах был смертельно ранен. «Пострелен в главу из пищали», — лаконично сообщает о причине гибели фельдмаршала русская хроника.
План осады, предложенный Горном, пришлось осуществлять его подчиненным. Шведская армия, не рискуя идти на немедленный штурм, стала зарываться в землю. К концу августа Псков был охвачен кольцом временных укреплений. Шведы поставили шесть деревянных городков, не считая рвов, туров и плетней, прочно защищавших их позиции. Через реку Великую навели два моста, облегчавших передвижения войск. В пяти километрах севернее Пскова, на Снетной горе, возле развалин монастыря, расположилась королевская ставка, в центре которой был возведен деревянный дворец с большим тронным залом. Королевский проповедник Рудбек писал из Пскова, что район монастыря хорошо укреплен самой природой, почти полностью обтекаем водой, а с остающейся сухопутной стороны прикрыт рвом и стеной.
Инженеры сообщали, что взять город, взорвав стены минами, заложенными в подведенных тоннелях, практически невозможно из-за каменистой почвы. Оставалось положиться на пушки. В районе Гдовской дороги, между Ильинскими и Варлаамовскими воротами была установлена мощная двадцатиорудийная батарея — именно здесь шведы рассчитывали обрушить стены и ворваться в город.
Конечно, нельзя было исключать и того, что крепость удастся взять измором. Вся местность вокруг Пскова была предусмотрительно опустошена еще с весны — шведы запретили крестьянам сеять в радиусе ста километров от города, а подвоз припасов из дальних областей надежно блокировался заставами. Кто знает, может, русские, как это случилось при осаде Новгорода, перессорятся между собой и лучшие люди, уставшие от казачьего и стрелецкого террора последних лет, убедят оголодавшую чернь открыть ворота милостивому шведскому королю?
Но в 1615 году время раздоров среди русских уже прошло. Царь, пусть и выбранный сомнительно, и слишком юный, и не первой среди боярства фамилии, объединил разорванные Смутой слои общества. В Пскове верили, что Москва не даст их в обиду. Четыре тысячи казаков и стрельцов, составлявших гарнизон крепости, как гласит летопись, «меж себя крест целовали, что битца до смерти, а города не сдать… Из города к королю переметчиков никоим образом не было».
Дух осажденных укрепился присланной из Москвы грамотой о скором подходе войска, которое доставит хлебные запасы. В царском наказе говорилось: «Послать в Псков, сообщить, что боярин и воевода Федор Иванович Шереметев с товарищи и со многими людьми и с нарядом пришли в Торопец, а из Торопца идут ко Пскову на Немецких людей наспех, и они б, прося у Бога милости, во Пскове сидели крепко и надежно безо всякия боязни и с Немецкими людьми билися, сколько Бог помочи даст».
Крепкая государева рука чувствовалась и в строках наказа войску, призывавших к забытой за годы Смуты дисциплине: «Да и того велеть беречь накрепко, чтоб атаманы и казаки и всякие ратные люди в полках, и отъезжая, по дорогам и по селам и по деревням никого не били и не грабили, и насильства никакого не делали, и зернью не играли, и корчем и блядни не держали; а кто кого учнет грабить, или зернью играть и блядню держать, и тех велеть бить батоги и давать на крепкие поруки, что им впредь не воровать; а кто от того не уймется, и тех за воровство бить нещадно. Да о том заказ крепкий учинить, чтобы без ведома из станов и на походе из полков атаманы и казаки и стрельцы не разъезжались никуды; а кому куды для какого дела лучится ехать, и они б ездили, являяся им боярину и воеводе Федору Ивановичу с товарищи».
При обещании такой помощи — не толпами разбойников, которые хуже шведов, а крепким войском, повинующимся начальникам, — можно было держаться! Хотя отряды воеводы Шереметева так и не смогли пробиться к осажденным, застряв в стычках со шведами, эта протянутая из Москвы рука помощи поддержала дух псковских защитников в первые недели осады.
Почти полтора месяца шведы с трех сторон обстреливали город калеными и чугунными ядрами, используя привезенную из Нарвы мощную осадную артиллерию. В стенах возникли бреши, пылали подожженные дома, но Псков держался. Русские производили вылазки, во время одной из которых даже сумели на короткое время захватить позицию шведской батареи. Критический день наступил 17 сентября, когда после особенно яростной бомбардировки шведские штурмовые колонны пошли в проломы, сделанные в стене напротив 20-пушечной батареи. Наемникам удалось захватить Наугольную башню, но на этом их наступательный порыв иссяк. Вскоре казаки выбили шведов из крепости. Проломы заделали бревнами и землей. Московиты не желали покориться королевской воле.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
10 Вступление в Россию
10 Вступление в Россию Весь октябрь и часть ноября 1942 года мне пришлось провести в госпитале, находившемся в городке Гармиш в Баварских Альпах, где я пытался избавиться от амебной дизентерии, которой заболел в Африке. Это одна из самых неприятных болезней,
В Россию
В Россию «Мне нечего сказать о солнцах и мирах: Я вижу лишь одни мученья человека». Гёте, «Фауст» Из Харбурга нас перебросили через Бельгию во Францию, где мы стали на постой в районе Тура дожидаться дальнейших распоряжений, пополнив, таким образом, численность
Меня разлучают с семьей
Меня разлучают с семьей Почему они разлучили меня с семьей? Я не сразу понял, что в моем перевоспитании это действительно был крайне важный факт; однако в то время я расценивал это как непримиримую вражду ко мне со стороны коммунистов. Я считал, что, поступая так, они хотят
В борьбе за Россию[35]
В борьбе за Россию[35] Посвящается генералу А.А. Брусилову, мужественному и верному служителю Великой России в годину ее славы и в тяжкие дни страданий и несчастья. Предисловие Изданием сборника своих статей, написанных после падения Омского Правительства[36], которое я
Спасти Россию
Спасти Россию У Рябушинских была более важная цель, нежели просто сколачивание капитала. И первые шаги к ней они сделали еще в период первой русской революции 1905 года. Их целью было «возрождение истинной, великой и могучей Российской державы». Павел Павлович Рябушинский,
III. ПУТЬ В РОССИЮ
III. ПУТЬ В РОССИЮ Судя по всему, Кюстин выехал из Парижа в конце мая 1839 г. в сопровождении своего итальянского слуги Антонио и Туровского. Прошло более месяца, прежде чем он сел в Травемюнде на кронштадтский пакетбот. Не совсем ясно, где он находился в этот промежуток
Вера в Россию
Вера в Россию Вадим Валерианович любил напоминать известнейшие и вместе с тем редко кем понимаемые строки Федора Ивановича Тютчева (которого, между прочим, как не только гениального поэта, но и гениального историософа и геополитика подарил нам не кто иной, как Кожинов, в
5. Отъезд в Россию
5. Отъезд в Россию Тем временем в России кружок наш действовал на всех парах. Его организация выработала стройный план, как можно судить по программе, читанной на «процессе 50-ти». Численность его в действительности была не более 20–25 человек. Он имел свой орган — газету
Глава XXXVI. На пути в Россию; 1799-1800. Душевные муки Суворова вследствие недостигнутых целей войны. — Общее внимание к нему и его войскам во время обратного пути в Россию. — Настроение Императора Павла и русского общества; переписка Государя с Суворовым; восторженные заявления других государей и
Глава XXXVI. На пути в Россию; 1799-1800. Душевные муки Суворова вследствие недостигнутых целей войны. — Общее внимание к нему и его войскам во время обратного пути в Россию. — Настроение Императора Павла и русского общества; переписка Государя с Суворовым; восторженные
3. СКОРЕЕ В РОССИЮ
3. СКОРЕЕ В РОССИЮ В 1719 году саксонский принц женился на красавице Марии-Йозефе. Бракосочетание запланировали в славных своей роскошью королевских дворцах. По этому случаю весь польский королевский двор «с превеликими увеселениями» был сначала направлен в Саксонию. Там
ГРОЗА НАД БАЛТИКОЙ
ГРОЗА НАД БАЛТИКОЙ Последняя попытка усмирить смутьяновВ начале января 1991 года резко обострилась обстановка в Прибалтике. Этого можно было ожидать. К этому все шло. Центр не мог не предпринять очередную ? может быть, последнюю ? попытку усмирить балтийских смутьянов.
Приглашение в Россию
Приглашение в Россию Летом 1827 года русский министр финансов граф Канкрин по поручению своего правительства обратился к Гумбольдту с просьбой дать заключение о целесообразности чеканки монеты из платины, добывавшейся в небольших количествах на Урале. Гумбольдт
Нацелено на Россию
Нацелено на Россию Ежегодно США увеличивают военные расходы в среднем на $219 млрд. (в ценах 2005 года). Только военные кампании в Ираке и Афганистане увеличили расходы на $903 млрд. По данным SIPRI, бурными темпами наращивают оборонные расходы также Россия и Китай. Вместе эти два
Два взгляда на мир и Россию
Два взгляда на мир и Россию Знатоки политической кухни, анализируя после возвращения Путина в Кремль в 2012 г. его разногласия с Медведевым опубликовали ворох цитат из их речей, сравнивая которые можно прийти только к одному выводу: Медведев оказался в конечном итоге куда
Атака на Россию
Атака на Россию «Русскую революцию, – утверждает Николас Хаггер, – можно, по крайней мере частично, рассматривать как войну между ротшильдовской «Ройял Датч ойл» и рокфеллеровской «Стандарт Ойл» за контроль над бакинскими нефтепромыслами». В действительности имели