4. Просветительская политика М. Н. Муравьева на посту попечителя Московского университета
4. Просветительская политика М. Н. Муравьева на посту попечителя Московского университета
С 1803 по 1807 г., в период попечительства М. Н. Муравьева, Московский университет уверенно вступил на путь поступательного развития. Годы жизни выработали в Муравьеве не только кристально честную и высокогуманистическую личность, но и породили огромную энергию, жажду деятельности на общее благо, которую он направлял ради будущего процветания университета. Его действия рисуют нам контуры широкой просветительской программы. В ее центре, как и у Ломоносова, — идея создания самобытной русской образованности, развития русского языка и письменности в рамках того пути, который уже прошла к этому моменту европейская культура, но в соответствии с национальными особенностями России. Для этого Московский университет, как это уже было при Новикове, должен собрать вокруг себя все научные, литературные силы, не ограничиваясь учебной деятельностью и преодолев свою обособленность, превратиться в источник общественного просвещения, через который публика будет знакомиться с новейшими достижениями науки и искусства. Тем самым, он сможет на равных соперничать с европейскими университетами: «Может быть, со временем приедут шведы учиться в Москве!» — восклицает Муравьев[38].
В первую очередь попечитель обращает внимание на слабую материальную базу университета. 17 марта 1803 г. по его настоянию выходит указ о выплате ежегодного содержания в размере 130 тыс. рублей. Полученная сумма позволяет ему устроить покупку книг и учебного оборудования (конструкции известных европейских фирм и ученых). В отчете министру народного просвещения за 1803 г. Муравьев пишет: «С давнего времени библиотека оставалась в скудном состоянии, и университет лишен был единственного способа соразмерять постепенные успехи свои с распространением наук в Европе. Я не преминул препроводить в библиотеку новейших великих писателей, которые распространили в краткое время пределы человеческих знаний в химии, высокой геометрии и экономии политической. Астрономия преподавалась единственно в теории… поэтому доставил я в университет удобный для больших наблюдений Грегорианский телескоп Кериевой работы, выписал из Лондона Арнольдов хронометр и заказал у Верже, искусного художника астрономических орудий, большой регулатор и полный круг, величиною три фута в диаметре». Возникает химическая лаборатория, расширяется физический кабинет: «Препроводил я в оный галванический аппарат, Гюйтонову переносную лабораторию и Атвудов снаряд для показания ускорительного падения тел»[39].

Немаловажным успехом нового попечителя становится привлечение внимания к университетским реформам богатых московских дворянских фамилий, вызвавшее их щедрые пожертвования, которые сами по себе отражают восторженную атмосферу «дней Александровых прекрасного начала». В 1803 г. известный миллионер и предприниматель П. Г. Демидов подарил большой капитал и доход от нескольких тысяч крестьян на создание народного училища в Ярославле (которое было названо Демидовским лицеем), а еще 100 тыс. руб. поступают от него в Московский университет, с тем чтобы проценты с их оборота тратились на содержание казенных студентов и гимназистов. По его же инициативе в университете появилась не предусмотренная штатом, но содержавшаяся на его пожертвования кафедра натуральной истории, для которой Демидов подарил «кабинет натуральной истории» — собрание минералов, растений со всего мира, других редкостей. Кроме того, он передал университету минц-кабинет (коллекцию монет и антиков) и ценнейшую библиотеку, некоторое время спустя — оборудование обсерватории и еще несколько коллекций, а в июле 1804 г. в Большой университетской аудитории, где проходили торжественные акты, появился купленный Демидовым орган[40].
Минералогический кабинет и собрание мозаик преподнес университету князь Урусов, а свою библиотеку и кабинет натуральной истории он подарил создаваемой Московской губернской гимназии. В мае 1807 г. от княгини Дашковой в университет перешла коллекция редкостей, собранных ею за 30 лет во время путешествий по всей Европе, включавшая подарки австрийского императора, короля Швеции, саксонского курфюрста, герцога Тосканского и других знатных дворов. Уникальное собрание книг профессора Шадена, скончавшегося в 1797 г., передала его вдова; впоследствии многие иностранные профессора, приглашенные в Москву, присоединили свои книги к библиотеке университета. К собранным богатствам, хранившимся в библиотеке и открывшемся в 1805 г. университетском музее, получала свободный доступ московская публика.
Более высокий уровень преподавания требовал расширения университетского хозяйства. После учреждения кафедры ботаники, 1 апреля 1805 г. университет покупает ботанический сад площадью 8 десятин на большой Мещанской улице, за Сухаревой башней. Сад был основан при Петре I и принадлежал хирургической академии, выращивавшей там лекарственные травы, почему и назывался Аптекарским. В саду была устроена оранжерея с залой для лекций, домик профессора, теплица. Практические занятия по медицине велись в организованных при университете в соответствии с уставом в 1805–1806 гг. хирургическом, клиническом и повивальном институтах.
Другая сторона укрепления материального благосостояния университета проявилась в возможности пригласить в Москву большое количество иностранных профессоров. После обскуранта ого состояния, в котором университет находился в конце XVIII в., ему просто необходимы были талантливые, энергичные профессора, стоявшие на передовых научных позициях, как для привлечения студентов, так и для подготовки новых русских преподавателей. Впрочем, сама идея приглашения профессоров из-за границы не сразу утвердилась среди университетского начальства: так, еще в докладе комитета по рассмотрению уставов 1802 г. говорилось, что перераспределив расходы университета, увеличив количество казеннокоштных студентов и кандидатов, которые бы сразу включались в преподавание, можно обойтись без выписки иностранных ученых[41]. Но уже весной 1803 г., когда был утвержден новый штат университета, включавший 28 кафедр, Муравьев отмечал в записной книге, что, поскольку сейчас профессоров в Москве только 14, то половину можно вызвать из Европы[42].
Вступив в переписку с профессорами Мейнерсом из Геттингена и Шицем из Иены, попечитель преследовал двойную цель — он получал не только советы по реформированию структуры университета, но и рекомендации своих корреспондентов, кого из ученых полезнее и удобнее пригласить в Россию. В течение 1803–1804 гг. он добился согласия на приезд в Москву 11 профессоров ведущих университетов Германии, и среди них было несколько имен европейского масштаба. Муравьев зовет их для преподавания предметов, которые пользуются особенной популярностью в европейских училищах и оказались совершенно запущенными в Москве, — это практическая философия и народное право, теория изящных искусств, статистика, высшая математика. Кроме того, он приглашает специалистов по химии, астрономии, ботанике, натуральной истории, древним языкам.

Основную часть переговоров добровольно взял на себя профессор Мейнерс, который, по собственным словам, готов был отдать все силы ради до того, чтобы улучшить ученые учреждения и распространить полезные знания в такой огромной империи, какой является Россия. 11 марта 1803 г. Муравьев писал Мейнерсу: «Московский университет, особенное попечение о котором поручил мне Его Величество, будет обязан Вам своим возрождением. В нем были с момента основания в 1755 г. несколько хороших профессоров, которые привнесли в него из немецких университетов просвещение и превосходные методы преподавания. Их труды были плодотворными. Множество молодых людей получили здесь полезные знания. Наша литература приобрела от этого свои выгоды. Но из-за особых обстоятельств, в результате несовершенной организации, первые успехи были остановлены.
Потери, понесенные университетом, не восстанавливались, их место замещали посредственности. Все эти злоупотребления сейчас устраняются…
Нам остается только желать надежного проводника, чтобы вызвать из-за границы подходящих людей для распространения Просвещения»[43].
Из обширной переписки Мейнерса с Муравьевым мы узнаем о непростом ходе переговоров с немецкими профессорами, выдвигаемых ими условиях (среди которых были: возможность в любой момент беспрепятственно покинуть Россию, выплата пенсий их семьям, деньги на переезд и пр.). В это же время в Москве университет по представлениям Муравьева заранее включил в свой состав несколько десятков ученых из Германии, надеясь на их прибытие. Многие профессора сразу отклоняли предложения, но бывало, что и достигнутая уже договоренность срывалась в последний момент (так, внезапно отказался ехать доктор натуральной истории Леман, перед самым отъездом в Россию скончался медик Каппель), прибытие других затягивалось на несколько лет. Однако успех приглашения немецких профессоров в Россию официально зафиксировали «Геттингенские ученые ведомости», поместив в 1804 г. заметку, где, в частности, говорилось: «Нашему Отечеству делает честь приглашение такого количества немецких ученых; еще более почетно то, что наша родина может отдать столько подающих надежды или уже заслуженных ученых без особого ущерба для собственного образования»[44].
Заботясь о приезде европейских ученых, попечителю приходилось быть особенно деликатным, потому что он задевал честолюбие некоторых их московских коллег. Одним из первых оскорбился приглашением иностранцев престарелый профессор хирургии Керестури, который когда-то сам был вызван в Москву из-за границы; он счел их приезд «ко вреду его знаний и заслуг». Муравьеву приходилось терпеливо налаживать отношения между новыми и старыми членами университетской корпорации: полтора года спустя он должен был уверять профессора Политковского, что определение профессора Фишера фон Вальдгейма на кафедру естественной истории «не оскорбляет его благородное честолюбие», но попечитель желал бы, чтобы Политковский посвятил свое искусство единственно врачебной науке[45].
Но особенно Муравьева волнует подготовка отечественных профессоров. Для этого он устанавливает связи с молодыми русскими учеными, находящимися в России или обучающимися за границей, и заботится о новых учебных поездках в Европу. «Иначе нельзя завести своих профессоров, как посылая в чужие край, чтобы они выучились там своим правам, трудолюбию и должностям». С уехавшими воспитанниками Муравьев поддерживает переписку[46]. Среди неопубликованных писем привлекает внимание ответ молодого врача, будущего профессора И. Е. Грузинова, отправленный в декабре 1805 г. на английском языке из Лондона. Сообщая о ходе своей учебы, прослушанных им лекциях, Грузинов пишет: «Верьте мне, что мое постоянное стремление — выполнить ваше желание, которое было при отправке меня в Англию, и насколько в моей власти доказать это пользой для моей страны»[47].
Большое внимание Муравьев уделял воспитанию молодых ученых и в самом Московском университете: здесь он чувствовал себя настоящим «попечителем», ответственным за судьбы тех талантов, которые ярко проявлялись в студенческой среде и требовали необходимой поддержки для своего развития. Муравьев никогда не оставлял их заботой и вниманием, особенно покровительствуя их литературным занятиям. Так, например, узнав о поэтических способностях студента 3. Буринского (мы еще встретимся с ним в гл. 4), попечитель спешит написать к ректору письмо, в котором предлагает ободрить юношу в его наклонностях к стихотворству, просит пересылать его новые опыты, так же как и произведения других воспитанников, к нему, а сам предлагает Буринскому заняться стихотворными переводами античных классиков[48]. Впоследствии по просьбе Муравьева Буринский перевел капитальные исторические труды Гиббона и Геродиана; попечитель ходатайствовал о его награждении от высочайшего имени, присвоении ему ученых степеней и серьезно готовил его к занятию кафедры всемирной истории (чему помешала ранняя смерть Буринского в 1808 г.). Подобным же образом Муравьев покровительствовал, судя по его переписке, по крайней мере двум десяткам воспитанников, и даже если не мог кого-то отметить в личной беседе, обязательно удостаивал письмом с ободрением в научных занятиях.
Особой проблемой после приглашения заграничных ученых стал выбор языка преподавания в университете. Дело тут не только в незнании иностранными профессорами русского языка, но и в трудностях (на данной ступени его развития) изложения по-русски текстов определенного научного содержания. В своеобразном разделении функций языков, существовавшем в русской культуре начала XIX в., научно-философские тексты безоговорочно относились к сфере французского и, в меньшей степени, немецкого языка (который был слабее распространен в обществе). С другой стороны, Карамзин в 1803 г. в статье «О верном способе иметь в России довольно учителей» писал, что «университет всегда славился русскими профессорами, которые, преподавая науки, в то же время образовывали и язык отечественный»[49]. Разделяя точку зрения Карамзина, Муравьев стремился к всестороннему развитию русского языка и желал, чтобы он завоевывал все новые области. «Университет ободрит как сочинение, так и переложение на русский язык систем учений в разных науках». Для ускорения процесса попечитель давал задания адъюнктам, магистрам и кандидатам перевести 1–2 книги по своей специальности, чтобы «упражнением достигли они некоторой силы в искусстве писания, заблаговременно приучились к сочинению нужных для учения книг»[50]. И пока прибывающие иностранные профессора начинают чтение лекций по-французски, по-немецки или на латыни, то, как Муравьев полагает, «со временем лекции всех наук будут преподаваться на природном <русском. — А. А.> языке»[51].
Веря, что в основе гармоничного развития национальной культуры и языка лежит глубокое усвоение античных памятников, Муравьев разрабатывает обширную программу переводов классических текстов. «Мечты возможностей. Наши молодые ученые переведут Илиаду, Одиссею… Мы увидим в русской одежде Геродота (Ивашковский), Ксенофонта (Кошанский), Фукидида (Тимковский). Буринский переведет Геродиана, Болдырев Феофраста и т. д. Спешить не надобно. Пусть десять, двадцать лет жизни употребят на сию работу полезную». Таким образом, намеченные Муравьевым меры открывали путь к быстрому развитию научной мысли на отечественном языке.
Если преподавание науки в России невозможно без развитого языка, то достижение достаточно высокого уровня русского языка невозможно без развития русского читателя и, шире, русской публики. Поэтому значительное место в просветительской программе Муравьева занимает создание для Московского университета нового положения в обществе — положения его культурного центра. Вместо дворянского мира салонов, замкнутого рамками узкого дружеского кружка, университет демонстрировал новое, более широкое просветительское направление, поддерживаемое образованной частью дворянства и разночинской средой, из которой происходило большинство профессоров. Прибывшие немецкие ученые, близкие к передним рубежам немецкой культуры, принесли с собой новые европейские веяния, философию Канта, Фихте, раннего Шеллинга. Контакт между элитарным дворянскими миром и университетскими кругами призваны были осуществлять публичные лекции, открывшиеся в университете с 1803 г. Их читали профессора Фишер, Шлецер, Рейсс, Рейнгард, Сохацкий, Гейм, Иде, Страхов, Политковский. Профессора показывали пестрой московской публике, где были и мелкие чиновники, и члены самых знатных фамилий, новейшие достижения физики и химии, знакомили с трудами философской и исторической мысли. Ученые, приехавшие из Германии, старались выбирать для чтения французский язык, более распространенный, чем немецкий, в русском обществе. Большой успех публичных лекций говорил о верно угаданной потребности в такого рода зрелищах, назревшей в московском обществе, которое, с одной стороны, тянулось к современному уровню научных знаний, а с другой — рассматривало их как элемент светской жизни, «модное» времяпровождение.
Едва ли не самым внимательным слушателем лекций был Н. М. Карамзин, оставивший нам о них несколько откликов. Так, 23 декабря 1803 г. он пишет Муравьеву: «Ваша милостивая ко мне доверенность обязывает меня быть искренним: тем приятнее мне сказать, что мысль ваша имеет уже счастливое действие, что публичные лекции вообще имеют успех, и что слушателей бывает довольно. Лекции г. Страхова, имея в предмете любопытную часть физики, нравятся более других. Не только многие благородные молодые люди, но и лучшие здешние дамы слушают его с удовольствием; он же говорит ясно и с довольною приятностью. Молодой Шлецер обещает быть достойным сыном отца своего. Жаль только, что у нас немногие знают немецкий язык, но те, которые слушают и разумеют его исторические лекции весьма ими довольны. Мне остается выдать еще одну книжку вестника: я с сердечным удовольствием скажу в ней несколько слов о сей новой пользе Московского университета, в надежде на благосклонное ко мне расположение публики, с которою мне должно проститься на долгое время, а в некотором смысле и навсегда»[52]. (Действительно, статья Карамзина о публичных лекциях появилась в последнем изданном им номере «Вестника Европы» за 1803 год.) В другом письме он горячо благодарит Муравьева за покровительство, которое тот оказывает российской науке и, в частности, его историческим изысканиям. «Другого человека я не обременил бы такою просьбою, но вас знаю и не боюсь показаться смешным. Вы же наш попечитель. Господин Чеботарев, ректор, предложил мне быть почетным членом Московского университета — честь, которой я вам обязан, и за которую изъявляю искреннюю благодарность. Университет оживился. Публичные лекции привлекают многих слушателей и без сомнения распространяют вкус к наукам»[53].
Введение званий почетных членов и корреспондентов Московского университета также представляло собой новую форму связи между университетом и обществом. В почетные члены избирались известные литераторы и ученые, вельможи-меценаты, покровители наук, не только из России, но со всей Европы. Московскому университету делает большую честь утверждение 21 ноября 1804 года почетными членами «Веймарского двора советников» Иоганна Вольфганга Гёте и Фридриха Шиллера, о чем им были высланы соответствующие дипломы[54].
Подобно публичным лекциям, немедленный общественный отклик встретило желание Муравьева активизировать ученые труды университета в новой форме научных обществ широкого состава, не ограниченных только университетской средой. Фактически у этих обществ была двоякая цель: они отвечали растущим потребностям развивающейся российской науки и одновременно осуществляли ее популяризацию, организуя открытые заседания, выпуская книги, журналы и т. д. Ученые занятия обществ, по мысли Муравьева, должны были сочетаться с просветительской деятельностью, способствующей формированию научных интересов московской публики: попечитель настаивал, чтобы существование обществ постоянно ознаменовывалось какими-нибудь извещениями для публики[55], той же цели служили и ежегодно обнародуемые от лица обществ конкурсные ученые задачи. В 1804–1805 гг. последовательно открылись общества: истории и древностей российских, испытателей природы, соревнователей медицинских и физических наук. В планах Муравьева особо важное значение имело открытие Общества истории и древностей российских, призванного подготовить исправленное и комментированное издание летописей для составления в будущем полной российской истории. При этом Муравьев мечтал соединить изучение русских и античных древностей, думал о создании Латинского общества, по его инициативе вышел сборник «Эфемериды»[56] и другие публикации, содержавшие новые тексты и переводы римских и греческих авторов. Такой интерес Муравьева в конечном итоге не случаен, потому что отражает проникновение в Россию из Европы нового научного подхода к изучению античности, связанного с работами немецкого ученого И. Винкельмана.
Можно заметить, что планы Муравьева в отношении университетских научных обществ были очень обширны и не все успели осуществиться за короткий срок его попечительства. Так, не воплотился в жизнь замысел Латинского общества, не долго просуществовало Статистическое общество под председательством профессора российской истории, статистики и географии И. А. Гейма, которое должно было заниматься исследованиями современного состояния населения России.
Университет оказывал влияние на общество не только посредством публичных лекций или через деятельность ученых обществ. При попечителе Муравьеве открывается новый период в истории московских журналов, выпускавшихся в университетской типографии[57]. Начиная с 1803 г. здесь появляется ряд новых изданий, призванных восполнить недостаток научно-просветительской литературы на русском языке. Основная идея, объединявшая эти журналы, заключалась в том, чтобы дать русскому читателю разностороннее представление о современной европейской культуре, регулярно знакомить его с новинками отечественной литературы и искусства, поощрять создание новых произведений. С этой точки зрения, они продолжали дело, начатое Карамзиным. В университетской типографии по-прежнему выходил основанный им «Вестник Европы» (в 1804 г. его выкупил П. Сумароков, а затем М. Т. Каченовский), издаются профессорами Московского университета журналы: «Новости русской литературы» (проф. П. А. Сохацкий), «Политический журнал» (проф. М. Г. Гаврилов). Под редакцией профессора И. Т. Буле с 1805 г. издаются «Московские ученые ведомости», с 1807 г. — «Журнал изящных искусств», выходят новые журналы, в составлении которых принимали участие профессора и другие сотрудники университета: «Периодическое издание о полезных изобретениях, ремеслах и художествах» (Дружинин), «Друг просвещения» (Голенищев-Кутузов, Салтыков, Хвостов), «Аврора» (Рейнгард, Десанглен), «Журнал Отечественной музыки» (Кашин), литературные альманахи благородного пансиона[58].
Среди открывшихся журналов появляются специализированные издания, направленные к определенной профессионально заинтересованной группе читателей. Постепенно уходит традиция «журналов одного лица», резко увеличивается число авторов и публикуемых ими статей по разным научным предметам. Замыслы Муравьева касаются и воспитания детей, для которых он открывает журнал «Друг юношества», поручив его выпуск новому начальнику университетской типографии, сподвижнику Новикова М. Невзорову. Новый уровень, на который выходит университетская журналистика, потребовал изменений в организации типографского дела: по мнению профессоров, выгоднее было теперь не отдавать типографию на откуп, а подчинить ее правлению университета, причем все ее доходы поступали бы также в распоряжение правления. Эта реформа была закреплена новыми «Правилами для производства дел в университетской типографии», одобренными попечителем и утвержденными 11 октября 1806 г. В первый же год сумма дохода позволила целиком окупить содержание академической гимназии. Через несколько месяцев вслед за этим новые постановления получили также академическая гимназия и благородный пансион.
Надо сказать, что, заботясь о благосостоянии московских учебных заведений, Муравьев не оставлял вниманием и нужды всего учебного округа. В 1803–1804 гг. он объехал подчиненные ему губернии, следил за подготовкой учителей и открытием там народных училищ. Среди них особо выделим основанный в 1804 г. в Ярославле на пожертвования московского миллионера Демидовский лицей.
Преобразования университетского благородного пансиона были последними в череде реформ, связанных с деятельностью попечителя М. Н. Муравьева. Разъезды, хлопоты подточили его здоровье. В конце февраля 1807 г. в Петербурге умер И. П. Тургенев, и на похоронах своего друга Муравьев простудился и серьезно заболел. По семейным преданиям, тяжелый приступ болезни вызвали у него известия о поражении русских войск под Фридландом и о Тильзитском мире[59]. 28 июня 1807 г. он скончался.
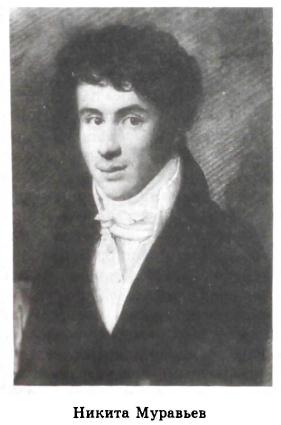
«Муравьев, как человек государственный, как попечитель, принимал живейшее участие в успехах Университета, которому в молодости был обязан своим образованием. Под руководством славнейших профессоров московских, в недрах своего отечества приобрел он сии обширные сведения во всех отраслях ума человеческого, которым нередко удивлялись ученые иностранцы: за благодеяния наставников он платил благодеяниями сему святилищу наук; имя его будет любезно сердцам добрым и чувствительным, имя его напоминает все заслуги, все добродетели, — ученость обширную, утвержденную на прочном основании, на знании языков древних; редкое искусство писать он умел соединить с искренней кротостью, с снисходительностью, великому уму и добрейшему сердцу свойственною», — так писал о Муравьеве К. Н. Батюшков, выросший и получивший образование в его доме, а затем служивший в канцелярии попечителя[60]. Единодушные восторженные отзывы о нем оставили другие современники, среди которых Н. М. Карамзин, С. Н. Глинка, В. А. Жуковский. Муравьев привлекал неповторимым обаянием своей личности, простотой, отзывчивостью, которые сохранял, несмотря на близость к высшим государственным сферам, благодаря выработанному годами чувству внутреннего достоинства, огромной душевной свободы.
Как вспоминал Вигель, «М. Н. Муравьев был примером всех добродетелей и после Карамзина, в прозе, лучшим у нас писателем своего времени. Он платил дань своему веку и мечтал о народной свободе, пока она была еще прекрасною мечтою, а не ужасною истиной; кроткую душу его возмущало слово тиранство»[61]. В 1807 г. у него подрастал сын Никита, и отец начинал обучать его основам наук, тем идеям века Просвещения, философии Руссо, которыми руководствовался всю жизнь (сохранились конспекты его лекций сыну)[62]. Никита вырастет и станет одним из руководителей Северного общества декабристов, автором проекта России ской конституции. Как замечала позже правнучка М. Н. Муравьева, «эта философия Руссо… не помешала Михаилу Никитичу быть государствен ным деятелем, товарищем министра народного просвещения, веселым и милым светским человеком; но та же философия, пересаженная на душу его сына, привела последнего к каторге и ссылке. Различные поколения воспринимали ее различно»[63].
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
ОСНОВАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ОСНОВАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Михаил ЛомоносовРоль Михаила Васильевича Ломоносова в мировой науке однозначно оценить нельзя. Человека, которого наша официальная история сделала главным российским ученым, во всем мире знают очень плохо. Да, интересы его были
Основание Московского университета
Основание Московского университета стория России, как, впро-чем, и других государств, содержит немало легенд и парадоксов. Спросите: «Кто положил первый камень в основание Петербурга?» И большинство опрошенных ответит; «Петр I». На самом же деле — его соратник А. Д.
В. А. САХАРОВ, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
В. А. САХАРОВ, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова В качестве тезисов выступления к материалам «круглого стола» прилагается его статья «Германские документы об эксгумации и идентификации жертв Катыни
АЛЕКСЕЙ ВДОВИН, профессор Московского государственного университета
АЛЕКСЕЙ ВДОВИН, профессор Московского государственного университета «Ленинградское дело» закончилось расстрелами 32 тысяч человек Русский вопрос и до войны, и после нее не терял актуальности в силу явных противоречий в национально-государственном устройстве СССР.
1755 Основание Московского университета
1755 Основание Московского университета В конце 1740-х гг. фаворитом Елизаветы был Иван Шувалов, человек умный, образованный, любитель литературы и искусства. Шувалова отличали скромность и доброта. Для него была важнее та жизнь, которую он вел параллельно внешней, суетной,
Просветительская критика и просветительская альтернатива университетам
Просветительская критика и просветительская альтернатива университетам Аргументы просветителей против университетов сводились главным образом к осуждению их корпоративной, «цеховой» природы как не соответствующей требованиям времени.Сюда, во-первых, входило
Организация Московского университета
Организация Московского университета С конца 1740-х гг., после перерыва в два с лишним десятилетия, российское государство вновь начало предпринимать меры по развитию высшего образования. Соответствующие проекты нашли поддержку внутри узкого круга просвещенных вельмож
Из истории старого Московского университета
Из истории старого Московского университета Теперь, когда думаешь о времени основания Московского университета, кажется чудом, как при тогдашних обстоятельствах и порядках могло учредиться такое отвечающее национальным интересам начинание, причем столь прочное, что
Глава 1 Реформы Московского университета 1803–1806 г. и его первый попечитель М. Н. Муравьев
Глава 1 Реформы Московского университета 1803–1806 г. и его первый попечитель М. Н. Муравьев 1. Университет на рубеже XVIII–XIX веков В начале XIX в. Московский университет переживал период обновления, резкой перестройки своей административной структуры, системы преподавания.
Глава 3 Преподавание наук и научная деятельность Московского университета
Глава 3 Преподавание наук и научная деятельность Московского университета Преобразования 1803–1806 гг. открыли широкие возможности для развития университетской науки. Заботясь о народном просвещении в целом и особенно важную роль отводя научным знаниям, которые должны
3. 1. Дружеские собрания и литературные кружки воспитанников Московского университета
3. 1. Дружеские собрания и литературные кружки воспитанников Московского университета Со студенческих скамей допожарного Московского университета вышло немало замечательных людей, оставивших свой след в истории России, будущих писателей, поэтов, деятелей