9. Хорошо выученные жестокие уроки
9. Хорошо выученные жестокие уроки
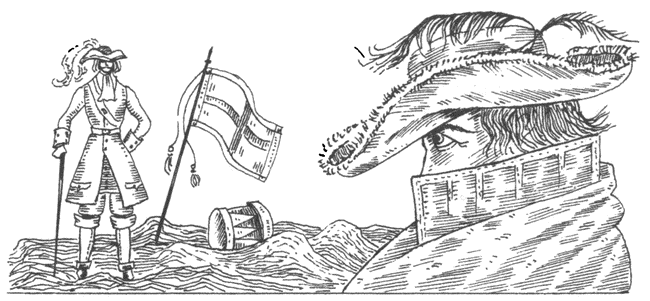
Не избежав лукаво-ласковых сетей деятелей европейской политики, в том же 1699 году, когда подданным русского царя было приказано курить и бриться, Петр Алексеевич заключил тайный пакт с королями Дании и Польши, готовившимися объявить войну Швеции.
Эта война, вошедшая в анналы мировой истории под названием «Северная», началась в феврале 1700 года. В нее русский царь Петр вступил, уже имея опыт двух военных походов, совершенных в низовья Дона, увенчавшихся в 1696 году взятием сильной турецкой крепости Азов, открывавшей выход в Черное море. Но под Азов ходила рать, в которой многое еще оставалось от прежнего русского войска, а в 1700 году в поход выступила армия, скомплектованная по европейскому образцу, под командованием в основном офицеров-иностранцев. Имелось и еще одно весьма немаловажное отличие от прежних походов — рядом с Петром уже не было двух его главных военных советников: в начале марта 1699 года скончался Франц Лефорт, а в декабре того же года умер Патрик Гордон. Еще прежде их, в 1694 году, умер старый наставник Петра, боевой генерал и дипломат Павел Менезий, и таким образом вокруг царя не осталось офицеров-иноземцев, которых можно было бы назвать «друзьями, проверенными временем». Однако, окрыленный первыми победами, Петр Алексеевич не сомневался в грядущем успехе, а главное — он не видел в короле Карле достаточно сильного противника. И не один он думал так о шведском монархе, который совсем недавно, в 1697 году, пятнадцатилетним юношей вступил на престол.
Аккредитованные при шведском дворе дипломатические агенты исправно доносили своим правителям о шумных забавах и дерзких выходках шведского короля. Они отмечали склонность юного монарха рядиться в пышные костюмы и устраивать роскошные охоты. Непременно упоминали о его странных фантазиях, позволявших усомниться в душевном здоровье. Молодой человек уже вошел в тот возраст, когда начинают задумываться о женитьбе, а он все еще по-детски грезил рыцарскими подвигами, и не только грезил — Карл наяву старался во всем походить на пращуров. Он возродил обычай охоты на лесного зверя с холодным оружием и сам ходил на медведя в одиночку, вооруженный лишь рогатиной, ножом да боевой дубиной, как некогда охотились легендарные конунги, от которых Карл производил линию своего рода. В чем-то Карл был странно схож с Петром — тот из кожи вон лез, чтобы обратить русских в немцев и голландцев, а Карл спал и видел, как бы вернуть шведам славу викингов, от одного имени которых дрожали Европа, Сицилия и Северная Африка.
Наблюдавшим это странное и во многом безалаберное правление тогда казалось, что мальчишка-король не сегодня-завтра свернет себе шею в одном из опасных предприятий, которые он то и дело затевает, но если даже каким-либо чудом уцелеет, то все равно не сможет толком править. Вернувшись к родным пенатам, побывавшие в Швеции посланники в устных отчетах высказывали то, что не решались доверить бумаге, уверяя своих государей и шефов внешней политики: «Король Карл слишком молод, необразован и мечтателен. Он мыслями витает в неких дальних краях, населенных героями прошлого, рыцарями и драконами. Такой государь не сможет организовать оборону метрополии, не говоря уже о заморских землях шведской короны».
Эти доклады вводили в изрядный соблазн правителей соседних со Шведским королевством стран, которые имели тайные претензии на сопредельные земли, некогда отвоеванные у них шведами и унаследованные Карлом по праву рождения. Многим политикам казалось глупостью не воспользоваться моментом, когда великой страной правит столь ничтожный государь, в голове у которого одни только пиры, забавы, скачки да еще грезы о былых временах…
Как оказалось, самоуверенные дипломаты и политики просмотрели в необычном короле очень многое. Когда в 1699 году войска Польши, Дании и России в разных местах атаковали шведские владения на европейском континенте, Карл повел себя вполне по-взрослому. На борт боевого корабля, отправлявшегося к датским берегам, король взошел, одетый как солдат, отправляющийся в поход. В тот момент, когда по его команде поднимали якоря, Карл демонстративно сорвал со своей головы пышный парик и бросил за борт — это был знак того, что с прежними забавами покончено навсегда.
Первой жертвой его военного таланта стали датчане: Карл высадил армию возле Копенгагена и сам шел с первой волной атакующих, по грудь в холодной воде под пулями и картечью противника. Опрокинув оборону лобовым ударом морского десанта, король приказал устроить недалеко от столицы неприятеля укрепленный лагерь, а потом приказал своему военно-морскому флоту атаковать датскую столицу. После ожесточенной артиллерийской бомбардировки датский король Фредерик IV запросил мира, обязуясь прекратить боевые действия в Гольштейн-Готторпском герцогстве, вторжение в которое и стало причиной объявления войны. Добившись своего от одного противника, Карл немедленно принялся за других.
Следующим под удар шведской военной мощи попал польский король Август II Саксонский, который занял польский престол, посулив сейму взять у шведов Ригу и отвоевать прибалтийские земли. Обложив Ригу плотной осадой, он приказал обстреливать город, но затем неожиданно увел войска от города. Объяснение его странного поведения есть у шведского мемуариста. Будто бы в лагерь к Августу прибыли представители английских и голландских коммерческих фирм, которые стали сетовать, что до осады с рижских складов не успели вывезти ценные товары; теперь этим товарам грозила гибель от бомбардировок тяжелой осадной артиллерии, а в случае взятия города — от бесчинств мародеров. Чтобы избежать этого, господа негоцианты, скинувшись, собрали 100 тысяч ефимков, которые с радостью готовы были поднести королевскому величеству при условии, что ему угодно будет отложить взятие Риги до весны, когда товары уйдут со складов к покупателям. Король вошел в тяжелое положение купечества и, чтобы не подрывать европейскую торговлю, деньги соизволил принять.
В это же время русская армия под руководством царя Петра I вторглась в Ингерманландию и осадила шведскую пограничную крепость Нарва. Шансы на успех у русских были весьма велики: большая часть нарвского гарнизона ушла на выручку Риги, а в распоряжении Петра было сорок тысяч солдат и мощная артиллерия, по иронии судьбы составленная из пушек шведского производства.
Часть орудий, с которыми Петр осаждал Нарву, подарил русским шведский король Карл XI перед походом на Азов, а остальные были куплены в Швеции незадолго до войны, уже при Карле XII. В этом шведскому монарху виделось особенное коварство — он разрешил продать пушки, считая короля Петра своим союзником, а тот из этих орудий палил теперь по Нарве, где с трудом держался гарнизон в полторы тысячи штыков, подкрепленный четырьмя сотнями вооруженных нарвских обывателей.
Избавившись от забот по деблокаде Риги, Карл получил возможность целиком переключиться на Нарву и, перекинув морем 5 тысяч пехоты, 3 тысячи конницы и 37 пушек, высадился у Пярну. Туда же по его приказу стали стягиваться другие шведские отряды.
Узнав о высадке шведов, государь Петр Алексеевич, несмотря на значительное численное превосходство своей армии, все же решил привести из Новгорода подкрепления, а главное, доставить оттуда пороховой обоз — тот порох, что был в лагере под Нарвой, основательно подпортила осенняя сырость. Так как сделать все нужно было быстро, в Новгород царь решил ехать сам, справедливо полагая, что при его участии дело пойдет живее. Отъезжая, Петр назначил главнокомандующим герцога де Круа, приехавшего в Новгород из Польши с поручениями от короля Августа. Это была большая ошибка.
Подданный французской короны Карл де Круа получил свой титул от французского монарха Генриха IV. Генеральских чинов он достиг, служа под знаменами датского короля и императора Священной Римской империи. Петр Алексеевич познакомился с ним во время своего пребывания в Амстердаме и был очарован его военной опытностью и житейской бывалостью. Тогда же он пригласил де Круа на русскую службу, но прагматичный герцог предпочел саксонский контракт. Судьба, однако, распорядилась так, что в августе 1700 года он все-таки оказался в стане русской армии и весьма неожиданно получил предложение стать главнокомандующим.
Де Круа был опытный и храбрый вояка, но он совершенно не понимал по-русски и мало знал войско, которым ему было поручено командовать. И это было еще полбеды! Главной проблемой Карла де Круа был хронический алкоголизм — его высочество даже по российским меркам слишком усердно «закладывал за воротник». Все дела, каковые требовали его распоряжений, надо было успевать обделывать до обеда, ибо позже он чаще всего пребывал «ни к какому делу бысть употреблен неспособен».
Перед отъездом в Новгород царь Петр подписал ряд приказов, утверждавших единоначалие де Круа и обязывавших русских офицеров ему подчиниться. Оставленная царем инструкция гласила: «Все генералы, офицеры, даже и до солдата, имеют в небытии его царского величества быть под герцога де Круа командой во всем, яко самому его царскому величеству, под тем же артикулом». Однако, даже несмотря на прямые распоряжения царя, этот внезапно появившийся в лагере человек не имел среди подчиненных ему офицеров никакого авторитета, что вылилось в открытую распрю между ними, едва только Петр отбыл из осадного лагеря. Занятый сведением личных счетов, командный состав осадной армии мало-помалу перестал контролировать происходящее.
Между тем армия Карла уже была на подходе к Нарве, но в русском лагере об этом не догадывались; русские генералы исходили из того, что на подмогу осажденным идут какие-то отряды, чтобы помешать подготовке решающего штурма. Выступивший на совете генерал Борис Петрович Шереметев даже предлагал выйти из лагеря всей армией навстречу этим отрядам и разом ликвидировать угрозу.
Сколь это ни покажется удивительным, но именно этот демарш — при полном незнании реальной ситуации — мог бы спасти кампанию; шведы располагали меньшими силами, только что совершили тяжелый марш и, конечно, не были готовы к встречному бою с превосходящими силами противника. Но никто не захотел брать на себя ответственность за столь решительный шаг — при отъезде царь велел осаждать крепость, а выходить, то есть проявлять своевольство, желающих не нашлось. Предложение Шереметева отклонили, и армия осталась в лагере, вытянутая в тонкую линию, не имея резерва и глубины фронта.
К вечеру 19 ноября 1700 года повалил сильный снег, и при плохой видимости русские дозоры прозевали подход шведской армии. Зная от своих разведчиков и перебежчиков русскую диспозицию, Карл решил атаковать с ходу, ничуть не смущаясь пятикратным превосходством сил противника.
Словно призрак шведское войско вынырнуло прямо из белой стены снегопада всего в двадцати шагах от русского лагеря; новинка тогдашней тактики — штыковая атака, знакомая русским солдатам только по учениям, — вызвала панику в их рядах. Попытки офицеров как-то организовать оборону потерпели крах; тогда офицеры-иноземцы во главе с герцогом де Круа сдались на милость короля.
Это была полная виктория шведского оружия. От абсолютного разгрома армию Петра спасла лишь стойкость Преображенского, Семеновского и Лефортовского полков, сумевших удержать позицию до наступления темноты, когда битва по естественным причинам прекратилась. В память о проявленном героизме солдатам и офицерам этих полков впредь велено было носить форменные чулки красного цвета — в знак того, что под Нарвой они сражались, «стоя по колена в крови»
Утром 20 ноября была русскими подписана капитуляция, по условиям которой армия уходила из-под Нарвы, оставив победителям всю артиллерию и обозы.
В советской литературе, в частности в известном романе Юрия Германа «Россия молодая», сдавшиеся в плен под Нарвой офицеры-иностранцы, служившие в армии Петра, были выведены подлыми предателями, продавшимися за деньги. Их якобы осыпали золотом и чинами, сделали главными советниками при подготовке новой войны. Это неправда — у шведов, лютеран по исповеданию, склонных к аскетизму и умеренности, было не принято «осыпать золотом», да и возможностей таких у королевства не имелось. Попавшим в плен под Нарвой офицерам жилось очень худо, а печальнее всех история приключилась с герцогом де Круа: его отвезли в Ревель и никуда не отпускали; на пансионное содержание шведы его не приняли, жалованья герцог не получал и наделал долгов. При этом его сиятельство продолжал крепко пить. Находясь в неволе, он писал королю Августу и царю Петру, прося поддержать свое существование, и кое-какие деньги ему присылали, но все эти средства по постановлению городского суда арестовывали и пускали на удовлетворение претензий кредиторов. Пленному фельдмаршалу приходилось снова одалживаться, и он так запутался в своих делах, что, когда 30 января 1702 года пьянство его окончательно добило, заимодавцы добились запрета на захоронение трупа до удовлетворения всех долговых обязательств. Покойника натурально арестовали, и более ста лет набальзамированное тело фельдмаршала сохранялось в подвале ревельской церкви Св. Николая. Наследники герцога, если таковые имелись, не спешили выкупить его останки, а потом о них благополучно позабыли.
Мумифицированное тело герцога случайно обнаружили в 1819 году и по распоряжению прибалтийского генерал-губернатора маркиза Паулуччи поместили под стеклянным колпаком в одной из капелл Николаевского храма. На эту мумию специально приходили посмотреть приезжие, которым демонстрировали местные достопримечательности. Среди таких туристов был и лицейский друг Пушкина Дельвиг, который, делясь впечатлениями о Ревеле, писал Александру Сергеевичу, что покойный герцог де Круа лицом похож на папашу Пушкина, Сергея Львовича, но «только важнее видом будет».
Этому занятному аттракциону в 1870 уже году решил положить конец вновь назначенный генерал-губернатор князь Волконский, приказавший похоронить тело по христианскому обряду. И тут вышла изрядная закавыка! Оказалось, что вдобавок к саксонскому чину фельдмаршала царь Петр за те лишения, которые терпел герцог в плену, незадолго до смерти де Круа произвел его в генерал-фельдмаршалы русской службы. По уставу военного такого ранга полагалось хоронить со всеми высшими почестями — в присутствии особ императорской фамилии, частей гвардии и представителей дипломатического корпуса. Не зная, как быть, господин генерал-губернатор подал рапорт на высочайшее имя и получил резолюцию императора Александра II, собственноручно начертавшего: «Похоронить тихо». Исполняя это повеление, многострадальные останки герцога без лишней помпы поместили в склеп капеллы Клодта, где они пролежали до 70-х годов уже двадцатого века, когда на них наткнулись советские реставраторы, занимавшиеся ремонтом храма. И в этот раз находка тела де Круа вызвала оживленную дискуссию и переписку, но в конечном итоге дело все же пришло к своему логическому финалу, и в 1979 году останки герцога были — наконец-то! — преданы земле.
Подвергнув «своего царственного брата Петра прискорбной конфузии», шведский король обратил свой взор на Польшу и принялся крушить армию короля Августа. А что же «венценосный брат» Петр? Урок, преподанный под Нарвой, явно пошел впрок. Слухи о позорном разгроме разнеслись по всей Европе. Больно ударила по его самолюбию потешная медаль, выбитая по приказу Карла XII: на ней Петр был изображен выронившим шпагу, потерявшим шляпу, льющим слезы. Но именно в этот критический момент в нем проявились качества настоящего царя. Еще в точности не было известно, во что обошлась «нарвская конфузия», когда Петр начал готовиться к новым сражениям.
Чего только стоит история со снятием колоколов! Штука была в том, что большую часть торговли железом и вообще металлами Россия вела через Швецию. Русская артиллерия, оставленная под Нарвой в качестве трофея короля Карла, состояла как раз из орудий шведского производства. Вместе с пушками в руки неприятеля попал и главнокомандующий русской артиллерией, первый русский генерал-фельдцейхмейстер грузинский царевич Александр Арчилович. Он родился в 1674 году в Тифлисе; когда ему было десять лет, отец, царь Имеретии Арчил II, вывез его и брата Мамуку (Матвея) в Москву, куда и сам приехал, спасаясь от неурядиц на родине. Молодые князья воспитывались при русском дворе вместе с детьми остальной туземной аристократии, состоявшей в российском подданстве: царевичами сибирскими, касимовскими и прочими.
Царевич Александр был одним из «потешных» царя Петра и его верным товарищем. Их дружба прервалась, когда в 1688 году царь Арчил снова отправился в Грузию, чтобы бороться за свои владения, а сыновей взял с собой, но в родных краях было слишком опасно, и четыре года спустя отец отослал юношей обратно в Москву. Вошедший в возраст царевич женился на дочери боярина Ивана Михайловича Милославского, породнившись с русской аристократией. Затем он участвовал в европейском вояже Петра. В Амстердаме царь изъявил желание послать Александра Арчиловича в Гаагу для изучения артиллерийского дела, чем царевич и занимался до 1699 года. По возвращении в Россию он был обласкан, награжден землями и людьми. Ему пожаловали чин генерала русской службы и передали в его ведение Пушкарский приказ.
Оказавшиеся в плену офицеры содержались сначала в Нарве, потом их отправили в Швецию. Предложения Петра о выкупе или обмене встречали отказ, пленные писали ко двору, что содержат их «худо и в большой строгости». За генерал-фельдцейхмейстера шведы требовали отпустить шестьдесят своих пленников. Царь Петр написал Александру Арчиловичу, спрашивая его мнения о таком обмене, — тот решительно отказался, написав, что идти на это никак нельзя. В очень тяжелых условиях грузинский царевич провел целых десять лет, прежде чем в 1710 году стороны наконец-то сговорились поменять его, князей Трубецкого и Долгорукова и генерала Автонома Головина на фельдмаршала Реншельда и графа Пипера. Пленников повезли к пункту обмена, но изможденный лишениями многолетнего плена царевич Александр в дороге умер, и шведы отдали русским уже его бездыханное тело.
Артиллерию после Нарвы пришлось создавать заново. Петр призвал к этому занятию Андрея Андреевича Виниуса, сына голландского купца, с которого началась русская металлургическая эпопея. Старший Виниус крестился по православному обряду, стал Андреем Денисовичем и был записан в московское дворянство. Сын, названный по батюшке Андреем, родился в 1641 году и получил порядочное образование. Свою карьеру Андрей Андреевич начал, служа в Посольском приказе, где занимался переводами, ездил с поручениями в Англию, Францию, Испанию и другие страны. Потом под начало Виниуса отдали устройство почтовой службы, во главе которой он простоял четверть века. Когда ему было уже за пятьдесят лет, Петр поставил его руководить Сибирским приказом, а после «нарвской конфузии» сделал «главным по артиллерии».
Отчего именно его? О том судить трудно — возможно, просто «по старой памяти», а может, и оттого, что во время управления Сибирью Виниус, среди прочего, занимался устройством рудников и плавильных заводов. Как бы то ни было, но Андрей Андреевич довольно удачно повел дело: ему удалось привлечь нескольких мастеров-литейщиков и пушечных мастеров из Голландии, набрать штат квалифицированных рабочих, а чтобы преодолеть проблему дефицита качественного металла, годного для литья пушек, Виниус предложил переплавить церковные колокола.
Это была рискованная затея: во-первых, снятие колоколов со звонниц вызвало возмущение верующих и грозило бунтом, а во-вторых, не было никакой гарантии того, что пушки из этой бронзы будут пригодны для стрельбы. Артиллерийские орудия отливали из сплава, в котором медь и олово были в пропорции девять к одному, а на колокола шел сплав, где меди было 78 процентов, а олова соответственно 22. Но других возможностей в короткий срок возродить артиллерию никто не предложил, а потому царь Петр принял предложение Виниуса; при жесточайшем подавлении всяких попыток сопротивления колокола были сняты и свезены на московский Пушечный двор, где их перелили на пушки, которые — ко всеобщему облегчению — оказались вполне сносного качества.
Большая война требовала многих специалистов, но главным дефицитом были военные врачи. Громадное количество раненых и повальные болезни, косившие войска, — все это ослабляло армию, а подготовка своих медиков оставалась на том же уровне, что и при государе Алексее Михайловиче Тишайшем.
До середины XVII столетия врачи, работавшие на Руси, разделялись на две неравные части: к первой, «привилегированной», относились те, что приезжали из разных стран по контракту — лечить царя, его семью, придворных, знатных бояр и прочих лиц «непростого звания». Они составляли в Московском царстве своего рода замкнутую касту, чему способствовало и то, что иноземцам не дозволялось жить среди русских и в Москве они поселялись в Немецкой слободе. Если же лекарю-иностранцу доводилось жить в провинции, то он обитал при доме своего патрона, опять-таки находясь на особом положении.
Вторую, куда более многочисленную часть врачевателей, составляли местные целители, пользовавшие люд попроще. Свое искусство и знания они передавали по наследству, как и во всяком другом ремесле, однако не следует думать, что врачом мог объявить себя любой. Чтобы получить официальное разрешение на врачевание, необходимо было пройти испытание в Аптекарском приказе, в книгах которого записывались имена лекарей; прошедшим испытание выдавалось свидетельство — выписка из приказной книги. Уличенных в незаконном врачевании могли выдрать кнутом «как изобличенную шельму».
То же самое касалось аптекарского дела. О первых аптекарях-европейцах, поселившихся в Москве, сведения сохранились самые смутные. Появились они во времена правления Ивана Грозного, когда на русскую службу стали целенаправленно приглашать иноземных ученых и мастеров разных ремесел. Подробностей о работе приезжих медиков того времени сохранилось мало; в Никоновской летописи под 1554 годом помянут некто «литвин Матюшка аптекарь», которого привлекли к расследованию по каверзному делу о проповеди ересей. В документах сей Матюшка (вообще-то звавшийся Матиасом) и его подельник Андрей Хотеев названы «латынниками», то есть католиками. Но скорее всего, они проповедовали протестантизм, который проник в Литву в 20-х годах XVI столетия — в то время многие литовские магнаты из католичества переходили в кальвинизм и лютеранство. Проповедь литовских протестантов в российских пределах была пресечена со всевозможной жестокостью.
Следующая волна фармацевтов прибыла на Русь из Великобритании, и именно англичанину выпало быть вписанным в скрижали истории в качестве «первого российского аптекаря». Речь идет об аптекаре Джеймсе Френчеме, который прибыл на службу русскому царю вместе с лейб-медиком английской королевы Робертом Якоби. У этого аптекаря была своя самая настоящая аптека, открывшаяся в Кремле в 1581 году. Весьма вероятно, что эта аптека существовала и до него, но более ранних упоминаний о ней не сохранилось. В любом случае только с появлением Френчема, который получил на обустройство достаточно средств, аптека стала такой, какой надлежало быть придворному заведению. Она снабжала лекарствами только царя и его семью; в редких случаях лекарства отпускались по письменному ходатайству видным боярам.
Проработав в Москве два года, Френчем отправился домой, чтобы повидаться с престарелым отцом, о чем Ивана Грозного в своем послании просила сама английская королева. Затем он еще раз приезжал в Москву, уже в 1602 году, и привез с собой большой запас снадобий. В представленном им списке указаны 207 наименований плодов, трав, корней, кора разных деревьев и кустов, разные роды камеди, смолы и эфирные масла. Но сохранились сведения и о том, что мистер Френчем тайно, в обход английской таможни, в Московию вывез ларец, содержимое которого в списке не фигурировало. Поговаривали, что, хорошо зная потребности русского двора, Френчем доставил в Москву коллекцию отборных ядов, произведенных по рецептам американских индейцев, против которых у европейцев противоядий не имелось.
Путешественник Шлейзинг, посетивший Москву в середине XVII века, восхищался роскошью кремлевской аптеки: «Там я видел стеклянные сосуды из лучшего хрусталя, прекрасно отполированные и украшенные резьбой, серебряные витрины и много позолоченных инструментов, банки и другие необходимые аптечные принадлежности из лучшего серебра и золота. При этом все расположено в образцовом порядке». Стены и потолки комнат, занятых аптекой, были расписаны, полки и двери обиты лучшим английским сукном, подоконники устланы бархатом, в окнах были вставлены разноцветные стекла. Там были европейские механические часы, большой глобус, чучела птиц и животных. В самих аптекарских помещениях и даже на улице поблизости от них соблюдалась образцовая чистота, что по тем временам тоже было частью необыкновенной роскоши.
В ту пору кремлевскими аптекарями были по-прежнему только иноземцы, за которыми был особый догляд. Комната, в которой хранились и готовились лекарства, называлась «казенка» — она опечатывалась печатью особого дьяка. Рецепт, выписанный доктором, поступал в Аптекарский приказ с приложением «сказки» — описания лекарственных свойств всех ингредиентов. «Сказка» докладывалась царю и начальнику Аптекарского приказа, и после разрешения царя рецепт поступал в аптеку. Лекарство изготавливалось аптекарем в присутствии выписавшего рецепт доктора и особого дьяка. Состав лекарства и фамилия его составителя заносились в особую книгу. Затем приготовленное лекарство отведывалось доктором и аптекарем и кем-либо из назначенных царем придворных. Если через определенное время никому из подопытных не становилось плохо, то лекарство принимал сам царь. Остатки лекарства допивала все та же компания, чтобы исключить возможность подсыпать чего-нибудь уже после того, как главная проба бывала снята. Эта система работала, и случаев отравления лекарствами царственных особ на Руси отмечено не было.
Долгое время количество аптек на русской земле измерялось единицами и пользоваться их услугами мог весьма ограниченный круг придворных. Все остальные, до бояр включительно, приобретали лекарственные средства в зелейных (то есть там продавали «зелья»), москательных и овощных лавках. Продавцы зелейных лавок и были фактически первыми русскими аптекарями, хотя этим словом и не назывались.
Товар в эти лавки попадал разными путями. Основную массу «зелий» вырабатывали из растений и трав, которые выращивали на огородах и собирали в дикой природе. То, что нельзя было вырастить в саду, на огороде, отыскать в поле или в лесу, закупали у иноземных купцов, приходивших с торговыми караванами из разных стран. Долгое время эта торговля находилась в руках армянских купцов, имевших большие связи по всему Ближнему Востоку, вплоть до индийских княжеств. Эти купцы также исполняли в дальних странах разные дипломатические поручения московских правителей, а потому получали их покровительство и торговые льготы. Караваны армянских купцов из Персии и иных южных стран приходили в Астрахань, и там «коренья и зелья для врачебных потребностей» продавались небольшими оптовыми партиями, которые потом по Волге доставляли в разные места российского государства. В дороге импортные «зелья» не раз меняли хозяев, а потому, добравшись до Москвы, значительно дорожали; но те же самые товары в Европе стоили еще дороже. Главным предметом этого «зелейного импорта» был опий — он был единственным надежным обезболивающим средством; кроме того, опийные настойки прекрасно лечили желудочно-кишечные расстройства.
В таком промысле, как торговля «зельями», имелись и свои тонкие моменты. Во-первых, сидельцев зелейных лавок, травников (их еще называли «помясами»), часто принимали за колдунов, а потому могли под горячую руку и придать самосуду. Во-вторых, лечение не всегда бывало успешным, а винить в неудаче проще всего плохое лекарство, что тоже было для «зелейников» проблемой; доходило до поджога лавок. В-третьих, и сейчас подчас применяют лекарство, не соблюдая рекомендованной дозы, способа и времени, а прежде полагали, что чем больше принять, тем лучше поможет, а потом виноватили все тех же «зелейников» и лекарей. Наконец, бывали и случайные ошибки, от которых никто не застрахован.
Так, в 1686 году «сиделец» московской зелейной лавки Туленщиков, будучи крепко выпивши, отвесил покупавшему у него лекарю Харитонову вместо золотника вяленых рачьих глаз такую же мерку сулемы. Лекарь вбухал сулему в отвар для захворавшего подьячего, отчего тот и помер. Когда Харитонова потянули к ответу, он указал на «зелейника», и того выслали из Москвы в Курск, который тогда был приграничным городом, и ссылка туда считалась страшным испытанием.
Законы российского государства для подобных случаев несколько раз ужесточались, и к концу XVII века, уже при Петре Алексеевиче, поведено было «зелейников», «кто нарочно или не нарочно уморит, того казнить смертию». Но и крутость этих мер ничего не гарантировала, подтверждением чему стала история с отравлением боярина Салтыкова, случившаяся в 1699 году.
Болевший боярин принял перед сном некое зелье, уснул и не проснулся. Снаряженное следствие установило, что средство это в дом Салтыкова принес лечивший его дворовый человек Алексей Каменский, который, призванный к допросу, и не думал отпираться. Он рассказал, что боярин жаловался на плохой сон и просил принести ему какое-нибудь снотворное, а он пошел на торжище в Зелейный ряд и там в лавке у сидельца Варфоломея приобрел немного опия: «купил на три деньги осьмую долю золотника арья-ну (так называли опий русские. — В.Я.)». Это показание подтвердил и Варфоломей, уточнив, что рекомендовал «давать оный арьян, отмеряя против трех зерен конопляных». Следуя этой рекомендации, Алексей Каменский купленный в Варфоломеевой лавке арьян «разнял на 12 дач и давал барину для сна». Но, согласно домашней иерархии, подавать лекарство боярину должен был не лекарь, а «комнатный малый» — русский аналог камердинера. Вот этот самый «малый», интеллектом не блистая, взял двенадцать доз снотворного да и ахнул их все разом в кубок с питьем, поднеся эту смертельную дозу барину. В результате Салтыков под глубоким наркозом преждевременно перешел в мир иной, а лечившего его Алешку Каменского в компании «комнатного малого» по приговору Боярской думы укатали в Азов на каторгу без срока.
В это время как раз из заграничного вояжа вернулся царь Петр, насмотревшийся на лучшие образцы аптекарского дела в Нидерландах, Франции, Англии и разных немецких землях. Ознакомившись с делом о смерти Салтыкова и еще несколькими подобными, он решил в корне изменить систему торговли лекарствами и указом от 27 октября 1701 года повелел: «Зеленому ряду, что в Китае-городе, такоже и по улицам, где есть в Китае и в Белом городе что-нибудь лавки, в которых торгуются и продаются товары, всякие зелья и масти будто за лекарства, и тем лавкам не быть, никакими зельями и травами, и мастьями, и лекарствами никому в тех местах мимо аптек не торговать и не продавать, и тот зелейный ряд по улицам и перекресткам лавки очистить, и продавцам тем товаром выехать вон из Ратуши».
Месяцем позже царь издал еще один указ, которым в Москве учреждались восемь «вольных аптек». Одна из них принадлежала сыну пастора Грегори, Иоганну Готфриду, которого, родившегося в Немецкой слободе, уже можно считать «коренным» москвичом. После смерти пастора Грегори его вдова вышла замуж за аптекаря Иоганна Гутбиера, заведовавшего кремлевской аптекой. Своего пасынка Гутбиер пристроил к делу, которым занимался сам, и тот, работая под началом отчима с 1689 по 1692 год, получил звание «алхимиста». Затем юношу отправили учиться в Ригу, где он год стажировался в аптеке «доктора и королевского врача» Фишера, а потом поехал на родину предков, в немецкий город Мюльгаузен, где его принял дядюшка Иоганн Блюментрост, занимавший пост главного городского врача. Три года Иоганн Готфрид под руководством дяди «хитрости врачебной обучался», а в 1696 году вернулся в Москву и стал алхимистом Нижней аптеки, а затем и аптекарем. В ноябре 1701 года, после царского указа о вольных аптеках, Иоганн Готфрид Грегори подал соответствующее прошение и вскоре получил разрешение открыть свою аптеку. В жалованной грамоте говорилось: «Наше Царское Величество иноземца аптекаря пожаловали, велели по Именному Нашему Великого Государя указу и по его челобитью построить ему в Ново-Немецкой слободе вновь аптеку своим иждивением, в котором месте пристойно и где б от того никому утеснения не было, и держать ему в той аптеке потребные всякие лекарства, а для скорбящих и в болезнях сущих, целительные спирты и водки и иные лекарственные напитки, и то все продавать ему в новой аптеке, всяких чинов людям ценою мерною без прибавки». Правда, вино запрещалось продавать чарками, кружками, ведрами и бочками. Все необходимое для производства лекарств надлежало покупать «у города Архангельского или в Азове, с платежом пошлин по Торговому Уставу». Предусмотрительный государь сразу же осадил возможных конкурентов Грегори, запретив «под опасением жестокого гнева» «иным русским людям и иноземцам, опричь его Ягана, в той Немецкой слободе никаких аптек заводить и строить, и в домах своих лекарств никаких никому торговать и продавать».
Легкость, с которой устроилось это дело, не должна удивлять — Петр Алексеевич знал Иоганна Готфрида смолоду и даже дружил с ним, как и с некоторыми другими жителями Немецкой слободы. К тому же Грегори принадлежал к клану Блюментростов, позиции которого при дворе были чрезвычайно сильны. Сестра Грегори была замужем за генералом Вейде, входившим в близкий круг царских советников и доверенных лиц. Ее супруг сам в молодости был учеником аптекаря, но потом записался в «потешные» царя Петра и сделал большую военную карьеру. Отношения между свояками, несмотря на разницу в чинах, были самые дружеские. Герр аптекарь едва не породнился с самим Александром Даниловичем Меншиковым, который основательно ухаживал за другой сестрой Иоганна Готфрида. Но судьба была против этого союза — девушка умерла невестой. Сам же Иоганн Готфрид был женат на Барбаре Юнг, дочери пастора Александра Юнга, проповедовавшего в одной из кирх Немецкой слободы. Все эти семейства, имевшие разветвленные связи на самых разных этажах российской государственной иерархии, как могли, поддерживали «своих».
В 1654 году был издан царский указ, дозволявший любому желающему человеку из числа подданных учиться лекарскому делу у иностранных докторов. Эта высочайшая милость открывала путь в медицинскую профессию не только «наследственным лекарям», но и всякому, кто пожелает, однако ажиотажа среди подданных царский указ не вызвал. В Немецкой слободе, где жили иностранцы, православные практически не бывали. К тому же, несмотря на царское разрешение, в учении у иноземцев был определенный риск: мало ли что могли сказать люди о человеке, который знается с «еретиками», да еще по делу, столь сильно напоминающему колдовство?
Только в 1668 году к доктору Иоганну Марку Гладбаху, состоявшему в ранге «царского лекаря», поступил в ученики русский человек Петр Григорьев. Доктор и его ученик подписали контракт, по которому Григорьев обязался служить Гладбаху «за хлеб и науку» в течение четырех лет. По истечении оговоренного срока доктор обязался выдать от себя нужные бумаги, удостоверяющие, что Григорьев у него обучался и вполне способен лечить самостоятельно.
Три года кряду Петр Григорьев с усердием и рвением изучал медицину, а на четвертом году, под присмотром Гладбаха, пробовал врачевать самостоятельно. Но в 1671 году у Гладбаха истек срок контракта, и не пожелавший более оставаться при дворе Алексея Михайловича доктор Иоганн был отпущен на родину. Таким образом, Петр Григорьев оказывался как бы недоучкой, но немец, человек добросовестный и педантичный, относившийся к своему ученику с большой теплотой, решил до отъезда помочь ему получить диплом врача.
Дело осложнялось тем, что в Русском царстве не было врачебных организаций — как писал Гладбах в свидетельской грамоте, «нет дела нашего лекарского законного сборища». Но, посовещавшись с коллегами, он все же нашел выход, и 1 сентября 1672 года (то есть в первый день нового года по тогдашнему русскому исчислению) в Немецкой слободе собрались иноземные лекари и аптекари, которые и засвидетельствовали отличные аттестации, выданные «Его Царского Величества доктором Яганом Маркусом Гладбахом своему ученику Петру Григорьеву».
Под этим документом удостоверяющую подпись «учинил собственноручно» Иоганн Розенбург, владелец Петрозаводского железоделательного завода, а также подписались доктор Михайло Гралсон, придворный врач Симон Зоммер, аптекарь Иоганн Гутбиер, старший аптекарь Иоганн Гутменен. Свидетельствовали правдивость подписавших четыре лютеранских пастора: Балтасар Фадемрехт, Иоганн Дитрих Фокерот, Иоганн Готфрид Грегори и Александр Юнге. Тем самым Петр Григорьев получил вместо выписки из приказной книги Аптекарского приказа настоящий врачебный диплом европейского образца — скорее всего, первый в России! Впоследствии Григорьев врачевал, имея обширную частную практику. Диплом, писанный на латыни, хранился у него, а официальный, заверенный перевод с него находился в Аптекарской приказе.
Постепенно количество русских врачей, выучеников немецких специалистов, увеличилось настолько, что во времена царя Федора Алексеевича их уже было вдвое больше, нежели немцев: в Аптекарском приказе числилось 58 русских «дипломированных» лекарей против 23 приезжих из Европы. Но положение русских и иностранных коллег было совсем не одинаково, ибо приезжим отдавалось явное предпочтение. Знанию и умению выпускников европейских университетов доверяли больше, нежели доморощенным врачам, а потому и платили гораздо щедрее, так что многие из европейских врачей, по свидетельству их современников, «сами казались боярами и князьями». К тому же русские лекари не имели права учить сами и выдавать дипломы ученикам. Видя в том несправедливость, русские эскулапы даже подали челобитную царю, но добились только увеличения жалованья, которое, впрочем, все равно осталось меньше того, что платилось иноземцам.
Несмотря на то что врачей становилось все больше, потребность в них росла еще быстрее. Врачам-иностранцам «идти в народ» мешал языковой барьер — одно дело лечить аристократов, которые если не знали иноземных языков сами, то могли пользоваться услугами толмачей; совсем другое — пользовать раненых солдат, которые, кроме как по-русски, ни на каком другом языке не говорили.
Постепенно сама собой вызрела идея создания собственной медицинской школы, где готовили бы русских врачей. Устроить такую школу решили при госпитале, который в 1706 году по указу Петра Великого начали строить в Москве, за рекой Яузой, напротив Немецкой слободы. Начальство над строительством, управление госпиталем и школой было поручено голландскому врачу Николаасу (на русский манер — Николаю) ван Бидлоо — потомственному медику, происходившему из амстердамского семейства Бидлоо, славившегося многими талантами.
Его отец Ламберт Бидлоо, аптекарь и ученый ботаник, выпустил каталог растений своей страны, а дядя Готфрид Бидлоо считался одним из лучших анатомов своего времени, он был ректором Лейденского университета. По семейной традиции Николаас поступил в амстердамскую медицинскую школу, затем защитил докторскую диссертацию в Лейдене и с 1697 года занимался врачебной практикой. За пять лет работы в Амстердаме он приобрел определенную репутацию, и русский посол Андрей Матвеев весной 1702 года предложил ему контракт на шесть лет с окладом 2500 гульденов на год, что превышало жалованье профессора любого голландского университета.
Летом 1703 года доктор вместе с супругой прибыл в Москву и, не имея на первых порах собственного дома, поселился в Немецкой слободе, на квартире у вдовы врача Генина. Последующие два года в качестве лейб-медика он состоял при особе царя, сопровождая Петра Алексеевича в его поездках. За это время они очень сблизились, что было совсем несложно — государь благоволил к голландским врачам почти так же, как к морякам.
В лице Бидлоо Петр Алексеевич нашел занятного собеседника — доктор Николаас, в традициях своей семьи, помимо медицины увлекался искусствами и разными художествами: картины его кисти даже в пресыщенной Голландии не затерялись — два портрета работы Бидлоо и нынче выставляются в галереях. Он составлял архитектурные проекты, знал толк в гидротехнике, разбивке садов и парков — его, как сказали бы англичане, хобби было то, что нынче называют «ландшафтным дизайном». Не лишен был доктор и таланта музыканта — играл на нескольких инструментах сам и дирижировал оркестром. В студенческие годы выступал на театральной сцене, а потом писал пьесы и ставил спектакли. Разносторонне одаренный, он совершенно очаровал царя Петра, и тот внял уверениям Бидлоо, что больший прок от его службы выйдет, если он станет руководить госпиталем и школой.
Согласно обещанию, данному царю, весь госпитальный комплекс доктор Бидлоо спроектировал сам. Дело шло быстро, и уже к осени 1707 года вдоль Яузы вытянулись здания госпитальных палат с церковью Воскресения Христова и бурса — общежитие студентов школы. В отдельном здании помещался анатомический театр со зрительскими местами, амфитеатром окружающими со всех сторон прозекторский стол; выстроили также аптеку с лабораторией при ней. На границе госпитального земельного участка с северной стороны вырос дом. Где поселилась семья Бидлоо.
Штат госпиталя состоял из доктора, подлекаря, приказчика госпитального двора, переписчика, попа, дьячка, четырнадцати мастеровых и подсобных рабочих. Главным врачом и ближайшим помощником Бидлоо стал выпускник Лейденского университета Матвей Кланке, аптекарем Карл Эйхлер, в должности подлекаря более тридцати лет прослужил Федор Богданов.
Своих первых пациентов госпиталь Бидлоо принял 21 ноября 1707 года, и тогда же был объявлен набор «охочих людей» для обучения медицине. Изначально предполагалось, что при госпитале будут проходить обучение 50 студентов, но такого числа подходящих людей не нашлось. Отбор у мастера Бидлоо был строг: сам он не знал русского языка, а потому в ученики ему годились только те, кто знал голландский или латынь, а таковых в Москве отыскать было непросто. Столкнувшись с такой проблемой, доктор Николаас заполнил вакансии, навербовав учеников из студентов Славяно-греко-латинской академии, откуда в школу при госпитале охотно пошли дети русских лекарей, желавшие продолжить семейную традицию, а также выходцы из среды сельского священства и солдатские сыновья, перед которыми открывались перспективы совсем необычной карьеры, дававшей твердое общественное положение и хорошие доходы. Такому массовому переходу студентов воспротивился Святейший Синод, которому подчинялась академия, но все решило мнение царя, дозволившего Бидлоо набирать учеников там, где он сочтет нужным.
Составленный доктором курс обучения студентов включал в себя анатомию и хирургию, которые преподавал сам шеф госпиталя, для вящей наглядности проводивший занятия как в операционной, так и анатомическом театре. Это пошло на пользу школе, но погубило репутацию Бидлоо как практика: по городу пополз слушок, что «дохтур Николай режет мертвецов, а куски рассовывает по банкам с зельем», после чего москвичи боялись у него лечиться. Впрочем, положение доктора Николааса было таково, что, даже потеряв суеверных пациентов, он отнюдь не бедствовал, ибо получал большое жалованье от казны.
Ботанике студентов — большей частью применительно к нуждам фармакологии и фармации — обучал Эйхлер. Он же заведовал разбитым при госпитале «аптекарским огородом», где выращивались травы и растения, шедшие на приготовление лекарств, — их свойства и разведение изучались как особый предмет. Но одними только огородными травами Эйхлер не ограничивался и в летнее время выводил учеников в подмосковные леса, где на практике учил искать полезные растения и заготовлять их. Иные лекарства той поры состояли из двух-трех десятков ингредиентов, и студентам ничего не оставалось, как тщательно записывать эти рецепты. Затем эти записи хранились в заветных сундучках годы и годы, переходя в семьях врачей из поколения в поколение, и некоторые из них дошли до наших дней.
Но не одной медициной жила госпитальная школа. Следуя старинной студенческой традиции, доктор Бидлоо создал при ней публичный театр, труппу которого составили его студенты. Спектакли в московском госпитале любили посещать москвичи, и даже сам царь Петр был их зрителем. Пьесы для госпитальной труппы писал один из лучших учеников Бидлоо — Федор Журавский, ставший потом лекарем.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Что такое хорошо
Что такое хорошо Считать чукчей «агрессорами и экспансионистами» оснований нет. Единой власти не имели, пищи имели вволю, территорий тоже в изобилии, так на фига захваты? Понятия политики отсутствовало. Modus же vivendi был прост: вот – мы, «настоящие», а вот – все остальные,
Жестокие дети («Чучело»)
Жестокие дети («Чучело») В самом начале 80-х кинорежиссер Ролан Быков задумал перенести на экран повесть детского писателя В. Железникова «Чучело», где речь шла о судьбе доброй и искренней 11-летней девочки, которую ее одноклассники называют Чучелом и всячески третируют.
Жестокие шутки природы
Жестокие шутки природы Неожиданная смерть Потемкина осенью 1791 года стала важной вехой не только в жизни Екатерины, но и в истории ее царствования: отныне вся тяжесть правления легла на нее одну. Так получилось, что уход Потемкина из жизни совпал с процессом, практически
«Его я знаю хорошо»
«Его я знаю хорошо» — Какой Сталин был в общении?— Простой, очень, очень хороший, компанейский человек[50]. Был хороший товарищ. Его я знаю хорошо.— Шампанское любил?— Да, он шампанское любил. Это его любимое вино. Он с шампанского начинал…— Какие вина вы со Сталиным
Все хорошо, что хорошо кончается
Все хорошо, что хорошо кончается Получив из штата Нью-Мексико телеграмму Лесли с текстом «Гарри не приехал на лечение», нью-йоркская резидентура сильно опасалась за исход всей операции. В то время, когда Лесли мучилась вопросами о том, почему Млад дважды не являлся на
Жестокие воздушные налеты
Жестокие воздушные налеты "Будет жив твой ратный, бранный Труд, пока не рухнет небо". Грюнгенда Арнора сына Торда, Скальда Ярлов С целью избежать угрозы окружения, немцы поспешно отходили на позиции вдоль шоссе Кутанс-Сен-Жилль. Отходя в указанный район среди бела дня,
Что для француза хорошо?
Что для француза хорошо? Несмотря на все старания Брокара, Россия никак не хотела превращаться во Францию. Она оставалась Россией. А ему хотелось жить в Париже, но делать деньги в России. Поэтому он создал маленькую Францию в стенах своего дома. Здесь все говорили только
"Все будет хорошо"?
"Все будет хорошо"? ПостскриптумИ последнее примечание. К первой странице обложки, которая, возможно, смутила православного читателя. Что означает этот жест, заимствованный «детьми вдовы» у древних мистерий? Сначала два сомкнутые пальца прижимаются к губам: «Мы будем
Жестокие уроки жизни и властей…
Жестокие уроки жизни и властей… После очередной неудавшейся революции во Франции 1848 года и очередных восстаний поляков российские власти тщательно просмотрели общество на наличие опасных либералов и “накрыли” кружок Петрашевского, арестовали и Ф. Достоевского.
«Жестокие критерии сионизма»
«Жестокие критерии сионизма» Неделя террора против евреев, развязанного в результате победы нацистов на выборах в марте 1933 г., привела многотысячные толпы на примыкавшие к Палестинскому бюро в Берлине улицы, и все же не породила у германского еврейства никакого
«Хорошо — это плохо!»
«Хорошо — это плохо!» Научным руководителем Джеймса Франка стал директор Физического института Берлинского университета профессор Эмиль Варбург[12].Как было принято среди представителей еврейской академической элиты того времени, Эмиль Варбург крестился. Некрещеные
Жестокие подавления митингов протеста
Жестокие подавления митингов протеста Одной из форм массового преследования политических оппонентов со стороны режима Саакашвили стали исключительно жестокие методы подавления мирных митингов протеста. Приведем только несколько