Глава VI. ГЕРМАНИК И ПИЗОН. ДВЕ ТРАГЕДИИ
Глава VI.
ГЕРМАНИК И ПИЗОН. ДВЕ ТРАГЕДИИ
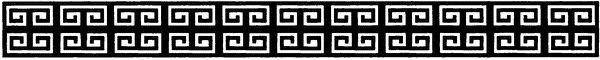
Мы расстались с Германиком после его триумфального возвращения в Рим. 26 мая 17 г. — день высшей славы Германика и счастливейший день всей его большой семьи. В триумфе рядом с отцом на колеснице находились пятеро детей: трое сыновей — Гай, Друз, Нерон и два дочери — Друзилла и Агриппина. Могло показаться, что у этой прекрасной семьи впереди только счастливые годы. Но, как часто в жизни бывает, с этого дня начались иные страницы их бытия, страницы трагические. Их ожидали одни только беды.
А пока впереди у Германика почетная и значимая государственная миссия. Тиберий принял решение направить Германика на Восток. Выступая в сенате, где принцепс и объявил о своем намерении, он сначала описал все немалые сложности, с которыми сталкивается римская власть в восточных владениях империи, и объявил, что лишь такой человек, как Германик, с его опытом и мудростью, в состоянии исправить там положение и защитить должным образом римские интересы. Кроме Германика, пояснил Тиберий, доверить столь сложную миссию некому, ибо сам он уже в преклонных годах, а родной его сын должной зрелости не достиг. Вторая половина пояснения Тиберия выглядит странновато, поскольку Друз, родившийся в 15 г. до Р.Х., годами Германику не уступал. Скорее всего, Тиберий имел в виду не буквальный возраст, но зрелость государственного ума и военного опыта. Пусть и небезупречный, но опыт у Германика был. Даже триумфом и званием императора награжденный, пусть и не без чрезмерной щедрости со стороны награждавшего. Друз же такого опыта не имел. Ему предстояло его обрести и заслужить подобные награды.
Сенат принял «senatus consultum» — постановление, согласно которому Германик получил новую должность, каковой в Риме еще не было: он назначался правителем всех заморских провинций Римской империи. В самой этой явно экстраординарной должности крылась опасная двойственность: с одной стороны Германик как бы стоял над теми наместниками восточных провинций, кто назначался либо сенатом по жребию, либо по воле принцепса, с другой — конкретных полномочий он не приобрел, а для наместников таковые никто не отменял. Это как раз и таило опасность возможных противоречий между новым супернаместником и действующими правителями провинций. Римляне строго относились к соблюдению буквы закона, а полномочия Германика были все же явно расплывчаты и плохо сочетались с конкретными правами и обязанностями действующих наместников. Тиберий, разумеется, понимал это лучше всех. Именно поэтому он, направляя Германика на Восток, позаботился и о сдерживающем начале. Это то, что много позднее будет названо «политикой сдерживания и противовесов».
Противовесом Германику должен был служить наместник Сирии — крупнейшей восточной провинции Рима, где стояли именно ему подчиненные легионы — главная военная сила римлян на Востоке. До назначения Германика наместником Сирии и весьма успешным был Силан. Но Силан был личным другом Германика, и на Востоке мог образоваться маложелательный для Тиберия тандем. Он, конечно, не забыл, что Германика однажды вверенные его командованию легионы пытались принудить захватить в Риме высшую власть. Германик, правда, проявил себя тогда наидостойнейшим образом, безупречно храня верность законному принцепсу Тиберию. Но мог ли Тиберий быть до конца уверен в вечной верности племянника? Его и так смущало открытое властолюбие супруги Германика Агриппины, женщины славной своим неукротимым нравом. А если к этому добавить и близкого друга во главе восточных легионов? Кто знает, к чему это может привести! Тиберий не мог не знать, что настроения в пользу Германика в Риме сохранились и жили они не только в военной среде. Не случайно ведь Дион Кассий дважды указывал, что Германик мог бы овладеть высшей властью в Риме с согласия не только легионеров, но и сената, и римского народа.{352} Потому и отставил Тиберий Силана с сирийского наместничества. Новым наместником был назначен Гней Кальпурний Пизон. Этот человек имел очень незаурядную репутацию. Во-первых, он был одним из виднейших римских аристократов — нобилей. Кальпурний — древний плебейский род, достаточно знаменитый в республиканской истории Рима. Его природный аристократизм не мог не импонировать потомку рода Клавдиев Тиберию. Он был знаменит и своей кристальной честностью. Человек, очень состоятельный, он славился своей независимостью, гордостью, несгибаемостью. При этом, правда, достойные эти качества многими воспринимались как неукротимость нрава, необузданного и неспособного к повиновению.{353} Особо должно подчеркнуть следующее: Пизон был убежденным республиканцем. Республиканцем потомственным. Отец его под командованием достойнейшего из защитников республики Марка Порция Катона Младшего сражался в Африке против войск Цезаря. В следующей гражданской войне он бился уже под знаменами последних республиканцев Брута и Кассия. После торжества единовластия он вынуждено смирился с новой формой правления, принял прощение Августа. При этом решительно не желал принимать каких-либо должностей, справедливо оценивая установившийся строй как ненавистную ему монархию. Лишь после долгих уговоров он снизошел до предложенной ему Августом должности консула. Для Августа, понятно, это было своего рода дополнительное торжество над былым политическим противником, вынужденным из его рук принять высшую в республиканские и чисто декоративную в имперские времена должность. Логика Пизона могла быть здесь такой: если Августу угодно сделать подобный подарок старому республиканцу, пусть делает его. Возможно, он вспомнил славный ответ спартанцев Александру Великому на требование признать его божественность: если Александру угодно быть богом, пусть он будет им.
Гней Кальпурний Пизон Младший отца чтил, взгляды его разделял. Известно, что он едва подчинялся Тиберию, открыто пренебрежителен был к сыну его Друзу. Германик, самый вероятный наследник единовластия, никак не мог быть ему приятен. Популярность Германика в народе, скорее всего, только усугубляла неприязнь Пизона к новоявленному супернаместнику.
Тиберия едва ли могли смущать республиканские пристрастия Пизона. Он прекрасно понимал их безобидность, поскольку опасны тайные убеждения, толкающие человека на путь заговоров. А нескрываемый республиканцизм Пизона — твердая гарантия, что никаких тайных замыслов у него не водится. То, что человек чтит отца своего, — норма жизни, а для римлянина должное почтение к предкам — непременный нравственный закон. В свое время сам Тиберий, посланный Августом с миссией на Восток, посетил по дороге поле битвы при Филиппах, где дед его Ливии Друз Клавдиан сражался в армии республиканцев против Октавиана и Антония и, подобно Бруту и Кассию, не перенеся поражения, покончил с собой. Тогда Тиберий отдал дань памяти деду на его могиле, совершенно не смущаясь его республиканской славой.{354} Отсюда и его лояльность к Пизону.
«Противовес» наместника супернаместнику был усилен и по женской линии. Супруга Пизона Планцина была в чести у матери Тиберия Ливии и крепко не жаловала Агриппину, супругу Германика. В этом обе дамы — и престарелая, и еще относительно молодая, были едины. Легко предположить, что, по замыслу Тиберия, Ливией разделяемому, Планцина должна была противодействовать властным амбициям и, не дай того боги, возможным опасным замыслам внучки Августа.
Германик отбыл на Восток поздней осенью 17 года. По дороге он посетил Далмацию, где встретился с Друзом. Родного сына Тиберий тоже не пожелал оставить в Риме и отправил в Иллирик. Миссия, несопоставимая, конечно, с миссией Германика на Востоке, но тоже немаловажная. Стоит отметить, что в самой столице в это время стали складываться две партии: одни делали ставку на Германика как на будущего принцепса, другие отдавали предпочтение Друзу. К счастью и того, и другого, на личных их взаимоотношениях это никак не отразилось. Отношения Германика и Друза были поистине братскими, соперничеством не омраченными. Тиберий, зная и ценя это, тем не менее предпочел их направить в разные провинции, не оставляя никого из них в Риме, дабы не дать пищи для вредных размышлений о предпочтительном положении того или иного наследника. Впрочем, статус наместника всего Востока был явно выше.
Братская встреча Германика и Друза стала последней в их жизни. Больше им не суждено было увидеться. Тиберию же досталась худшая для человека участь — пережить обоих сыновей. И родного, и приемного.
Что же ждало Германика на Востоке? Здесь, как нарочно, настала череда перемен в мелких царствах, бывших своего рода буфером между римской Малой Азией и парфянской Месопотамией.{355}Один за другим ушли из жизни царь Каппадокии Архелай, Антиох III, царь Коммагенский и киликийский царь Филопатор. Каппадокию и Коммагену Тиберий решил перевести в разряд обычных римских провинций. Римляне должны были возрадоваться расширению пределов империи. Провинции позволят вдвое снизить налог с торгового оборота: Киликия уже со времен Помпея Великого, уничтожившего тамошнее пиратство, была под римским контролем, потому судьба царства Филопатора была очевидна. Каппадокия стала обычной римской провинцией, Коммагеной вместо царя стал управлять римский легат пропретор, а киликийское царство Филопатора влилось в состав провинции Сирия. Население Коммагены несколько поволновалось в связи с упразднением царства, но волнения эти долгими не были и хлопот Риму не доставили. Всякого рода непорядки на границе с Парфией Риму не были нужны. Обострять отношения с Парфией было совсем не в римских интересах. Политику эту завещал Тиберию Август.{356} В ее формировании принимал участие сам Тиберий в своей миссии на Восток в 20 г. до Р.Х. После печального опыта Марка Красса и невразумительной по итогам войны Марка Антония римляне избегали прямых военных столкновений с опасным соседом. Отсюда стремление искать союзников среди недругов Парфии. Сведения об этом есть у Страбона. Он сообщает, что индийский царь обещал римлянам всестороннее содействие.{357} Дион Кассий писал о полноценном союзном договоре между Августом и индийским царем, где предполагалось и военное взаимодействие.{358}
«Есть основания полагать, что формальный римско-индийский союз являлся составной частью широкомасштабного дипломатического наступления, предпринятого Августом на исходе 20-х гг. до н.э., в результате которого парфяне возвратили трофейные римские знамена и пленных.»{359}
Честь добиться их возвращения принадлежала Тиберию. В событиях 17 г. на Востоке стоит отметить быструю и практичную реакцию римских подданных в провинции Сирия и населения подвластной Риму Иудеи. И те и другие обратились в Рим с просьбой снизить им налоги, поскольку после присоединения Каппадокии доходы императорской казны, о чем говорил сам Тиберий, изрядно возросли.
Очень взаимосвязаны были между собой события на Римском Востоке.
Особое значение для Рима имела Армения. За это достаточно обширное царство Рим и Парфия вели постоянное соперничество. От того, чье влияние в Армении преобладает, зависела общая расстановка сил на Востоке. После миссии Тиберия римское влияние в Армении выглядело переменчивым. Римлянам не раз удавалось посадить на армянский трон своего ставленника, но власть его никогда не была долгой. Такая судьба постигла и царя Тиграна, коронованного Тиберием, и царя Артавазда, данного армянам Августом. Еще один римский ставленник Ариобарзан сел на армянский трон, но вскоре погиб при несчастном случае. Некоторое время правила Арменией царица Эрато, но вскоре ее низложили. Армянский престол оставался вакантным. Римлян до поры до времени это не слишком беспокоило. Дело в том, что в Парфии в 7 г. у власти оказался царь Вонон, настроенный на самые дружеские отношения с западным соседом. Но вот в 10 г. в Парфии случилось восстание, сметшее власть Вонона, и на царском престоле оказался царь Арта-бан И. Вонон, однако, не расстроился и скоре вновь обрел царскую власть. Не на отеческом престоле, правда, но в Армении, которая должно быть уже совсем истосковалась без царя. Вонон замечательно подходил на царский трон: он ведь потомок царского рода Аршакидов и сам уже царем великой державы побывавший. Кроме того, как старый друг и союзник римлян он надеялся на поддержку империей своих новых царских амбиций. Римляне, однако, рассудили иначе. Наместник Сирии легат Квинт Кретик Силан здраво рассудил, что бывший парфянский царь, свергнутый у себя на родине во многом как раз за союз с Римом, явно скверный претендент на армянский трон. Все кажущиеся преимущества, кои сулит империи пребывание на армянском троне друга и союзника Рима, эфемерны. На деле Вонон как армянский царь будет крайним раздражителем для Парфии. Ведь Артабан II воспримет своего врага во главе Армении как личный вызов. В итоге Рим только проиграет. Ведь, если Артабан II пойдет войной на Армению, дабы избавить себя от опасности со стороны Вонона окончательно, Риму придется вступить в войну с Парфией, дабы дружественного армянского царя защитить. А мир с Парфией нужен Риму, и война между двумя великими державами в то время решительно исключалась. Квинт Кретик Силан потому поступил мудро, вызвав Вонона из Армении в Сирию, где и велел тому оставаться. Дабы Вонон не слишком расстраивался, ему обеспечивали роскошные, соответствующие царскому достоинству условия жизни. Правда, и охрана была поставлена большая и надежная под видом почетной стражи при царственной особе. Сама эта особа к превращению из лица царствующего просто в царственное отнеслась без восторга. Но кого это теперь волновало? Парфяне были довольны, а что армяне вновь без царя — так им не привыкать.
Артабан II, довольный уходом Вонона в Сирию, об Армении тоже не забыл и возмечтал посадить на армянский трон брата своего Орода. Это римлянам уже не могло понравиться. Германик как раз и послан был на Восток затем, чтобы поднадоевший уже армянский вопрос уладить с выгодой для империи, в ссору с Парфией при этом все же не вступая.
Германик, прибыв в Сирию, быстро вник в непростые восточные дела и, отдадим ему должное, с возложенными на него Тиберием обязанностями справился отлично. Немедленно прибыв в главный город Армении Артаксату, Германик при стечении огромной толпы народной и высшей армянской знати возложил царскую корону Армении на голову Зенона, сына понтийского царя Полемона. Понтийское царство, незначительный обломок некогда великой державы царя Митридата VI Евпатора, с которым Рим вел три войны на протяжении четверти столетия, ныне было во всем Риму послушно. И понтийский царевич Зенон, превратившийся в армянского царя Артаксия, Рим безусловно в этой роли устраивал. Устраивал Зенон и армян, «так как с раннего детства, усвоив обычаи и образ жизни армян, он своими охотами, пиршествами и всем, что в особой чести у варваров, пленил в равной мере и придворных, и простолюдинов».{360} Коронация его потому и вызвала всеобщий восторг и у знати, и у простого народа Армении. Короновав Зенона-Артаксия, племянник точно выполнил указания дяди, повторив его деяние тридцатисемилетней давности.
Без труда Германик решил проблемы Каппадокии и Коммагены, назначив в бывшее царство Архелая легата Квинта Верония, а на место Антиоха Коммагенского — пропретора Квинта Сервея. Хорошо прошли и переговоры с парфянскими послами. Артабан, не имея сил и возможности воспрепятствовать коронации Зенона в Артаксате, счел за благо сохранить с Римом дружеские отношения. Одна только просьба была у царя к римскому наместнику всего Востока: убрать подальше от парфянской границы из Сирии неугомонного Вонона. Тот, оказывается, из Сирии засылал своих людей в Парфию, подстрекая вождей парфянских племен к смуте. Германик с достоинством отозвался о римско-парфянском союзе, любезно поблагодарил царя за приглашение встретиться на берегу Евфрата. К просьбе о Вононе он отнесся с пониманием и, идя ей навстречу, повелел перевести Вонона подальше от границы с Парфией — в приморский город в Киликии Помпейополь. Ход разумный. И просьба царя выполнена, и Киликия от Сирии не так уж и далека на всякий случай.
Случай, впрочем, вскоре избавил от Вонона и парфян, и римлян. Не надеясь более на римскую поддержку, Вонон попытался бежать, надеясь добраться до кочевий сарматов и там обрести себе союзников — вроде как среди тамошних вождей был у него родственник. Но бегство оказалось неудачным. Бывшего царя настигли, и он был убит римским центурионом Ремием.
Если действиями Германика Тиберий мог быть только доволен, то наместник Сирии Гней Кальпурний Пизон со своей ролью явно справлялся скверно. Его отношение с Германиком приняли характер откровенно враждебный. После первой их встречи «они разошлись с открытой обоюдною ненавистью».{361} Ненависть двух высокопоставленных лиц друг к другу старательно разжигали и злокозненные друзья с обеих сторон. Вершиной конфликта можно назвать отказ Пизона направить часть вверенных ему войск в Армению, где должно было поддержать римское влияние при утверждении нового царя и устроить полезную военную демонстрацию для парфян. Это было уже вопиющее поведение, могущее повредить делам Рима на Востоке. Все обошлось, но такое положение было совершенно нетерпимым. Германик по непонятному великодушию не донес в Рим на Пизона. Ведь если бы Тиберий узнал об отказе наместника Сирии поддержать легионами интересы Рима в Армении, то его неизбежно ждало бы наказание. Тиберий не потерпел бы такого неповиновения, чреватого возможным ущербом интересам империи.
Возможно, решись Германик поставить принцепса в известность о происшедшем, не было бы дальнейшего его противостояния с Пизоном. Тиберий однозначно стал бы на его сторону и Пизон принужден был бы усмирить свои амбиции, пусть ненависть стала бы и больше.
В чем все-таки причина такой яростной вражды двух незаурядных людей, ставшая в итоге трагедией для обоих? Как бы то ни было, но Германик в ней неповинен. Со своей стороны он не инициировал конфликт, он не наносил Пизону обид, не ущемлял его достоинства, не принижал его статуса наместника провинции Сирия и командующего четырьмя расположенными в ней легионами и вспомогательными войсками. Вина за случившееся целиком лежит на Гнее Кальпурнии Пизоне. Что же его, человека состоятельного, даже богатого, счастливого в семье, истинного аристократа, знаменитого своей честностью, толкнуло на такое противостояние? Учитывая статус Германика, а после провозглашения его императором, и триумфа и такого назначения, неслыханного доселе, — это был статус второго человека в империи — надежды на успешный исход этой вражды были совершенно эфемерны. Пизон, конечно, был человек резкий, но уверенный в себе холерик.{362} Никак не отчаянный, безголовый авантюрист. Не мог он не понимать, кто такой Германик при Тиберий. Назначение на Восток никак не выглядело опалой. Да и все знали, что император не преминул облагодетельствовать приемного сына вдогонку: когда Германик, отплыв после встречи с Друзом к берегам Эллады, достиг города Никополя близ знаменитого Акциума, он получил из Рима приятную весть, что он второй раз подряд становится консулом, а его коллега снова сам Тиберий, третий раз подряд обретающий консульские регалии. Это ли не знак высочайшего расположения! Да и место какое! Город Никополь — город победы, основан Августом в ознаменование величайшего его военного торжества. В битве при Акциуме сокрушен был Марк Антоний с царицей египетской Клеопатрою, и наследник божественного Юлия обрел единоличную власть над всей Римской державой!
Такая символика, скорее всего, была случайной, хотя Тиберий мог знать, где именно находится Германик, поскольку из-за починки корабля, пострадавшего от сильной морской бури, пребывание правителя Востока у актийских берегов затянулось.
Так что же вдохновляло Пизона, и на что он надеялся?
Неприязнь между Пизоном и Германиком, инициатором которой однозначно выступил наместник Сирии, менее всего носила только личный характер. Для Пизона, представлявшего староримскую знать, гордую республиканским прошлым и не очень-то скрывающую тоску по ней в настоящем, Германик был символом успешности утверждающегося в Риме монархического начала. Он был очевидным преемником Тиберия, а любовь к нему народа и легионов, расположение части сената, заставляли рассматривать его как будущего монарха. И при этом монарха, народом и армией любимого. Уже это не могло не вызвать у Пизона крепкой нелюбви к племяннику и пасынку Тиберия. Был здесь и момент личный тоже. Пизон в качестве наместника в Сирии и командующего легионами получил не полноценную власть, но ограниченную присутствием на Востоке Германика. Ясно было, что тот в глазах Тиберия фигура более значимая, пусть и конкретные его полномочия четко не определены.
Последнее обстоятельство неизбежно порождало конфликт между двумя представителями римской власти на Востоке. И здесь Пизон мог опираться на то, что, хотя сенат по настоянию Тиберия и принял постановление, дававшие Германику в заморских провинциях власть большую, нежели наместническая, но нигде не было сказано, что его распоряжения выше распоряжений местных властей. Тем более не было очевидным, что распоряжения Германика могут отменять распоряжения Пизона. Ведь наместник Сирии, также сенатом римского народа опять-таки по предложению принцепса утвержденный, все свои полномочия в делах гражданских и военных сохранил. Легионы по-прежнему прямо подчинялись только ему. Противоречия эти естественным образом питали дерзость Пизона. Он ведь мог усмотреть в неопределенности статуса Германика и некое недоверие Тиберия к пасынку, а столь явное создание на востоке империи наместнического двоевластия как обиду не только для себя, правителя Сирии, но и для Германика, новоявленного правителя заморских провинций. Наконец Пизона могло и вдохновлять расположение к нему самой матери принцепса. Ведь дружба Планцины с Ливией и их обоюдная неприязнь к Агриппине тайной не были. Поскольку Тиберий прямо личных симпатий и антипатий к противостоящим на Востоке семьям не выражал — преимущества Германика вытекали из его более высокого статуса как сына правящего Цезаря и носящего это имя — то симпатии Ливии могли показаться Пизону и его супруге определяющими.
Отсюда и иные вопиющие его дерзости. Именно таковой только и можно счесть поведение Пизона на пиру, данном в честь прибытия в Антиохию союзного Риму царю набатеев. Это небольшое царство на северо-западе Аравии, граничило с римскими владениями на Востоке. Царь, осведомленный о статусе Германика как главной римской персоне в восточных провинциях империи, и о его державном положении второго лица в Риме, наследника Тиберия, воздал ему и супруге его Агриппине соответствующие почести. Германик с Агриппиной получили в дар от царя набатеев массивные золотые венки. Иным же римлянам были дарованы куда менее ценные легкие венки, пусть из того же золота. Понимая смысл такого дарения, римляне, присутствовавшие на пиру, восприняли все естественно и спокойно. Возмущение выразил только один человек: Гней Кальпурний Пизон. Он самым невежливым образом оттолкнул предложенный ему золотой венок и громогласно объявил, что пир сей не в честь царя парфян, но в честь римского принцепса дается. Тем самым он дал выход своим республиканским пристрастиям, а Германика уличил в принятии дара, достойного восточного царя, но не римлянина, пусть и наследника правителя империи. Далее последовала вдохновенная филиппика, обличающая недостойное истинных римлян пристрастие к роскоши, метящая опять-таки в Германика. Поцарски одаренная чета промолчала, что не могло не уверить Пизона в успехе его выпада. При всей видимой импровизации его поступка и обличительной речи, дерзость сия выглядела вполне обдуманной и попадающей в точку. Роскошь и алчность с давних времен почитались в Риме наихудшим злом.{363} А уж уподобление царям Востока — наихудшее из обвинений. Божественный Август-то официально не монархию установил в Риме, но восстановил после ужасов гражданской войны республику, и единовластие его вытекало из набора республиканских должностей, но никак не из обретения статуса монарха. И сам Тиберий, законный преемник Августа, сенатом утвержденный лишь принцепс, но не царь. К тому же, с первых дней правления стремящийся исправить нравы общества, пристрастия к роскошеству ограничивая.{364} Германик же спокойно принял почести, достойные именно монаршей персоны. Принятие же столь дорогих венков можно было и алчности приписать, пусть и руководила Германиком здесь вполне разумная дипломатическая вежливость, ибо непринятие даров стало бы обидою для верного союзника Рима.
То, что Германик смолчал, не желая скандала на пиру, дабы не подрывать в глазах набатейских гостей престиж римской власти, могло только распалить Пизона. При всем при том пир был испорчен, престиж Германика пострадал, безнаказанность выпада Пизона запомнили все. Тем более, обоснован он был почтением к староримским отеческим обычаям и соответствовал текущей политике правящего принцепса. Тиберий в сложившейся ситуации скорее должен был бы упрекнуть Германика, нежели урезонивать Пизона. В этом эпизоде Пизон переиграл Германика.
Вскоре, в конце 18 г., утомленный, возможно, противостоянием с Пизоном, Германик покинул Сирию и отправился в Египет. Поездка была вызвана сообщением о возникших в Египте продовольственных проблемах, приведших к росту цен на хлеб. Проблема эта никак не была делом внутриегипетским, поскольку снабжение хлебом столицы империи зависело во многом и от египетских поставок. Здесь Германик проявил себя наилучшим образом. Внимательно изучив всю картину продовольственного состояния долины Нила, он распорядился открыть для внутренних потребностей провинции государственные хлебные хранилища. Это позволило снизить цены на хлеб к радости всего многочисленного населения Египта.
Решение свое, позволившее улучшить хлебную торговлю в Египте, Германик принимал в Александрии, столице страны во времена династии Птолемеев и ныне главном городе уже римской провинции. Но, решив главную проблему своей египетской поездки, Германик вовсе не спешил покинуть древнюю страну фараонов. В Александрии он вел себя так, чтобы произвести наилучшее впечатление на ее обывателей. Ходил он скромно, без охраны, выражая полнейшее доверие к александрийцам. Учитывая, что его в поездке сопровождали Агриппина и шестилетний Гай Цезарь Калигула, такое доверие выглядело особо трогательным. Подражая Публию Корнелию Сципиону Африканскому на Сицилии и самому Тиберию на Родосе, Германик к удовольствию греков, бывших основным населением Александрии, облачился в легкий греческий плащ и сменил римские сапожки на открытые сандалии эллинов. Деловой визит в Египет перерос в ознакомительную познавательную поездку по древней стране. Германик с женой и сыном внимательно изучали египетские древности, посетили самые знаменитые исторические места. По всему было заметно, что не спешит он вернуться в Сирию, где ждало его пренеприятное общение с Пизоном.
Приятное путешествие Германика по Египту, однако, вскоре было прервано посланием Тиберия, для наместника всех заморских провинций огорчительным. Принцепс выразил крайнее неудовольствие визитом племянника в Египет. Дело было в том, что со времени Августа Египет был сугубо императорской провинцией, куда только сам принцепс назначал администрацию. Посещать знатным римлянам эту провинцию можно было только с прямого разрешения правящего императора. «Ибо Август, наряду с прочими тайными распоряжениями во время своего правления, запретил сенаторам и виднейшим из всадников приезжать в Египет без его разрешения, преградил в него доступ, дабы кто-нибудь, захватив эту провинцию и ключи к ней на суше и на море и удерживая ее любыми ничтожно малыми силами против скромного войска, не обрек Италию голоду».{365}
Знал ли Германик об этом распоряжении Августа, сохранявшем свою силу и при Тиберий? Тацит ставил запрет сенаторам и виднейшим всадникам посещать Египет в один ряд с прочими тайными распоряжениями основателя принципата. Если Тиберий ранее не познакомил приемного сына с его содержанием, то Германик мог и не знать о недопустимости для него своевольного приезда в Александрию. С другой стороны, поскольку Тиберий обрушился на Германика за его поездку в императорскую провинцию суровейшим образом,{366} то он, значит, был убежден в осведомленности Германика. Кроме того сам статус Германика предполагал знакомство с такого рода положениями, когда он стал по сути вторым лицом в империи. Так что у Тиберия был повод для негодования, тем более, что Германику не составляло бы большого труда сделать предварительный запрос в Рим с пояснением необходимости своей поездки в Египет. В этом случае разрешение Тиберия не заставило бы себя ждать. Наконец, если бы дело представлялось настолько уж безотлагательным, то можно было бы сообщить в Рим о своем прибытии в Александрию с указанием его причины и испросить императорского соизволения пусть и задним числом. Германик же принцепса просто проигнорировал. Что должен был по этому случаю думать Тиберий? Исходить из забывчивости или же из крайнего простодушия приемного сына? И то, и другое крайне сомнительно. А восторг александрийцев в связи с приездом в их город внука Антония совсем уж не должен был доставить удовольствия Тиберию. Германик, правда, упрекнул александрийцев за выкрикивание ему и Агриппине приветствий с титулатурой, полагавшихся только самому Тиберию и Ливии{367}, но ведь приветствия-то от этого не стали менее неприятными для правящего императора! Тем не менее Тиберий не делает из случившегося публичного скандала, не затевает дела против чрезмерно популярного и регулярно напрашивающегося на проявления народных восторгов племянника — приемного сына, но открыто и прямо выговаривает ему на совершенно законном основании, указывая на действительное нарушение установленных правил. Занятно, что при этом Тиберий заодно слегка попенял Германику за его увлечение эллинским образом жизни. Да, на Родосе и сам он сменил тогу на хламиду, но по оставлении трибунских полномочий, став лицом неофициальным, ссыльным, по сути. Германик же лицо самое что ни на есть официальное и потому непорядки в одежде ему воспрещены, ибо он в Александрии, если уж так получилось, римскую власть и особу принцепса представляет.
К чести Германика, он воспринял справедливый гнев Тиберия смиренно. Император был удовлетворен, конфликт был исчерпан. Германику предстояло теперь возвращение в Сирию и исполнение прежних высоких полномочий, коих никто его не лишал.
Еще по дороге в Сирию на обратном пути из Египта Германик узнает удивительную и крайне оскорбительную для себя новость: Пизон все его распоряжения, касавшиеся войска и городов, либо отменил, либо заменил на противоположные. Легат Сирии повел себя так, как будто Германик, отправившись в Египет, Сирию покинул навсегда. Возможно, на это он и расчитывал, но Германик вернулся и вернулся еще в большей силе, поскольку его отношения с Тиберием после случившегося недоразумения только укрепились. Германик, поняв дело, обрушивает на зарвавшегося, по его мнению, легата тяжкие упреки. Пизон отвечает ожесточенными выпадами. В итоге система сдержек и противовесов дала сбой: она просто распалась. Оказалось, что на римском Востоке два наместника, принципиально не желающих сотрудничать. Двоевластие не могло быть терпимым, а значит, кто-то должен был уйти.
На уход решился Пизон. Случай сам по себе уже беспрецедентный. Никто его поста римского легата в Сирии не лишал, командования легионами он не сдавал и потому никак не мог в Риме надеяться на понимание ни императора, ни сената. И вновь возникает сакраментальный вопрос: на что же надеялся, на что же рассчитывал Пизон, так вопиюще нарушая порядок? Легат не имел права сам оставлять провинцию и должен был нести за свой проступок суровое наказание. Гней Кальпурний Пизон — человек далеко не юный, в делах государственных сведущий, не мог быть настолько легкомысленен! Невольно приходиться предполагать, что он надеялся обрести в Риме чье-то высокое заступничество. А чье заступничество могло хоть как-то повлиять на Тиберия? Только заступничество Ливии, ничье больше.
Объявленный отъезд Пизона, однако, неожиданно задержался. Стало известно о внезапной болезни Германика. Вскоре, правда, сообщили о происшедшем счастливом повороте болезни. Германик пошел на поправку. Антиохийцы, успевшие полюбить Германика — воистину у него был великий дар народную любовь завоевывать, — решили отметить выздоровление молодого Цезаря праздничным жертвоприношением в благодарность богам, коих о здравии Германика они так молили. Пизон, узнав о готовящейся гекатомбе — праздничном жертвоприношении множества животных, — пришел в крайнее негодование. Поскольку, находясь в Антиохии, он продолжал быть наместником, то властью своей он приказал ликторам своим незамедлительно разогнать и ликующую толпу, собравшуюся на гекатомбу, и самих животных, на заклание на ней обреченных. Животные, спасенные от убоя, могли бы ответствовать легату Сирии благодарственным мычанием, если бы осознали суть происшедшего, а вот антиохийцы оказались огорчены случившимся разгоном и только еще больше прониклись любовью к несчастному Германику. Болезнь его, кстати, возобновилась и на сей раз казалась много опасней.
«Свирепую силу недуга усугубляла уверенность Германика в том, что он отравлен Пизоном: и действительно, в доме Германика не раз находили на полу и на стенах извлеченные из могил остатки человеческих трупов, начертанные на свинцовых табличках заговоры и заклятия и тут же — имя Германика, полуобгоревший прах, сочившийся гноем, и другие орудия ведовства, посредством которых, как считают, души людские препоручаются богам преисподней. И тех, кто приходил от Пизона, обвиняли в том, что они являются лишь затем, чтобы выведать, стало ли Германику хуже».{368}
Можно понять причины уверенности Германика в отравлении, ибо внезапная, непонятная по происхождению болезнь, быстро принимающая роковой характер подобные мысли неизбежно порождала. Ведь он находился в цвете лет, ранее на здоровье никогда не сетовал… И вдруг болезнь, причем болезнь смертельная. Но какие доказательства отравления можно воспринимать всерьез, кроме убежденности самого смертельно больного человека? Приводимые Тацитом доказательства чьего-то колдовства просто анекдотичны и как раз свидетельствуют об обратном. Тому, кто прибегает к надежному яду, незачем подбрасывать в дом жертвы орудия ведовства. И наоборот. Полагать, что люди Пизона соединили в деле истребления ненавистного Германика и колдовство, и яд, совсем уж нелепо. Пизон, к его чести, своего отношения к Германику не скрывал. Он прямо говорил, «что ему придется иметь врагом или отца, или сына, словно иного выхода не было»{369}. Причины столь жесткого выбора легат Сирии не пояснял, но вражду к сыну, Германику, он никогда не скрывал. Неясно, правда, на что он при этом надеялся со стороны отца, Тиберия.
Пока неведомая болезнь добивала Германика, Пизон находился в Селевкии, ожидая исхода. Германик же, ощущая близость кончины, убежденный в виновности ненавистного ему легата и его супруги, оставил предсмертное письмо, в котором прямо обвинил Пизона и Планцину в своей гибели. Об этом он просил своих друзей, которым было передано это прощальное письмо, известить Тиберия и Друза, «отца и брата». Смысл обращения предельно понятен: вот мои убийцы, уготовьте им достойную кару. Передав друзьям письмо, он обратился к Агриппине с мольбой, «чтобы она, чтя его память и ради общих их детей, смирила свою заносчивость, склонилась перед злобной судьбой и, вернувшись в Рим, не раздражала более сильных, соревнуясь с ними в могуществе».{370}
Последняя мольба Германика должна была убедить его супругу не возбуждать к себе неприязни Тиберия и Ливии Августы, коих ее неукротимое честолюбие не раз уже крайне раздразнило. Агриппине следовало учесть предсмертную просьбу мужа.
«Немного спустя он угасает, и вся провинция и живущие по соседству народы погружаются в великую скорбь. Оплакивали его и чужеземные племена и цари: так ласков был он с союзниками, так мягок с врагами; и внешность, и речь его одинаково внушали к нему глубокое уважение и, хотя он неизменно держался величаво и сдержанно, как подобало его высокому сану, он был чужд недоброжелательства и надменности.
Похоронам Германика — без изображений предков, без всякой пышности — придала торжественность его слава и память о его добродетелях. Иные, вспоминая о его красоте, возрасте и обстоятельствах смерти и, наконец, также о том, что он умер поблизости от тех мест, где окончилась жизнь Александра Великого, сравнивали их судьбы. Ибо и тот, и другой, отличаясь благородной внешностью и знатностью рода, прожили немногим больше тридцати лет, погибли среди чужих племен от коварства своих приближенных; но Германик был мягок с друзьями, умерен в наслаждениях, женат единственный раз и имел от этого брака законных детей; а воинственностью он не уступал Александру, хотя и не обладал безрассудной отвагою, и ему помешали поработить Германию, которую он разгромил в стольких победоносных сражениях. Будь он самодержавным вершителем государственных дел, располагай царскими правами и титулом, он настолько быстрее, чем Александр, добился бы воинской славы, насколько превосходил его милосердием, воздержанностью и другими добрыми качествами. Перед сожжением обнаженное тело Германика было выставлено на форуме антиохийцев, где его и предали огню; проступили ли на нем признаки отравления ядом, осталось невыясненным, — ибо всякий, смотря по тому, скорбел ли он о Германике, питал против Пизона предвзятое подозрение, или, напротив, был привержен Пизону, толковал об этом по-разному».{371}
Это панегиристическое описание действительных и мнимых добродетелей Германика Тацитом вызвало в XX в. крайне резкий комментарий британского историка, с каковым трудно не согласиться: «Рассказ Тацита о смерти Германика, включающий последние слова умирающего и патетический призыв к справедливости, не может убедить никого, старше двенадцати лет. Тацит не присутствовал при этом событии. Все, что он рассказывает, он приписывает авторам, которые нам не известны и на сведения которых нельзя полагаться, мы можем судить обо всем лишь по косвенным свидетельствам. Судя по всему, его главы 70-72 списаны с какого-то политического памфлета весьма сомнительной природы, направленного против Тиберия. Подобный трактат, написанный в наши дни, привел бы автора на скамью подсудимых. В нем не содержится ни единого определенного утверждения или прямого факта, он сочинен целиком на пафосе и косвенных намеках, очевидно, для читателей, которым не нужны доказательства… Замечания в начале 73-й главы, сравнивающие Германика с Александром Великим (Македонским), — неприкрытое бесстыдство. Во второй половине текста Тацит возвращается к нормальному стилю, говоря о том, что «труп не имел признаков отравления».{372}
Действительно, сопоставление Германика с Александром Македонским выглядит откровенно нелепо. Один к тридцати трем годам покорил необъятные простоты Азии от Мраморного моря до глубин Индии, другой же к этому возрасту без особого успеха воевал в Германии. Если чему и помешал Тиберий, отозвав Германика с берегов Рейна в Рим, так это очередным неудачам и сомнительным успехам римской армии в затеяной Германиком войне. О покорении же Германии и возврате границы к Эльбе речи и быть не могло. Императорский титул Германика и триумф его менее всего были заслужены военными достижениями. Единственное, что в главе 73 «Анналов» Тацита можно считать объективной информацией и фактом, заслуживающим доверия исследователя, так это сообщение об отсутствии явных признаков отравления на теле Германика. О признаках отравления сообщает Светоний, описывая смерть Германика: «Он на тридцать четвертом году скончался в Антиохии — как подозревают от яда. В самом деле, кроме синих пятен по всему телу и пены, выступившей изо рта, сердце его при погребальном сожжении было найдено среди костей невредимым: а считается, что сердце, тронутое ядом, по природе своей не может сгореть».{373}
Пена изо рта — признак эпилепсии, а тот, кто находит среди костей сожжённого трупа нетронутое огнём сердце, не заслуживает ни малейшего доверия к своему свидетельству.
Никаких доказательств отравления Германика нет. Другое дело, что нет и внятного объяснения истинных причин его смерти, поскольку неясна природа его последней болезни. Что до вины Пизона — она совершенно недоказуема, и здесь опять-таки можно согласиться с Джорджем Бейкером: «Гней Кальпурний Пизон меньше всего походил на человека, которого можно обвинить в отравлении. Он, скорее, мог открыто пронзить врага мечом».{374}
В день смерти Германика Пизон уже находился за пределами Сирии. Его отплытие было ускорено полученным им предписанием от его смертельно больного врага. Приёмный сын Тиберия предписывал легату Сирии немедленно покинуть вверенную ему провинцию и отказывал ему в своем доверии. Содержание, надо сказать, престранное. В доверии Германик мог отказывать Пизону сколько угодно, но он не имел никаких полномочий удалять его из Сирии. Это было законное право сената римского народа, который и утверждал наместников провинций, и лишал их соответствующих полномочий. По представлению принцепса, разумеется.
Как бы то ни было, но поскольку Пизон, получив письмо Германика, решился отплыть из Сирии, таковое требование в нём, очевидно, было. Легат не мог не понимать его неправомерность, но в сложившейся ситуации счёл за благо удалиться. Корабль его, правда, двигался неспешно, поскольку наместник, зная о смертельном характере болезни Германика (это, собственно, уже было общеизвестно), хотел дождаться развязки.
Известие о смерти Германика Пизон получил на знаменитом своим мрамором острове Кос, куда он прибыл из Селевкии. Траурная весть настолько обрадовала его, что он не счёл необходимым даже формальную внешнюю скорбь. Устраивая жертвоприношения и посещая храмы, он не скрывал своих истинных чувств. Планцина же вообще облачилась в нарядную одежду, сменив траурное платье, которое она носила в знак скорби по своей недавно скончавшейся сестре.
Но оставался главный вопрос: как быть теперь с наместничеством в Сирии? Когда Пизон отплыл из Селевкии, то в Антиохии оставался Германик, пусть и смертельно больной. Теперь же важнейшая провинция вообще была без высшего представителя римской власти, что представлялось совершенно нетерпимым. Потому собравшиеся в Антиохии легаты, командующие легионами, и пребывавшие в Сирии сенаторы в связи со смертью Германика и отплытием Пизона просто вынуждены были избрать временного до официального решения императора и сената наместника этой важнейшей провинции. Надо сказать, что с учётом случившегося немногие стремились к этому назначению. Двое претендентов, однако, нашлось. Это были Вибий Марс и Гней Сенций. Они спорили между собой довольно долго, пока Марс не уступил большей настойчивости Сенция., сославшись на уважение к его более почтенному возрасту. Сенций немедленно поддержал старания друзей Германика, собиравших доказательства его отравления. А те вели себя так, словно Пизон и Планцина уже были доказательно изобличены в ужасном преступлении отравления сына правящего императора и готовились предъявить таковое обвинение. Сенций, которого поощряли и понукали верные памяти Германика Вителлий, Вераний и другие, даже отправил в Рим некую Мартину, подругу Планцины, чрезвычайно ею любимую, имевшую известность как смесительница ядов.
Действия Сенция вполне понятны. Если Пизон изобличён как отравитель Германика вкупе со своей супругой, то его права наместника Сирии не выглядят самозванством. В ином случае, если Пизон просто на время покинул Сирию и никакого отношения к смерти Германика не имел, то появление нового легата провинции Сенция — явный мятеж против законного наместника. А Гней Сенций Сатурнин, не без труда добившийся власти наместника, так просто с ней расставаться не хотел, а уж быть обвинённым в мятеже и подавно.
Что же в эти дни делал сам Пизон, пока Марк Вибий Марс и Гней Сенций Сатурнин оспаривали его законное место?
Когда на Косе стало известно о смерти Германика и появлении в Антиохии нового наместника, Пизон созвал совещание, должное определить дальнейший ход его действий в сложившейся малоприятной обстановке. Выяснилось, что не все в Антиохии на стороне Германика и его окружения. Даже враждебный к Пизону Тацит сообщает, что на Кос к легату стекались центурионы из Сирии, убеждавшие его в полной готовности легионов поддержать законного наместника.{375} Все они справедливо напоминали Пизону, что никто не лишал его наместничества, а законность Сенция откровенно сомнительна.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 9. Финал трагедии
Глава 9. Финал трагедии Последние дни осады Бреслау ознаменовались многократно усилившимися бомбардировками города. Советские самолеты совершали воздушные налеты уже посередь белого дня. Это была авиация, которая высвободилась после падения Берлина. По сведениям
Глава 10 Имперский «принц»: Германик по ту сторону Рейна Клавдий Германик Цезарь (15 г. до н. э. — 19 г. н. э.)
Глава 10 Имперский «принц»: Германик по ту сторону Рейна Клавдий Германик Цезарь (15 г. до н. э. — 19 г. н. э.) Какие уроки он преподал своему Германику и, дав ему военную выучку во время совместной службы, принял покорителем Германии! Какими почестями он воодушевил юношу во
ГЕРМАНИК
ГЕРМАНИК (15 до н.э — 19 н.э.) Прославленный римский полководец в войнах с германскими племенами. Германик был старшим сыном патриция Друза Старшего и Антонии Августы Младшей. Друз Старший, или Нерон Клавдий Друз, был первым из римских полководцев, который совершил плавание
Глава VIII. Семейные трагедии
Глава VIII. Семейные трагедии Практически на всех скульптурных портретах Августа мы замечаем ноту задумчивой скорби. Не только тяготы войн, борьба за власть и постоянные государственные дела и заботы наложили этот отпечаток. Он хорошо разбирался в людях, с юности познал
Глава 22 ОТ БАХВАЛЬСТВА К ТРАГЕДИИ
Глава 22 ОТ БАХВАЛЬСТВА К ТРАГЕДИИ 1 сентября 1939 г. германские войска вступили на польскую территорию. Британский премьер Невилл Чемберлен два дня колебался и лишь утром 3 сентября объявил в Палате общин, что Англия находится с 11 часов утра 3 сентября в состоянии войны с
Глава 6 УДАЧА С АВГУСТОМ. ТРАГЕДИИ ДОМА
Глава 6 УДАЧА С АВГУСТОМ. ТРАГЕДИИ ДОМА Антоний с Клеопатрой утратили восточный мир, отныне вся Римская империя принадлежала Октавиану.Арабы скоро продемонстрировали, что они правильно разбираются в событиях. Напав на часть кораблей Клеопатры, которые волоком
Глава 4 Полководец Германик, племянник Тиберия, — это казачий атаман-конкистадор Ермак-Кортес, завоевавший Америку
Глава 4 Полководец Германик, племянник Тиберия, — это казачий атаман-конкистадор Ермак-Кортес, завоевавший Америку 1. Тиберий-Грозный и его племянник (или брат) Германик-Ермак Историю императора Тиберия и его наложение на Ивана Грозного мы подробно обсудили в предыдущей
Глава 8 Германик
Глава 8 Германик Германик пересек Рейн в начале осени, тогда же началась попытка повторного завоевания Германии. Время года было неподходящим для длительной кампании, но он, видимо, хотел провозгласить вторжение состоявшимся и заявить свои права на мантию Друза. У него
Германик
Германик Германик был старшим сыном Друза Старшего и Антонии Младшей. В 4 г. по приказу Октавиана Августа он был усыновлен своим дядей Тиберием и стал именоваться Германик Цезарь, или Германик Юлий Цезарь. «Всеми телесными и душевными достоинствами Германик был наделен,
VII. Калигула привозит прах Германика. Пизон, враг его отца, совершает самоубийство
VII. Калигула привозит прах Германика. Пизон, враг его отца, совершает самоубийство В декабре 19 года у берегов Люции или Памфилии корабль, в котором путешествовал маленький Гай, его мать и сестра, встретился с кораблем Пизона, возвращавшегося в Сирию. Оба корабля были на
Глава I Начало трагедии
Глава I Начало трагедии План «Вайс»1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. 3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии. Это было начало второй мировой войны.Вторая мировая война вопреки замыслам правящих кругов Англии, Франции и США началась со
Глава третья. Накануне югославской трагедии
Глава третья. Накануне югославской трагедии Центробежные силы нарастаютЕще при жизни Тито выдвигались различные предположения и догадки, что произойдет с югославской федерацией, этой сложной, многонациональной страной после Тито. Ведь он олицетворял собой единство
§ 6. Луций Фурий Фил и Квинт Калъпурний Пизон
§ 6. Луций Фурий Фил и Квинт Калъпурний Пизон По-видимому, поблизости от Нуманции, где война к этому времени прекратилась, Фурий принял командование над войском от потерпевшего поражение и лишенного власти Лепида. Он предлагал Квинту Цецилию Метеллу Македонскому и Квинту
Глава V. ГЕРМАНИК И АРМИНИЙ.
Глава V. ГЕРМАНИК И АРМИНИЙ. Римляне не были в состоянии тотчас же отомстить германцам за поражение в Тевтобургском лесу. Хотя Тиберий, - единственный полководец, которому Рим мог доверить такое дело, - поспешил к Рейну, однако, и он не смог ринуться в многолетнюю войну. Он