4. Лексема «варяги» в контексте ПВЛ
4. Лексема «варяги» в контексте ПВЛ
В числе загадок, с которыми сталкивается исследователь текста ПВЛ, на первом месте стоит лексема «варяги», ставшая, по меткому замечанию одного историка, «кошмаром начальной русской истории». Действительно, трудно назвать сочинение, посвященное древней Руси, в котором не упоминались бы «варяги» и не предпринимались попытки так или иначе их истолковать, чтобы найти им место в историческом процессе сложения древнерусского государства и среди известных нам народов Европы. История этих попыток со стороны «норманистов» и «антинорманистов» достаточно подробно освещена в многочисленных историографических обзорах, охватывающих почти трехвековой период развития отечественной науки, из которых следует отметить работы В. А. Мошина[114], И. П. Шасколького[115], В. Б. Вилинбахова[116] и А. А. Хлевова[117]. К ним следует добавить специальные исследования последнего полувека — Х. Ловмянского[118], Г. С. Лебедева[119] и выгодно отличающиеся своей обстоятельностью работы А. Г. Кузьмина, посвященные выяснению варяжского этноса и занимаемого им места на географической карте Европы[120], и уже упомянутого В. Б. Вилинбахова[121].
Первое упоминание «варягов» в недатированной части ПВЛ находится в составе обширной вставки географического характера, расширяющей сведения о странах, почерпнутые из греческого источника, за счет выведения на сцену народов, населяющих Восточную и Северную Европу, «часть Афетову», где «ляхове же и пруси и чюдь приседать к морю Варяскому; по сему же морю седять варязи: семо — к востоку, до предела Симова; по тому же морю седять къ западу до земли Агляньски и до Волошьскые. Афетово же колено и то варязи: свеи, урмане, готе, русь, агляне, галичане, волхове, римляне, немце, корлязи, венедици, фрягове и прочии» [Ип.,4].
Оставим пока в стороне вопрос о времени появления этой вставки в тексте, взятом (прямо или опосредованно) из хроники Георгия Амартола[122], которая вводит нас в географию «варяжских племен», как очень метко охарактеризовал эти перечни М. Н. Тихомиров[123]. Что ляхи, пруссы и чудь (в первую очередь — ливы, которые были «морским народом») являются обитателями юго-восточного побережья Балтийского моря, не вызывает никакого сомнения. «Камнем преткновения» оказывается следующая фраза, согласно которой на восток Балтийское море продолжается «до предела Симова», будучи заселено «варягами» точно так же, как и к западу — до земли англов и франков, что вызывало неизменное удивление исследователей, предполагавших «отсутствие логики»[124], «порчу текста» и даже объяснение, что «варяги расселяются от Новгорода до Мурома по Верхней Волге, а Волга, как считал летописец, идет в „предел Симов“»[125].
Между тем, интерпретаторы данного фрагмента оставили без внимания наличие двух указаний древнего географа на место обитания «варягов» — «по сему же морю» и «по тому же морю», — которые не могут относиться к одному и тому же объекту (морю). Разгадку можно найти в тексте Амартола несколько выше данного фрагмента, где упоминается река Тигр, текущая «на полунощную сторону» «до Понтьского моря», к востоку от которого лежит «часть Симова» [Ип., 3]. Другими словами, до того, как текст был перебит и дополнен обширной вставкой, перечисляющей «вси языци», представленные, по-видимому, в качестве данников «руси», одно из мест обитания «варягов» указывалось на берегах Черного моря — «там к востоку, до предела Симова». А вот по берегам «сего, Варяжского моря», оные «варяги» находятся, наоборот, к западу (от ляхов, пруссов и чуди) «до земли аглянь-ской и волошской». Безусловное указание в тексте ПВЛ на два моря, обычно упускаемое из виду исследователями вопроса, в данном случае оказывается весьма существенным, поскольку единственными германоязычными племенами на юге России были только потомки готов, никогда не выступавшие в роли «варягов», что заставляет предполагать иное, не этническое содержание данного термина, использованного летописцем.
Развитием данной экспозиции оказывается «путь из варяг в грекы», расширенный географическим экскурсом об «Оковском лесе», откуда истекают главнейшие реки, в том числе и Двина, текущая «в море Варяское» [Ип., 6], причем в этом случае под «варягами» подразумевается, скорее всего, не какой-либо конкретный этнос, а ряд народов, обитающих как на берегах Балтики («моря Варяжского»), так и по берегам Северного моря. При этом в обоих фрагментах можно заметить новгородское происхождение источника, как по перечню народов, среди которых преобладают финно-угорские племена при отсутствии вятичей, радимичей, северян и степных народов, так и по незнанию реальной ситуации «устья днепровского», указанного с «тремя гирлами».
Собственно история «варягов» на Руси открывается в ст. 6367/859 г., откуда читатель узнает, что приходящие из-за моря «варяги» брали дань с чюди, словен, мери, веси и кривичей, и 6370/862 г., где рассказывается сначала об изгнании, а затем о «призвании варягов». Последнее выражение, широко распространенное в научной литературе, на самом деле неточно, поскольку речь идет здесь о призвании князей, а не «варягов». В рассказе, где первый и последний раз на страницах ПВЛ появляется Рюрик, особую важность приобретает комментарий летописца, разъясняющий читателю понятие «русь» через «варягов» («идоша за море к варягомъ — к руси: сице бо звахуть ты варягы „русь“, яко се друзии зовутся „свее“, друзии же „урмани“, „англяне“, инии „готе“; тако и си» [Ип., 14]), формируя представление о «варягах» не как об отдельном этносе, а как о неком суперэтносе, которому принадлежат в равной мере все перечисленные народы — в полном соответствии с предшествующей экспозицией расселения племен.
Вместе с тем, в варианте ст. 6370/862, представленном Лаврентьевским списком ПВЛ, сохранилась фраза «и от техъ варягь прозвася Руская земля; новугородьци — ти суть людье ноугородьци от рода варяжьска, преже бо быша словени» [Л., 20], свидетельствующая о вторичности и безусловно позднем происхождении текста, потому что, во-первых, Новгород и его земли никогда не являлись «Русью», и, во-вторых, «Руская земля» прозвалась не от «варяг», а от «руси», пришедшей вместе с Рюриком к «словенам». Другими словами, эта фраза свидетельствует о времени, когда память о своем, исконно «словенском» происхождении в сознании новгородцев стало замещаться происхождением «варяжским», что оказалось в безусловном противоречии с только что приведенным комментарием летописца, представившего «варягов» в качестве суперэтноса, а не народа.
Последнее тем более странно, что дальнейшие упоминания о «варягах» в ст. 6390/882, 6406/898, 6415/907, 6452/944, 6453/945, 6488/980, 6523/1015, 6526/1018, 6532/1024, 6542/1034 гг. представляют их только в качестве наемников, приходящих из-за моря и не имеющих никакой этнической окраски, однако безусловно чуждых как «руси» в целом, так и тем князьям (Владимир, Ярослав), которые по миновении надобности спешат от них освободиться [Ип., 66]. Это относится к походу из Новгорода на Киев Олега, который «поемъ вои свои многы: варягы, чюдь, словены, мерю, весь, кривичи» [Ип., 16], хотя в Киеве у него оказываются только «словени и варяги». Сходную ситуацию можно видеть в ст. 6415/907 г. при описании похода на Царьград, когда из огромной армии Олега («поя же множьство варяг, словен, и чюди, и кривичи, и мерю, и поляны, и северу, и деревляны, и радимичи, и хорваты, и дулебы, и тиверцы, яже суть толковины», в целом прозывавшиеся «великой Скуфью» [Ип., 21]), в конце рассказа налицо оказывается только «русь» и «словене», которые в войске Олега (т. е. в войске «руси») и выступают «толковинами» (т. е. союзниками).
Аналогичную ситуацию исследователь встречает в ст. 6452/944 г. при описании войска Игоря, который «совокупи воя многы: варягы, и русь, и поляны, и словены, и кривичи, и печенеги», хотя в конце с ним оказывается только «дружина» («русь»), идущая на Царьград морем, и печенеги, отпущенные после заключения мира «воевать болгарскую землю».
Статьей 6488/980 г. в ПВЛ открывается повествование о борьбе Владимира, а затем и Ярослава, за Киев, в которой «варяги», впервые после ст. 6367/859 г., выступают как некая реальность, приводимая «из-за моря» и не требующая пояснений, причем наем «варягов» или посылка за ними неизменно оказываются связываемы с Новгородом. Так Владимир, испугавшийся Ярополка, бежит из Новгорода «за море», чтобы вернуться с «варягами», затем собирает ту же рать, что и Олег («събра вои многы, варягы, и словены, и чюдь, и кривичи»), с которой идет на Полоцк, после чего предпринимает поход на Киев. После захвата города «два варяга» закалывают пришедшего к Владимиру Ярополка («подъяста его два варяга мечема подъ пазусе»). Этим же «варягам», не желая с ними расплачиваться, Владимир «показывает путь» в Царьград, после чего в жизнеописании Владимира «варяги» больше не фигурируют.
Устойчивый маршрут прихода «варягов», лишенных каких-либо этнических или индивидуальных признаков, из-за моря в Новгород, а затем и в Киев, заставляющий вспомнить исход Олега и поход Владимира на Ярополка, трижды воспроизводится в повествовании о Ярославе, причем в схожих выражениях.
Будучи в Новгороде и испугавшись отца, Ярослав посылает «за море по варяги». Собранные в Новгороде «варяги» бесчинствуют, их избивают новгородцы «во дворе поромони» [Л., 140], т. е. в их казармах, после чего Ярослав набирает новых и, разбив Святополка в Любечской битве, вступает в Киев… с новгородцами. «Варяги» оказываются забыты. Второй раз Ярослав вынужден собирать деньги («скот») на наем «варягов», будучи разбит Святополком и Болеславом в битве на Буге, откуда Ярослав убежал сам-пятый. Повесть сохранила суммы, которыми облагались новгородцы на наем «варягов»: от мужа по 4 куны, от старосты — 10 гривен, от боярина — 80 гривен [Ип., 131][126], после чего «приведоша варягы и даша имъ [собранный] скотъ», что якобы предопределило победу Ярослава над Святополком, хотя и здесь вместо них оказываются новгородцы, которым Ярослав раздает «старостамъ по 10 гривенъ, а смердомъ по гривне, а новгородцомъ по 10 гривенъ всемъ» [НПЛ, 175]. В третий раз Ярослав оказывается в Новгороде и посылает «за море по варяги», когда в Чернигов из Тмуторокана приходит его брат Мстислав. На этот раз Ярослав выступает против него с Акуном/Якуном, «князем варяжьскимь»; будучи разбит в битве при Листвене, он снова бежит в Новгород и возвращается в Киев только после примирения с братом.
Последнее упоминание «варягов» в ПВЛ содержится в ст. 6542/1034 г., состоящей из нескольких разнородных фрагментов. Первый из них сообщает о смерти Мстислава. Второй — об утверждении Ярославом сына Владимира в Новгороде и о рождении у него сына Вячеслава. Третий фрагмент сообщает, что в Новгороде Ярослав узнал об осаде печенегами Киева, собрал «варягы и словены» и выступил с ними против печенегов на месте, «идеже есть ныне святая Софья, митрополья руская». Такое уточнение относит запись ко времени много позже указанной в заголовке даты, а упоминание печенегов позволяет думать, что данный фрагмент относится к эпопее войн со Святополком и сюда вставлен только потому, что следом за ним идет сообщение о закладке «святыя Софья» [Ип., 131].
Между тем, отсутствие «варягов» в сюжетах, связанных с Ольгой и Святославом, позволяет считать их упоминание в ст. 6390/882, 6415/907, 6452/944 и 6453/945 гг. таким же домыслом летописца, как и перечни участвовавших в ряде этих походах племен, тогда как странный пассаж, согласно которому «от варягь бо прозвашася русыо» ст. 6406/898 г. целиком обязан фразе ст. 6370/862 г. о происхождении новгородцев.
Таким образом, упоминание «варягов» в ПВЛ оказывается весьма компактным и, практически, не выходит за рамки ст. 6532/1024 г. Отсюда можно видеть, во-первых, чужеродность «варягов» легенде о «призвании», поскольку в ней они выступают не действующими лицами (Рюрик пришел с «русью», а не с «варягами»), будучи лишь объяснительным компонентом рассказа, а, во-вторых, органичность «варягов» только для сюжетов, связанных с Ярославом, где этот термин конкретизируется (избиение «варягов» «на дворе поромони», Якун с «золотой лудой»). Во всех остальных случаях этот термин оказывается эквивалентен слову «наемники», которых призывают, прогоняют, используют для секретных поручений, с которыми выступают на поле сражения, а затем стараются от них поскорее избавиться. Исключением можно посчитать только легенду о мучениках-варягах под 6491/983 г., герои которой оказываются пришедшими из Византии («бе же варягъ тъ пришелъ отъ грекъ»), в противоположность остальным «варягам», уходящим «за море» (напр., Якун) или в Византию.
Насколько такой взгляд может соответствовать действительности? Ответ на этот вопрос был получен еще более ста лет назад в результате работ В. Г. Васильевского.
Заинтересовавшись замечанием С. А. Гедеонова, что первое упоминание о «варягах» отмечено в исландских сагах в форме vaeringjar среди событий начала 1020-х гг., в форме «варанк» — в 1029 г. у ал-Бируни, а в истории Византии только под 1034 г. у Кедрина, писавшего в XII в. о
 [127], Васильевский предпринял обширные исследования греческих источников на предмет выяснения этнической принадлежности «варягов» и их роли в жизни Византии. Он исходил из мысли о тождестве понятий
[127], Васильевский предпринял обширные исследования греческих источников на предмет выяснения этнической принадлежности «варягов» и их роли в жизни Византии. Он исходил из мысли о тождестве понятий
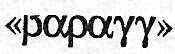 и
и
 а также о том, что начало «варяжской дружине», являвшейся личной гвардией императора, было положено в 988 г. вспомогательным отрядом росов/русов, посланных крестившимся Владимиром Святославичем на помощь Василию II против арабов. Однако результаты исследования оказались много шире и любопытнее.
а также о том, что начало «варяжской дружине», являвшейся личной гвардией императора, было положено в 988 г. вспомогательным отрядом росов/русов, посланных крестившимся Владимиром Святославичем на помощь Василию II против арабов. Однако результаты исследования оказались много шире и любопытнее.
Васильевский установил с несомненностью, что термин
 связан со службой в императорской гвардии не просто человека, но именно скандинава, причем первые скандинавы в числе царских телохранителей появляются в Константинополе только во второй половине 20-х гг. XI в. Ими были Болле Боллесон, находившийся в Константинополе в 1027–1030 гг.[128], Торстейн Дромунд и Торбион Онгул, ставшие «варангами» в 1032–1033 гг.[129], а в 1030–1040-х гг. — Харальд Суровый, когда гвардия целиком состояла из одних скандинавов[130]. В сагах все они называются «вэрингами» («vaeringjar»), т. е. ‘телохранителями’. Наряду с «вэрингами/варангами» во время военных действий в греческой армии на протяжении всей первой половины и середины XI в. Васильевский отмечает отряды («тагмы») росов, действующие постоянно на восточных и южных границах Империи, которые греческими авторами XII в. лишь иногда именуются
связан со службой в императорской гвардии не просто человека, но именно скандинава, причем первые скандинавы в числе царских телохранителей появляются в Константинополе только во второй половине 20-х гг. XI в. Ими были Болле Боллесон, находившийся в Константинополе в 1027–1030 гг.[128], Торстейн Дромунд и Торбион Онгул, ставшие «варангами» в 1032–1033 гг.[129], а в 1030–1040-х гг. — Харальд Суровый, когда гвардия целиком состояла из одних скандинавов[130]. В сагах все они называются «вэрингами» («vaeringjar»), т. е. ‘телохранителями’. Наряду с «вэрингами/варангами» во время военных действий в греческой армии на протяжении всей первой половины и середины XI в. Васильевский отмечает отряды («тагмы») росов, действующие постоянно на восточных и южных границах Империи, которые греческими авторами XII в. лишь иногда именуются
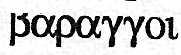 из чего историк заключил, что у византийцев XI в. «варанг» был, в первую очередь, синонимом наемника-скандинава («ротника», т. е. ‘человека, давшего клятву верности’), а уже потом — «телохранителя»[131].
из чего историк заключил, что у византийцев XI в. «варанг» был, в первую очередь, синонимом наемника-скандинава («ротника», т. е. ‘человека, давшего клятву верности’), а уже потом — «телохранителя»[131].
Однако самой интересной находкой историка стал ряд императорских хрисовулов 60–80-х гг. XI в., согласно которым монастыри, дома и поместья освобождались от постоя различных воинских отрядов, а именно: «варангов, рос, саракинов, франков» (1060 г.); «рос, варангов, кульпингов, франков, булгар или саракинов» (1075 г.); «росов, варангов, кульпингов, франков, булгар, саракинов» (1079 г.); «рос, варангов, кульпингов, инглингов, франков, немицев, булгар, саракин, алан, обезов, „бессмертных“ и всех остальных, греков и чужеплеменников» (1088 г.)[132]. Таким образом, вопреки ожиданиям Васильевского, в Византии XI в. термин «варанг», как выяснилось, не распространялся на «росов», поскольку его не знает совершенно Константин Порфирогенит в своем труде De administrando imperio, а Кекавмен, автор середины XI в., рассказывая об осаде города Идрунт (совр. Отранто) в Италии, сообщает, что его обороняли «росы и варяги, кондараты (т. е. сухопутные войска. — А. Н.) и моряки»[133]. Более того, как выяснил Васильевский, увлеченный идеей Гедеонова, что термин «варанг/варяг» попал к грекам из Руси, «варанги», по словам И. Скилицы, являлись простонародным названием «верных» у византийцев («варанги… называемые так на простонародном языке»[134]), т. е. ни о каком «русском» происхождении термина не могло быть и речи.
Другими словами, термин «варанг», который первоначально был связан со скандинавами, со временем потерял в Византии свою этническую окраску.
Подтверждением этого явилась постепенная смена этнического состава «варангов» в Константинополе, среди которых после 1050 г. появляются сначала «франги» (т. е. ‘франки’), затем «кельты», за которыми вскоре после завоевания Англии Вильгельмом в 1066 г. приходят «англы», остающиеся вплоть до XV в. неизменной опорой византийского трона. О них впервые сообщает Готфрид Малатерра по поводу битвы 1082 г. («англяне, которых называют варангами»[135]), затем Никифор Вриенний, указавший на происхождение «щитоносцев» «из варварской страны близ Океана»[136], Анна Комнина, упоминающая «варангов с острова Фулы»[137], наконец, Кодин, описывающий придворную трапезу, во время которой «варанги восклицают императору многая лета на своем отечественном языке, т. е. по-английски»[138].
Таким образом, В. Г. Васильевский собрал материал, показывающий, что 1) термин «варанг» стал распространяться из Византии, обозначая сначала члена императорской гвардии, а затем более широко — и ‘наемника’; 2) наиболее раннюю его фиксацию историки имеют в хрисовуле 1060 г., поскольку все остальные упоминания — под 103 г. у Кедрина, о событиях конца 20-х гг. XI в. в «Саге о людях из Лаксдаля» (известные списки не ранее 1300 г.) и у ал-Бируни, — происходят из текстов XII и XIII вв.; 3) начиная с конца 20-х гг. XI и. императорская гвардия
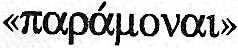 ) никогда не состояла из «росов» или «тавроскифов», представленных отдельными отрядами в византийском войске уже с начала X в.[139], что подтверждается договорами Олега и Игоря с греками о «росах» на греческой службе. Последнее обстоятельство (отсутствие «росов» среди «верных») находит исчерпывающее объяснение у Михаила Пселла при описании разгрома флотилии росов под стенами Константинополя в июне 1043 г. Пселл высказывает, по-видимому, не личную только точку зрения, говоря о росах, что «это варварское племя всё время кипит злобой и ненавистью к Ромейской державе и, непрерывно придумывая то одно, то другое, ищет предлога для войны с нами»[140]. Другими словами, относясь с боязнью и подозрительностью к росам, которых использовали в качестве ударной силы при военных операциях преимущественно на окраинах Империи, греки старались держать их подальше от столицы, под стены которой столь охотно отправлялись в набег их воинственные сородичи, и, конечно же, от покоев императорского дворца.
) никогда не состояла из «росов» или «тавроскифов», представленных отдельными отрядами в византийском войске уже с начала X в.[139], что подтверждается договорами Олега и Игоря с греками о «росах» на греческой службе. Последнее обстоятельство (отсутствие «росов» среди «верных») находит исчерпывающее объяснение у Михаила Пселла при описании разгрома флотилии росов под стенами Константинополя в июне 1043 г. Пселл высказывает, по-видимому, не личную только точку зрения, говоря о росах, что «это варварское племя всё время кипит злобой и ненавистью к Ромейской державе и, непрерывно придумывая то одно, то другое, ищет предлога для войны с нами»[140]. Другими словами, относясь с боязнью и подозрительностью к росам, которых использовали в качестве ударной силы при военных операциях преимущественно на окраинах Империи, греки старались держать их подальше от столицы, под стены которой столь охотно отправлялись в набег их воинственные сородичи, и, конечно же, от покоев императорского дворца.
Указывая на социальное положение человека в структуре византийского общества (наемник, гвардеец, телохранитель). термин «варанг» (
 ), при всей схожести с этнонимом «франг» (
), при всей схожести с этнонимом «франг» (
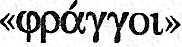 ), скорее всего, произошел от норренского «vaering», но никак не от русского «варяг», как думал С. А. Гедеонов[141]. Вместе с тем, сама ситуация, согласно которой «первый скандинав» оказывается в «сообществе варягов», ставит неизбежный вопрос о том, как назывались первоначально эти телохранители, потому что, с одной стороны, тексты исландских саг ранее XIII в. не известны (т. е. они записаны в то время, когда термин «варяг/варяги» уже имел достаточно долгую традицию использования), а с другой, как показал С. А. Гедеонов, безусловные следы «варяжества» в языке и топографии указывают на территорию славянского (балтийского) Поморья. Об этом свидетельствуют как новгородские летописи и документы XII–XIII вв., где лексема «варяг» сначала становится синонимом псевдоэтнонима «немец», при этом ни разу не выступая в таком употреблении по отношению к «урманам» и «свеям», а затем и замещается им уже во второй половине XIV в., так и прямое указание приписки 6823/1305 г.[142] в Ермолаевском списке Ипатьевской летописи о жене польского короля Пржемыслава II, убитого в 1296 г., которая «бо бе рода князей сербскихъ зъ Кашубъ, отъ Помория Варязскаго, от Стараго града за Кгданскомъ» [Ип., Приложения, 81], вновь возбуждая вопрос о варягах-вендах в Константинополе, которые могли быть на этой стезе предшественниками скандинавов, но — под другим именем.
), скорее всего, произошел от норренского «vaering», но никак не от русского «варяг», как думал С. А. Гедеонов[141]. Вместе с тем, сама ситуация, согласно которой «первый скандинав» оказывается в «сообществе варягов», ставит неизбежный вопрос о том, как назывались первоначально эти телохранители, потому что, с одной стороны, тексты исландских саг ранее XIII в. не известны (т. е. они записаны в то время, когда термин «варяг/варяги» уже имел достаточно долгую традицию использования), а с другой, как показал С. А. Гедеонов, безусловные следы «варяжества» в языке и топографии указывают на территорию славянского (балтийского) Поморья. Об этом свидетельствуют как новгородские летописи и документы XII–XIII вв., где лексема «варяг» сначала становится синонимом псевдоэтнонима «немец», при этом ни разу не выступая в таком употреблении по отношению к «урманам» и «свеям», а затем и замещается им уже во второй половине XIV в., так и прямое указание приписки 6823/1305 г.[142] в Ермолаевском списке Ипатьевской летописи о жене польского короля Пржемыслава II, убитого в 1296 г., которая «бо бе рода князей сербскихъ зъ Кашубъ, отъ Помория Варязскаго, от Стараго града за Кгданскомъ» [Ип., Приложения, 81], вновь возбуждая вопрос о варягах-вендах в Константинополе, которые могли быть на этой стезе предшественниками скандинавов, но — под другим именем.
Можно только пожалеть, что сам В. Г. Васильевский не соглашался с выводами, к которым подводил собранный им же материал. Отказываясь обсуждать вероятность возникновения греческих «варангов» из «франков», историк с некоторым раздражением, но пророчески писал: «Тогда нужно будет принять, что имя варангов образовалось в Греции совершенно независимо от русского „варяги“ и перешло не из Руси в Византию, а наоборот, и что наша первоначальная летопись современную ей терминологию XI и XII веков перенесла неправильным образом в предыдущие столетия. Легко высказать такое предположение, но, чтобы доказать его строго научным образом, нужны именно строгие научные доказательства и точные исследования»[143].
Того же мнения придерживался и Гедеонов, когда, собрав доказательства появления термина «варяг/варанг» только в первой трети XI в., отказывался видеть очевидное, аргументируя свой отказ тем, что «слово варяг… известно на Руси уже в IX столетии, т. е. за 150 слишком годов до первого помина о варягах у скандинавов, арабов и греков»[144]. И в другом месте: «Нестор знает варягов до основания государства, стало быть, еще в первой половине IX столетия»[145].
Иными словами, подобно большинству историков своего времени, Гедеонов и Васильевский были уверены в синхронности текстов ПВЛ и содержащейся в них терминологии излагаемым событиям, как если бы те были записаны во второй половине IX в., что передалось по наследству исследователям и нашего времени. Примером такой типичной ошибки историка, при этом стоящего на позициях безусловного антинорманизма, может служить высказывание А. Г. Кузъмина, справедливо заметившего, что в сагах «верингами» именуются только те викинги, которые служили в Византии, однако тут же поспешившего оговориться: «Очевидно, перед нами слабое отражение тех явлений, истоки которых находятся на Руси, где варяги составляли заметную прослойку еще в X веке»[146]. Поскольку же единственным основанием для таких заявлений могут быть только письменные источники, посмотрим, о чем там идет речь.
Как я уже показал, все сведения о «варягах» в ПВЛ практически не выходят за пределы сюжетов, связанных с борьбой Ярослава за Киев, т. е. ограничены ст. 6532/1024 и 6542/1034 гг., которые содержат рассказы о событиях более раннего времени, чем первая фиксация лексемы «варанг» в Византии. После этого в Ипатьевской летописи «варяги» отмечены еще дважды: под 6732/1224 г. в рассказе об «Алецском побоище», где упомянут «Варяжский остров» на Днепре, а до этого — под 6656/1148 г., где помещен рассказ о свидании и обмене подарками между великим князем киевским Изяславом Мстиславичем и его братом, в то время смоленским князем Ростиславом Мстиславичем, когда «Изяславъ да дары Ростиславоу что от Роускыи земле и от всих царьских земль, а Ростиславъ да дары Изяславоу что от верьхнихъ земль и от варягь» [Ип., 369]. Последний факт оказывается особенно интересен как потому, что свидетельствует о существовании «варягов» в середине XII в. на Балтике («Поморие варязское за Кгданьскомъ» согласно приписке 6823/1315 г. [Ип., Прилож., 81]) и на северо-западных русских землях, так и потому, что все «варяжские» сюжеты ПВЛ, как можно было убедиться, указывают на свое новгородское происхождение. И здесь исследователь встречается с поразительным явлением.
Древнейшие новгородские летописи в своих оригинальных известиях о событиях X–XI вв. не знают «варягов», а все остальные о них упоминания за этот период безусловно восходят к тексту ПВЛ, который в древнейших списках НПЛ представлен в сокращенном и дефектном виде. Документированное «варяжское присутствие» в Новгороде на Волхове впервые отмечено только под 6660/1151 г. в виде «варяжской божницы (вар. — церкви) на Торгу» [НПЛ, 29,37,57идр.], где в пожары 6660/1151,6689/1181, 6725/1217 и 6819/1311 гг. сгорел «товаръ весь варяжьский безъ числа». В 6696/1188 г. у новгородцев возникает конфликт с «варягами» на Готланде («рубоша новгородьце варязи на Гътехъ, немьце въ Хоружьку и въ Новотържьце; а на весну не пустиша из Новагорода своих ни одиного мужа за море, ни съла въдаша варя-гомъ, нъ пустиша я без мира» [НПЛ, 39][147]), причем для заключения мира в 6709/1201 г. «варяги» пришли в Новгород не морем, а «горою», т. е. по суше [НПЛ, 45 и 240].
Наконец, в связи с большим пожаром 6807/1299 г. в качестве пострадавшего района Новгорода отмечена «Варяжская улица» [НПЛ, 90 и 329], а в ст. 6750/1242 г. Комиссионного списка НПЛ Балтийское море названо «морем Варяжьским» [НПЛ, 297], т. е. так же, как во вступительных статьях ПВЛ. Любопытно, что такое название Балтийского моря, неизвестное европейской картографии, которая неизменно именует его «Восточным», но встречающееся в русской письменности и в арабской географической литературе, напр, у Бируни[148], использовал в своих записках австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, судя по всему, почерпнувший его из русских летописей[149], однако не из рассказа о Ледовом побоище XV в. по Комиссионному списку НПЛ, а из «вводных» статей ПВЛ, где указывается, что «ляхове же и пруси и чюдь[150] приседять к морю Варяскому… по тому же морю седять къ западу до земли агляньски и до волосшьскые» [Ип., 4].
Итак, если отбросить производные от лексемы «варяги» топонимы и гидронимы, имеющие в данном случае значение terminus ante quern для рассматриваемого вопроса, существование реальных «варягов» в новгородском регионе по летописям ограничивается временем от второй четверти XII в. до первой четверти XIV в. Подтверждением такой датировки служит договорная грамота Новгорода с Готским берегом и немецкими городами 1189–1199 гг., дошедшая в списке сер. XIII в., где фигурирует «варяг» («ожеемати скотъ варягу на русине или русину на варязе»[151]), где «варяг» оказывается синонимом «немец», и Правда Руская, в которой, начиная с ее краткого извода и древнейших списков, восходящих к XV в., фигурируют «варяг» и «колбяг»[152]. Последний пример замечателен тем, что во многих случаях за текстом Правды Руской следует текст так называемой «Правды Ярославичей» («Правда оуставлена руськои земли, егда ся съвокупилъ Изяславъ, Всеволодъ, Святославъ…»), возникшей в 1072 г.[153], в которой отсутствует какое-либо упоминание о «варягах». Наконец, в известном «Вопрошании Кюрикове», датируемом 1130–1156 гг., упоминается «варяжьский поп» как представитель «латиньской веры»[154].
Эти наблюдения, позволяющие утверждать, что термин «варяг», впервые зафиксированный византийским хрисовулом в 1060 г., укоренился на Руси не ранее первой четверти XII в., хорошо согласуются с известной тенденцией русской историографии к его фактическому омоложению.
А. А. Шахматов, специально занимавшийся вопросом возникновения и развития «варяжской легенды»[155], считал, что «Сказание о призвании варягов» существовало в новгородской летописи середины XI в. (которую Б. А. Рыбаков полагал «Остромировой»[156], но о которой мы в реальности ничего не знаем), было внесено в киевский Начальный свод 1095 г. и развито в полном объеме в 1-й редакции ПВЛ 1114 г. настолько, что он называл Нестора «первым норманистом», хотя тут же пояснял, что до него тех же взглядов придерживался составитель Начального свода[157]. Б. А. Рыбаков, соглашаясь в общих чертах с построениями Шахматова, считал, что «норманская теория» была придумана не Нестором, а князем Мстиславом Владимировичем в 1118 г., почему первой столицей Рюрика указан не Новгород, а Ладога[158]. Своего рода итогом этой дискуссии, растянувшейся более чем на полвека, стала специальная работа А. Г. Кузьмина, пришедшего к заключению, во-первых, о лучшей сохранности текста ПВЛ в списках Ипатьевском/Хлебниковском по сравнению с Лаврентьевским, и, во-вторых, о том, что «Сказание о призвании являлось местным ладожским преданием», записанным «впервые, вероятно, около 1118 г., и до этого времени его, видимо, не знали письменные памятники не только Киева, но и Новгорода», поскольку «в Новгородской I летописи во всех известиях XII— начала XIII в. „Русью“ называется только Киевское Приднепровье»[159].
В этих, в общем-то справедливых, выводах по отношению к «варягам» был допущен только один, однако весьма существенный просчет: их неизменно связывали не только с Рюриком, но и с пришедшей с Рюриком «русью», создавая путаницу, в которой лишь в малой степени был повинен летописец. Никто почему-то не вспомнил, что Нестор работал в начале XII в., описывая события, происходившие за 250 лет до этого, в понятиях и терминах своего времени, тем самым порождая неизбежные анахронизмы.
Между тем, легенда о Рюрике даже в ее современном виде свидетельствует, что этот князь пришел к «словенам» с «русью», которая только в XII в. была отождествлена с «варягами» соответствующей глоссой, доставившей столько мучений позднейшим исследователям. Достоверность подобного вывода подтверждается и тем обстоятельством, что легенда о Рюрике без «варягов» стала известна в киевской Руси не ранее 1050 г., поскольку «Слово о законе и благодати» Илариона в своей первой редакции не знает ни Рюрика, ни легенды об апостоле Андрее («не виде ап(о)с(то)ла, пришедша в землю твою»)[160], но и не позднее 1067 г., когда в Тмуторокане был отравлен сын новгородского князя Владимира Ярославича, Ростислав Владимирович, отец первого среди «Рюриковичей» князя с этим именем — Рюрика Ростиславича, впоследствии князя перемышльского.
Таким образом, в ПВЛ лексема «варяг» употребляется в точном соответствии с тем смыслом, который в нее был вложен в Византии, где она означала ‘наемника, принятого в императорскую гвардию’, а затем ‘наемника’ вообще, тогда как в северном регионе Руси эта лексема определяет выходцев с территории славянского Поморья. Войдя в лексикон новгородцев не ранее второй половины XI в., если не позднее, уже к середине XIV в. она оказывается окончательно вытеснена из обиходной речи и документов псевдоэтнонимом «немец/немцы», охватывающим всех жителей Поморья и представителей ганзейского союза городов, но сохранив о себе память в гидрониме «море Варязское», в западных источниках неизменно именуемого «Восточным» (Ostersalt).
Не собираясь опровергать бесспорные показания летописей и документов, свидетельствующих о тождестве лексемы «варяг» понятию «немец» для конца XII — первой половины XIII в. в Новгороде, как это зафиксировано Краткой Правдой и договором 1189–1199 гг., хочу привлечь внимание к возможному объяснению глоссы о происхождения новгородцев («и от техъ варяг… людье ноугородьцы от рода варяжьска, преже бо беша словени» [Л., 20]), фиксация которой текстом ПВЛ была возможна не ранее первой четверти XII в., поскольку трудно представить, чтобы новгородцы более позднего времени прямо выводили себя от «поганых латинян». Вопрос этот тем более подлежит рассмотрению, что сохранился документ, подтверждающий существование в конце XVIII в. деревень в Копорском уезде, жители которых считали себя происходящими «от варягов».
Речь идет о записке Екатерины II, адресованной одному из ее секретарей в 1784 г., когда императрица работала над составлением «Сравнительного словаря всех языков и наречий»[161] и требовала отовсюду списки необходимых слов. Текст записки был опубликован первоначально в «Русском Архиве» в 1863 г., а позднее воспроизведен В. А. Бильбасовым в его многотомной, однако так и не законченной изданием «Истории Екатерины II». Вот он.
«Реестр слов отвезите к гр[афу] Кириле Григорьевичу Разумовскому и попросите его именем моим, чтобы он послал в своих копорских деревень кого поисправнее и приказал бы у тех мужиков, кои себя варягами называют, тех слов из их языка переписать, а еще луче буде бы суда человека другого посмысленнее для того привозить велел»[162].
Факт этот, как мне представляется, может быть объяснен обращением к истории колонизации и освоения Новгородской земли из Южной Прибалтики, в частности, из области вендов-ободритов (нынешнего Мекленбурга) в древности (или какой-то их группы в более позднее время). Высказанная в связи с этим в общей форме Н. П. Румянцевым мысль о западно-славянском происхождении «первого Рюрика» была в 1819 г. обоснована Г.-Фр. Хольманном (Голлманном)[163], развита в ряде работ дерптским профессором Ф. Крузе[164], а затем была подкреплена обширным материалом письменных источников, собранных С. А. Гедеоновым[165], И. Е. Забелиным[166], и Н. Т. Беляевым[167]. В последние десятилетия она получила безусловное археологическое обоснование в результате раскопок Новгорода, когда выяснилась ведущая роль вендского элемента в освоении и колонизации северо-западной Руси[168].
Замечательно, что почти полтораста лет назад, ничего не подозревая о будущих открытиях российских археологов, С. А. Гедеонов также писал о «варяжестве» новгородцев при незначительной роли собственно скандинавов: «Всего естественнее предположить, что еще до Рюрика (и не позднее половины VIII столетия) колония вендов, о которых Гельмольд говорит: „Sunt autem in terra Slavorum Marcae quamplures, quorum поп infima nostra Wagirensis est provintia, habens viros fortes et exercitatos praeliis, tarn Danorum, quam Slavorum“, поселились в Новгороде; у туземцев они слыли под общим названием варягов»[169]. Об этом сейчас свидетельствуют предметы материальной культуры и культа из раскопок, такой массовый материал, как керамика[170], пересмотр вопроса о принадлежности ряда категорий находок «норманнам», а главное — неопровержимые антропологические свидетельства генетической связи новгородского населения с балтийскими славянами[171] и лингвистические свидетельства о присутствии западнославянского диалекта в языке древних новгородцев[172].
Следует отметить, что впервые со всей определенностью о западной «прародине» «словен новгородских» с точки зрения лингвистики высказался еще в 1919 г. Н. М. Петровский, который продемонстрировал западные элементы в древненовгородской письменности и заявлял по этому поводу:
«Заселение Новгородской области соседями — западными славянами из нынешней восточной Германии — кажется мне более возможным, нежели предполагаемый Шахматовым кружной путь — из Повислинъя к устьям Дуная, а затем обратно на север, вверх по течению Днепра. Если западнославянские особенности в языке новгородцев Шахматов объяснил тем, что этому племени приходилось по дороге на север пробиваться через ляшскую среду, то с неменьшей вероятностью можно предположить и западнославянскую основу в новгородском населении, оставившую свои следы в языке I Новгородской летописи и некоторых других памятников»[173].
Эти открытия, кардинально изменившие прежние представления об истории освоения и развития северорусских земель[174] и демонстрирующие не ослабевающие на протяжении столетий торговые и культурные связи новгородцев сначала с вендами-ободритами, а затем и возникшими на их землях северогерманскими торговыми городами, заставляют вспомнить о попытках С. А. Гедеонова (а позднее А. Г. Кузьмина) связать первых византийских «вэрингов» с вендскими «варангами». Собственно говоря, при полном смысловом тождестве северо-германского «warang» и греческого «vaering» споры историков и филологов упирались в вопрос о происхождении отмеченного греческой формой
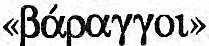 изначального ринизма, среди европейских народов свойственного только западным славянам (вендам). Он исчез очень рано у восточных славян, отмечен в древненовгородском диалекте и сохранился в польском языке. Следует напомнить, что из трех одинаковых по своей структуре лексем — «варяг», «колбяг» и «ятвяг» — два последних безусловно связаны с северопольскими землями и Поморьем, заставляя думать, что и третий термин пришел на Русь (в Новгород, поскольку Киев его долгое время не знал) по тому же пути. Уже один этот факт требует с большей внимательностью отнестись к росписи «варяжских племен» во вступительной части ПВЛ, где среди обитателей южного берега Балтики (племен, напомним, еще в XII в. имевших своих князей и отстаивавших свою самостоятельность от немецкой экспансии) указаны «варязи».
изначального ринизма, среди европейских народов свойственного только западным славянам (вендам). Он исчез очень рано у восточных славян, отмечен в древненовгородском диалекте и сохранился в польском языке. Следует напомнить, что из трех одинаковых по своей структуре лексем — «варяг», «колбяг» и «ятвяг» — два последних безусловно связаны с северопольскими землями и Поморьем, заставляя думать, что и третий термин пришел на Русь (в Новгород, поскольку Киев его долгое время не знал) по тому же пути. Уже один этот факт требует с большей внимательностью отнестись к росписи «варяжских племен» во вступительной части ПВЛ, где среди обитателей южного берега Балтики (племен, напомним, еще в XII в. имевших своих князей и отстаивавших свою самостоятельность от немецкой экспансии) указаны «варязи».
Столь же любопытно известие арабского писателя XIV в. Димешки, приведенное Гедеоновым, о «большом заливе, который называется морем варенгов. А варенги суть непонятно говорящий народ… Они — славяне из славян». На берегах этого моря, говорит тот же автор, кроме «варенгов-славян» живут и «келябии», т. е. «колбяги/кульпинги»[175], предстающие еще одной загадкой, синхронной с «варягами», с которыми «колбяги» соседствуют как в Византии (хрисовулы, приводимые В. Г. Васильевским), так и на страницах Правды Руской.
Однако наиболее интересной находкой Гедеонова оказалось слово warang, означающий ‘меч’, ‘мечник’, ‘защитник’, которое обнаружено им в балтийско-славянском словаре древанского наречия, опубликованном И. Потоцким в 1795 г. в Гамбурге[176]. Если вспомнить, что через территорию вендов проходили древнейшие пути, связывавшие славянское Поморье с низовьями Дуная, которыми одинаково пользовались все жители берегов Балтики, двигавшиеся в Константинополь через земли вендов и Саксонию, о чем прямо пишет В. Г. Васильевский[177], то изменение скандинавского vaering, др.?верхне-германского warjan или готского varjan[178] в виндальское warang могло произойти вполне естественно.
Описанная ситуация дает возможность проследить трансформацию представлений от др.?герм. wara (‘обет’, ‘присяга’, ‘клятва’), о чем писал А. А. Куник в «Дополнениях» к «Каспию» Б. А. Дорна[179], производя отсюда waring, т. е. ‘ротник’[180], поскольку тот приносил эту клятву на своем мече, к собственно «мечу», который в период, предшествующий наплыву скандинавов в Константинополь, мог стать отличительной чертой императорских «варангов», т. е. ‘меченосцев’. Поэтому, не соглашаясь с В. Г. Васильевским в определении последним «варангов» как скандинавов, Гедеонов очень точно указывает на тот факт, что классическое оружие викингов, двуострая секира, отмечено греческими авторами только у специального отряда «секироносцев», в то время как предшественники «варангов», соответственно своему имени, вооружены мечами, и в качестве примера приводит содержащееся в трактате De ceremoniis aulae Bizantinae Константина Порфирогенита описание приема тарсийских послов в 946 г., на котором присутствовали «крещенные росы», вооруженные щитами и «своими мечами»[181].
С этих позиций можно понять автора ПВЛ, работавшего в первой половине XII в. (или еще позже), чьей руке принадлежат обширные вставки в этногеографический очерк недатированной части ПВЛ, который разместил «варягов» не только на берегах Балтийского («Варяжского») моря «до англян», отражая реальную ситуацию, но и показал их наличие на северо-восточных берегах Черного моря в соответствии с византийской традицией (Причерноморская или Таманская Русь). Последнее особенно интересно как потому, что позволяет датировать предложенную летописцем картину расселения народов и племен Восточной Европы серединой или второй половиной XII в., а не более ранним временем, так и потому, что поднимает вопрос о возможной зависимости ПВЛ не только от собственных русских источников, но и от византийских хроник, так называемого текста Кедрина-Скилицы, до сих пор не привлекаемых при анализе текстов ПВЛ.
Итак, можно констатировать, что, во-первых, лексема «варяг» или «варяги» появляется в древнерусской письменности не ранее первой половины XII в.[182], ретроспективно обозначая социальное положение человека (‘наемник’), а не его этническую принадлежность[183], впоследствии же используется в значении псевдоэтноса (обитатели германизированного славянского Поморья, т. е. бывших виндальских земель), как в том был уверен С. А. Гедеонов и считал вероятным А. Г. Кузьмин.
Во-вторых, «призвание варягов» Владимиром и Ярославом не имеет ничего общего с «призванием князей» (Рюрик), поскольку лексема «варяги» использована во втором случае только для пояснения этнонима «русь» при явной анахроничности понятий. Таким образом, «варяжская (норманская) проблема» действительно является затянувшейся ошибкой русской (и мировой) историографии. Из всего сказанного следует также, что в текстах внелетописного происхождения (напр., Патерик Киево-Печерского монастыря и др.) лексема «варяг/варяги» может быть использована в качестве датирующего признака для определения времени создания рассматриваемого текста.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Варяги
Варяги Одно внешнее обстоятельство помогло скоплению военно-промышленною люда в этих городах. С начала IX в., с конца царствования Карла Великого, по берегам Западной Европы начинают рыскать вооружённые шайки пиратов из Скандинавии. Так как эти пираты выходили
Варяги
Варяги Будущая вершительница судеб Руси родилась в конце IX в. на Псковщине. Подробности ее юности известны лишь из преданий да реконструкций историков. Вероятнее всего отец Ольги был влиятельным варягом, дружина которого (с тем же успехом можно применить и более
КТО ВЫ, ВАРЯГИ?
КТО ВЫ, ВАРЯГИ? Под 912 годом «Повесть…» сообщает о посылке князем Олегом посольства для заключения договора с греками и называет имена послов князя-варяга Олега. Имена этих послов-варягов должны помочь нам найти ответ на вопрос, кто такие варяги и откуда они?Для начала
ВАРЯГИ
ВАРЯГИ Лет тридцать тому назад, занимаясь еще выписками, могущими пояснить сколько-нибудь быт варяжский, мне приводилось слышать совершенно различные мнения об этом предмете. Одни утверждали, что такое исследование есть напрасный труд, потому, говорили они, что это
ВАРЯГИ
ВАРЯГИ Дополнение к прежней статьеВо 2-м выпуске материалов для Славяно-Русской истории мы уже говорили о варягах. Рассмотрев этот предмет с разных точек воззрения, нам представляются ещё следующие новые доводы.1. Старая Руса на реке Русе существовала ещё до пришествия
Варяги
Варяги Наряду с этнонимом «рос» в Византии на рубеже X—XI вв. появился еще один термин для обозначения наемников из славянского Поморья — «варанг» (древнерусское «варяг»). Память об их присутствии здесь сохранилась в средневековом названии нынешнего поселка
ЛЕКСЕМА "ВАРЯГИ" В КОНТЕКСТЕ ПВЛ____________________
ЛЕКСЕМА "ВАРЯГИ" В КОНТЕКСТЕ ПВЛ____________________ 91Факт этот, как мне представляется, может быть объяснен обращением к истории колонизации и освоения Новгородской земли из Южной Прибалтики, в частности, из области вендов-ободритов (нынешнего Мекленбурга) в древности (или