Раздел 1 Решения Политбюро о государственных отношениях с западными соседними государствами
Каковы были стратегия и основные ориентиры международной политики СССР? Располагало ли советское руководство отчетливой внешнеполитической концепцией, планом строительства взаимоотношений СССР с окружающим миром, отдельными регионами и государствами? Поиски ответов на эти вопросы в протоколах Политбюро (в строках постановлений или между строк) дают отрицательный результат. Эта проблема тесно связана с другой, еще в 20-е гг. породившей два противостоящих направления в реляциях западных дипломатов и исследованиях советской внешней политики: является ли она результатом приложения к международным делам восторжествовавшей коммунистической идеологии, или же поведение СССР диктуется характерными для «нормального государства» факторами, потребностью обеспечить свои безопасность и «национальные интересы»?
Анализ решений Политбюро ЦК ВКП(б) (как включенных в настоящую работу, так и посвященных другим аспектам международной политики) и материалов НКИД СССР свидетельствует в пользу того, что этот спор может быть разрешен, исходя из двойственности природы советского политического мышления. Социально-психологические установки большевизма придавали подходу Москвы к внешнеполитическим делам эсхатологическое измерение. Ожидание Второго Пришествия мировой войны и пролетарской революции, обещающего коммунизму окончательную международную победу, диктовало, вместе с тем, решимость избежать преждевременного столкновения родины большевизма с силами мирового зла. Уже в начале 1918 г. в большевистском руководстве возобладало понимание, что в международных делах «государство принуждено делать то, чего не сделала бы партия»[181]. Коммунистическое кредо, открыто заявлявшееся в многочисленных постановлениях Политбюро ЦК ВКП(б) о советизируемой Монголии[182], оказывалось неуместно перед лицом западных государств, несовместимо с проблематикой действительных взаимоотношений с ними. Международное поведение Советской России в целом лишь до середины 20-х гг. соответствовало тому общему правилу, что «революционная держава морально и психологически все время находится в состоянии войны со своими соседями, даже если в правовом отношении между ними преобладает мир, ибо она верит, что обладает миссией трансформировать международное сообщество убеждением или силой [by conversion or coercion], и неспособна признать за своими соседями такое же право на существование, какое она приписывает себе»[183]. Если интернациональное воздействие Российской революции оказалось сопоставимо с преобразующей силой Реформации и Французской революции, то взять на себя роль Швеции Густава-Адольфа II или Франции Бонапарта отсталая и истерзанная страна оказалась не в состоянии. Во второй половине 1920-х гг. перспектива перерастания «перманентного террора» в «перманентную войну» была окончательно изгнана из сферы реальной политики, апостол «перманентной революции» – из социалистического отечества. Опыт первого десятилетия эры Октября не только подтверждал, что «Мессия уже в пути», но и отрезвляюще указывал на неисповедимость его путей. Милленаристские ожидания и режим реального времени, установки коммунистической доктрины и насущные государственные задачи не только не совпадали, но и пришли в видимое противоречие. Однако этот конфликт вовсе не требовал решительного исхода – окончательного выбора в пользу одной из сторон: общие мировоззренческие установки оказывались соотнесены скорее с ценностными ориентациями, предчувствиями и ожиданиями, нежели с задачами практической деятельности. В этом отношении предложенное Р. Ароном понимание советского человека как «двойственного субъекта», применимо к творцам советской политики. Правящая элита конца 20-х – середины 30-х гг. еще сохраняла политические идеалы, но уже отказалась от непосредственного связывания их с повседневными делами. Столкновение между видением будущего и диктатом настоящего породило квазиконцепцию внешней политики СССР на основе общих установок Realpolitik.
Применительно к рассматриваемому периоду эти принципы были наиболее полно изложены в утвержденной Политбюро публичной декларации 1930 г. Первым из них называлась необходимость «обеспечения нашему социалистическому строительству мирных условий и свободы от внешних потрясений». Подобно царскому режиму накануне войны, Политбюро обосновывало свое миролюбие потребностями внутренней реконструкции и неблагоприятными внешними условиями: «Нам приходится строить социализм в одной стране в окружении капиталистических стран, занимающих 5/6 земного шара. Мы этого факта не можем игнорировать и не игнорируем… Нам приходится… делать величайшие усилия для борьбы с агрессивными стремлениями определенных капиталистических групп, идущих в сторону создания постоянных трений и конфликтов между обеими системами, следовательно, и для укрепления и сохранения мира между народами»[184]. Прошедшие школу марксистской диалектики, советские руководители понимали, что «мир неделим» задолго до того, как отчеканенная Литвиновым в 1920 г., эта формула приобрела широкое хождение[185], равно как и то, что «благодаря войне между капиталистическими государствами мы захватили власть и укрепились». Высшее политическое руководство не могло поэтому согласиться с однозначными заявлениями, будто «всякое [курсив наш. – Авт.] обострение антагонизмов Германия – Антанта, Франция – Италия, Италия – Юго-Словакия [sic], Англия – Америка означает упрочение нашего положения, уменьшение всяких опасностей для нас»[186]. Перед мысленным взором государственных деятелей стоял пример 1914 г., когда начавшийся в европейском захолустье конфликт стремительно вовлек в войну страны, интересы которых были затронуты им лишь косвенно. Это понимание было присуще и большевистским руководителям. В середине 30-х гг. его бесхитростно выразил «всесоюзный староста»: «Мы… не возражали бы» «против этой [империалистической. – Авт.] войны», «если бы она могла ограничиться, например, только войной между Японией и Америкой или между Англией и Францией»[187]. В конце 20-х – начале 30-х гг. (с началом активной хозяйственной реконструкции и до возобладания ориентации на автаркию) необходимость сохранения мирных отношений СССР с окружающими странами дополнительно акцентировалась ссылкой на потребности пятилетки и «огромного развития и нашего экспорта и нашего импорта», отчего, заявлял руководитель СНК СССР, «в развитии наших мирных отношений… мы теперь заинтересованы не менее, а более, чем раньше», и «стремимся к такой прочности и устойчивости отношений с отдельными государствами, чтобы с этой стороны не получить пробоины или урона в осуществлении величайшего плана гигантских работ, которые изложены в пятилетке»[188].
Наряду с неблагоприятным соотношением сил между СССР и «капиталистическим миром», политика предохранения страны от внешних потрясений и, тем более, вооруженного столкновения на западных рубежах диктовалась сомнениями в устойчивости собственной власти, присущими советскому руководству 20-х – 30-х гг. Военный конфликт, вторжение с Запада грозили разбудить или умножить внутренний социальный и национальный протест. Большевики старшего поколения знали и помнили, как под ударами войны на востоке покачнулась власть царизма, как война на западе привела к его крушению. «Революция сверху» в значительной мере мотивировалась потребностью «усилить и умножить силы нашей обороны». Руководитель Политбюро, однако, был вынужден признать, что «ликвидация кулачества» и «обострение классовой борьбы» в СССР (вкупе с «экономическим кризисом и подъемом революционной волны в капиталистических странах») создают небывалый соблазн для иностранного вмешательства и потому «могут значительно сократить сроки “передышки”»[189]. Завершение коллективизации и создание основ советской промышленной мощи скорее трансформировали, нежели устранили источники социального напряжения. Удержание власти продолжало зависеть от сохранения мирных отношений с окружающими странами. Лишь к исходу 30-х гг., после того как облик СССР кардинально изменился по сравнению с предшествующим десятилетием, и, «в итоге всего этого», сталинское руководство осмелилось констатировать «полную устойчивость внутреннего положения и такую прочность власти в стране, которой могло бы позавидовать любое правительство в мире»[190]. Характерно, что одновременно с достижением этого этапа в самосознании обновленной правящей элиты, с созданием механизмов всеохватного контроля (и завершением процесса общей реконструкции хозяйства и вооруженных сил СССР) основополагающая внешнеполитическая установка на обеспечение «мирных условий и свободы от внешних потрясений» начала размываться.
В расширенном виде она включала не только противодействие тенденциям к возникновению любых вооруженных конфликтов, которые могли бы вовлечь СССР в военные осложнения, но и предотвращение создания за советскими пределами протогосударственных образований, могущих послужить центром притяжения для той или иной национальной общности и вызвать тем самым дезинтеграцию «Союза». Применительно к советской политике на Западе, это, главным образом, означало борьбу за нейтрализацию влияния на Советскую Украину и Советскую Белоруссию факта существования в составе Польши, Чехословакии и Румынии коренного населения, этнически и культурно близкого населению этих советских республик. Неприемлемость для советского руководства возникновения на территории Польши украинского «Пьемонта» привела к открытому декларированию в 1923 г. (в связи с решением Конференции послов о передаче Польскому государству Восточной Галиции): «Если участь Восточной Галиции, населенной той же народностью, что и союзная России Украина, будет решена без участия советских республик, то результатом… явится возникновение новых очагов для столкновений в будущем»[191]. В декабре 1924 г., соглашаясь с целесообразностью переговоров с Польшей, Политбюро постановило «не отказываться от принципа исправления границ между СССР и Польшей»[192]. Скрытый ревизионизм в отношении восточных территорий Польши (в том числе, закрепленных за ней по Рижскому договору), румынской Северной Буковины и чехословацкой Подкарпатской Руси был закреплен в терминах, которыми оперировали как советская пропаганда, так и Политбюро, – «Западная Украина» и «Западная Белоруссия». Однако крупных практических акций по реализации заложенной в этих понятиях идеи объединения Украины и Белоруссии под скипетром Москвы не предпринималось (в отношении Польши – до 1939 г., Румынии – до 1940-го, Чехословакии – до 1945-го). Тенденция к перерастанию озабоченности своей безопасностью в требование ревизии западных границ нашла свое выражение в позиции СССР относительно принадлежности Бессарабии, оборонительных мероприятий Финляндии, внешней политики Эстонии и Латвии. В советской пропаганде (в особенности, на республиканском и местном уровне) перспектива осуществления этих планов приобретала черты коммунистического «освобождения» прилегающих к СССР территорий. Однако ни решения Политбюро, ни их интерпретация в свете имеющейся документации не позволяют считать, что в руководстве СССР существовало общее воззрение или план относительно продвижения к этой цели или что сама цель советизации соседних с Союзом государств постоянно присутствовала в умах деятелей Политбюро. По всей вероятности, правильнее рассматривать ноты «ревизионизма» и «коммунистической экспансии» в качестве отблеска общего идеологического видения, определявшего восприятие границ СССР с капиталистическим миром как преходящего явления, окрашивающего некоторые конкретные решения Политбюро и размышления других членов советского руководства[193]. Они, однако, по существу не выходили за рамки широкого понимания «национальной безопасности», характерного не только для коммунистического СССР, но и для имперской России (например, времен Екатерины II)[194].
Второй сквозной линией советской политики являлось поддержание баланса сил. Этот универсальный международный принцип, в значительной мере вытекавший из прагматического миролюбия, в трактовке Москвы получил своеобразное идейно-психологическое оформление[195]. «Поддержать слабейшего», – формулировал его бывший толстовец нарком Чичерин в конце 1920-х гг.[196]. Его преемник с санкции Политбюро дал этому тезису развернутое обоснование. Мирные договоры 1919–1922 гг. наложили «огромные тяготы на одни страны в пользу других, углубили противоречия, проведя глубокую, не поддающуюся стиранию грань между так наз[ываемыми] странами-победительницами и побежденными». «Естественное сочувствие» к последним, а также враждебное в отношении СССР поведение версальских держав породили «некоторую общность интересов Советского Союза с пострадавшими от войны государствами»[197]. Иными словами, «первым как по времени, так и по важности узлом наших международных отношений является заключение Рапалльского Договора со всеми вытекающими из него последствиями. Из Западных государств Германия является не только первой, но и единственной страной, установившей с нами полностью нормальные дипломатические отношения. […] Попытки создания единого капиталистического фронта против СССР, как в политическом, так и в экономическом отношении, и даже для целей интервенции, разбивались, главным образом о крепкий утес наших взаимоотношений с Германией»[198]. Однако логика поддержания баланса сил подтачивала вытекавший из нее в 1920-е гг. курс на культивирование политических отношений с Германией. Возрождение германского империализма и связанная с этим менявшаяся расстановка международных сил заставили советское руководство уже в начале 1930 г. признать наличие системного кризиса Рапалло[199]. В конце 1931 г. под влиянием Сталина Политбюро отвергло тезис Литвинова о необходимости подчинить отношения СССР с Польшей интересам советско-германской международной кооперации[200]. В 1932–1934 гг. задача борьбы с гегемонией группировки из великих держав трансформировалась в необходимость политического сближения СССР с Францией и ее европейскими союзниками, с Великобританией и США[201]. В своеобразной форме эту установку в начале 1934 г. подтвердил Генеральный секретарь ЦК ВКП(б): «У нас не было ориентации на Германию, так же, как у нас нет ориентации на Польшу и Францию. Мы ориентировались в прошлом и ориентируемся в настоящем на СССР и только на СССР»[202]. Привкус известной формулы лорда Пальмерстона позволяет трактовать это заявление как проявление изоляционистских настроений и даже «идеологии осадного положения»[203] но в контексте пересмотра позиции СССР в отношении Версальского договора и Лиги Наций его главный смысл состоял в подтверждении приоритетной значимости принципа «баланса сил» для проведения советской внешней политики в прошлом, настоящем и будущем. Характерная для Москвы (как, впрочем, и для Лондона) озабоченность сохранением свободы маневра во многом вытекала из веры во всемогущество этого руководящего принципа, из необходимости подчинить ему соображения политической конъюнктуры или идеологии[204].
Принцип недопущения решительного преобладания одной из международных группировок имел для СССР не только общемировое или общеевропейское измерение, но и был непосредственно связан с проблемами защиты советских границ. Говоря о необходимости «поддержки слабейшего» и враждебности «таким международным акциям, которые в какой-либо мере могут способствовать угнетению одних народов другими или подготовке новых войн»[205], Москва видела в роли объекта международного давления прежде всего себя. Ее преследовал подлинный «кошмар коалиций» – от миража капиталистической реставрации объединенными силами Франции, Польши, Румынии и Чехословакии при поддержке английского флота и американских капиталов до призрака сговора лапуасцев, пилсудчиков и самураев о расчленении СССР. Едва ли не любая попытка сближения между странами, расположенными в непосредственной близости от советских границ, рассматривалась как попытка антисоветского сговора[206].
Несмотря на неизбежные черты своеобразия, проступающие в исторической ретроспективе, на фоне международных отношений межвоенного периода советская внешняя политика выглядела «похожей на внешнюю политику любой другой нации», не желающей военных осложнений, стремящейся к расширению сношений с иностранными государствами и лелеящей надежду на наступление «Der Tag», когда неудовлетворительные для нее итоги мировых потрясений 1914–1920 гг. могут быть исправлены[207]. «Классовый подход», поначалу являвшийся одним из основных элементов советского внешнеполитического мышления, трансформировался в геополитическое видение, согласно которому мир состоял из «главных», «ближайших» и «смертельных» противников, их «цепных собак», «авангардов» и «тылов», «слабых звеньев» и немногих «друзей»[208]. Притом общие установки в целом традиционной политики безопасности и баланса сил не привели к построению концепции и, тем более, детального плана укрепления внешнеполитических позиций СССР и достижения им неких промежуточных или конечных результатов. Область конечных результатов принадлежала эсхатологии, в остальном царила эмпирика.
«Наша иностранная политика не определяется установленной заранее начерченной программой, учитывающей не только, что есть сегодня, но и завтра, быть может, – указывал Христиан Раковский в 1927 г., обращаясь к членам ЦК и ЦКК. – Она определяется эмпирически изо дня в день под влиянием тех или иных событий. И Наркоминдел, и полпреды не имеют плана»[209]. Преодолению «эмпирического подхода» должно было способствовать периодическое комплексное рассмотрение внешнеполитических проблем на особых заседаниях Политбюро, проект организации которых Дзержинский намеревался внести незадолго до своей смерти. Шаги в этом направлении были предприняты весной-летом 1927 г., когда Политбюро обсуждало меры по ослаблению внешней угрозы, причем соответствующие решения (например, «Об Англии») охватывали широкий круг деятельности – от работы Осоавиахима до директив дипломатическим миссиям.
Однако с осени 1927 г., по мере минования «военной тревоги», эта практика была свернута. Выработка решений по проблемам обороны, согласование подходов НКВМ, НКФ ВСНХ, Госплана к оборонному строительству военным и хозяйственным делам с 1927 г. сосредоточились преимущественно в рамках нового института – Распорядительных заседаниях Совета Труда и Обороны, на смену РЗ СТО в декабре 1930 г. пришла Комиссия Обороны Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР. В конце 1920-х – первой половине 1930 г. вклад Политбюро в организацию работ по обороне страны, как правило, ограничивался проведением немногочисленных специальных («закрытых») заседаний и принятием программных постановлений (1927, 1929, 1931), а также санкционированием мер, вносимых РЗ и КО. В результате предпринятой в 1927–1930 гг. перестройки высших звеньев управления, в области обороны советское руководство соответствующими доктриной и системой приоритетов, механизмом согласования работы центральных, республиканских, местных органов и установило режим контроля за реализацией поставленных задач. Однако во внешнеполитической области ничего подобного не происходило. Вплоть до весны 1937 г. Политбюро не делегировало ответственности за внешнеполитические проблемы какому-либо постоянному органу и в то же время не организовывало специальных заседаний, систематического обозрения международного положения, заслушивания полпредов и т. д. Сфера внешней политики осталась вне процессов концептуализации и планового руководства со стороны Политбюро ЦК ВКП(б). Представитель СССР в Лондоне и Париже в 1924–1927 гг., Раковский усматривал в этом величайшее упущение: «Наркоминдел формально ответственен перед правительством и Политбюро за иностранную политику. Формально Политбюро ответственно перед партией, но фактически оно не в состоянии руководить этой работой»[210]. Правильнее было бы сказать, что руководители Политбюро намеренно предпочитали избегать составления как генерального плана внешней политики, так и систематического расписания рассмотрения проблем взаимоотношений с внешним миром. В этом они следовали духу ленинизма, высмеявшего схемы движения к революции, и самому Ленину, включившему в свое «политическое завещание» наполеоновское «От s’engage et puis… on voit». Сталин и другие руководящие члены Политбюро предпочитали реагировать на отдельные поставленные перед ними вопросы, нежели намечать общую или региональную перспективу внешней политики, и в соответствии с ними требовать от исполнителей периодического отчета относительно продвижения в указанном ими направлении (как то предлагал дисциплинированный западный ум Раковского). Соответственно, представляемые в «инстанцию» предложения НКИД и НКВТ носили характер частных предложений, связь которых с общими задачами советской политики была неясной и расплывчатой, а порой вообще не прослеживалась. Ни в одном из изученных нами представлений наркома и Коллегии НКИД в Политбюро, открывавшихся мотивировочной частью или общим expos?, не содержалось не только упоминания или ссылки на следование неким долгосрочным директивам (или, хотя бы «программам мира», которые с середины 1960-х гг. стало составлять советское руководство)[211]. Этот подход к внешнеполитическому планированию хорошо демонстрирует наиболее известное и масштабное решение Политбюро, которым был определен «курс СССР на коллективную безопасность». Резолюция 99/74, принятая опросом членов Политбюро 19 декабря 1933 г., содержала директивы, которые НКИД разрешалось «дать т. Довгалевскому для ответа Бонкуру», и тем самым санкционировала изменение позиции СССР в европейских делах. Однако постановление Политбюро не намечало никакой программы действий, выходящих за рамки тайных бесед полпреда с французским министром иностранных дел[212]. «Основополагающее правило партии – никогда не быть пленником одобренной позиции, она должна быть вольна занять другую позицию, если того потребует политический интерес»[213] – во внешнеполитической деятельности Политбюро было доведено до такой степени совершенства, что порой искушенный полномочный представитель Союза ССР терялся относительно того, в чем эта одобренная позиция состоит и как она соотносится с общими заботами Москвы[214].
Разумеется, неполнота информации о внешнеполитической деятельности Политбюро не позволяет исключить наличие у него документально оформленных планов или согласованной системы представлений о задачах и методах проведения иностранной политики. Несомненно, однако, что Политбюро ЦК ВКП(б) не рассматривало и не принимало решений, утверждавших внешнеполитическую программу СССР, а его поведение, в связи с разногласиями между Литвиновым и Сталиным относительно переговоров с Польшей о пакте ненападения дает основания сомневаться в существовании известного членам Политбюро плана действий даже на ближайшую перспективу. Внимательные наблюдатели констатировали, что «политическая тактика СССР всегда идет по линии сосредоточения усилий на очередных задачах». «СССР проводит свою внутреннюю и зарубежную политику «рывками» (ударная система), порой – огромными, и занимается исключительно одним из наиважнейших для себе дел в ущерб остальным. Временами пренебрегает политикой на Западе ради того, чтобы все силы направить на Восток – или наоборот. Однако это не мешает тому, чтобы лучше или хуже разделавшись на время с одним из дел, в данную минуту выкинувшихся на передний план, неожиданно наброситься на другое, совершенное иное, и, в свою очередь, атаковать его с тем же напряжением энергии, что и предыдущее»[215].
По крайней мере, до рубежа 1931–1932 г., когда советское руководство озаботилось созданием надведомственных внешнеполитических органов[216], деятельность Политбюро по руководству советской политикой, прибегая к обычным сравнениям, можно уподобить действиям капитана и его помощников, проводящих время в кают-компании в ожидании беспорядочных докладов о подводных течениях, направлении ветра и приближении к рифам. Не располагая картой, команда время от времени сверяет свой путь с солнцем, но считает излишним беспокоиться из-за того, что маршрут не проложен. Она верит, что, если сохранять корабль в целости и не слишком часто поворачивать назад, мировая стихия перенесет его к берегам по другую сторону океана. Отметки в судовых журналах позволяют вычертить общий маршрут некогда самонадеянного корабля. Вряд ли, однако, следует поддаваться соблазну считать проделанный им путь результатом следования определенным курсом, даже если капитан время от времени отдавал распоряжения о поворотах руля. Это применимо и к эволюции советской политики 20-х – 30-х гг. в отношении западных соседних государств. Она свершалась при преобладающем воздействии международных факторов, ее приоритеты и пределы определялись характером режима и внутренними обстоятельствами. Руководство внешней политикой со стороны Политбюро состояло в каждодневном соединении первых со вторыми.
* * *
Временная утрата статуса великой державы и первостепенность забот об обеспечении безопасности СССР, прочности социально-политического строя, утвердившегося на большей части бывшей Российской империи в 1917–1921 гг., обусловили характерную для советской политики конца 1920-х – начала 1930-х годов сосредоточенность на упрочении своего положения в восточноевропейском регионе.
Формирование новых государств Восточной Европы оказалось переплетено с военно-политическими конфликтами, наследие которых легло тяжелым бременем на отношения большевистской России со своими соседями. Наиболее продолжительным из них явилась борьба за Эстонию в конце 1917 – декабре 1919 г. Подписанный 2 февраля 1920 г. Тартуский мирный договор стал первым из череды аналогичных трактатов, подведших черту под усилиями по установлению советского строя в странах Балтии и подтверждавших их независимость и государственную самостоятельность, – с Литвой (12 июля 1920 г.), Латвией (11 августа 1920 г.) и, наконец, с Финляндией (14 октября 1920 г.). Основополагающее значение для системы международных отношений в Восточной Европе имел Рижский мирный договор между советскими республиками (РСФСР, УССР, БССР) и Польским государством. Заключенный 18 марта 1921 г. после ожесточенной войны, разыгравшейся на пространстве от Смоленска и Киева до Львова и Варшавы, Рижский мир перечеркнул грандиозные замыслы обеих сторон – Федеративной Польши и Советской Европы[217]. Отделенная от Советских республик географическим барьером новая Чехословакия также оказалась косвенным участником гражданской войны в России. Выдающаяся роль Чехословацкого корпуса, с конца 1918 г. официально подчинявшегося правительству в Праге, в событиях в Поволжье, Сибири и на Урале во многом осложнила становление межгосударственных отношений между Советской Россией и Чехословацкой Республикой. Лишь в апреле 1922 г. между этими странами было достигнуто соглашение об ограниченном взаимном признании и установлении отношений де-факто. Враждебные отношения между советскими властями и Румынией не переросли в масштабный конфликт, несмотря на разрыв Бухарестом «русско-румынского соглашения об очищении Румынией Бессарабии» немедленно после его подписания в марте 1918 г. Добившись от европейских держав-победителей (Англия, Франция, Италия) признания «объединения Бессарабии с Румынией» (Парижский протокол от 28 октября 1920 г.), Румыния создала непреодолимое препятствие на пути установления отношений с СССР. В 1921 г. руководство ЦК колебалось, склоняясь то к насильственному занятию Бессарабии («эта мысль очень соблазняла Ильича»), то к готовности на нормализацию отношений с Румынией при фактическом признании принадлежности ей Бессарабии[218]. В отличие от советского, румынское правительство исходило из отсутствия состояния войны между СССР и Румынией[219], но прелиминарные переговоры о нормализации отношений и мирном договоре (Варшавская конференция (сентябрь-октябрь 1921 г.) и Венская встреча (март-апрель 1924 г.) закончились провалом. Вплоть до 1929 г. советско-румынские отношения не были урегулированы каким-либо международно-правовым актом, за исключением «Положения» о «предупреждении и разрешении конфликтов, могущих возникнуть на реке Днестр», ставшей пограничным рубежом между СССР и Румынией.
Независимо от того, в какой форме и мере упорядочились отношения Москвы с ее европейскими соседями, она оказалась вынужденной считаться со складывающимся в Восточной Европе международным порядком. В начале 1921 г. советизацией Грузии и подписанием «контрреволюционного» (по определению Троцкого) Рижского мира определился предел осуществимости замыслов, в которых странам-лимитрофам отводилась роль «объединяющего звена» между Советской Россией и революцией на Западе. Применительно к ним большевистскому государству приходилось осваивать иные понятия – «санитарный кордон», «буфер», «плацдарм» и «авангард капиталистического мира». При этом, ослабленной Советской России в ходе мирных переговоров с соседями пришлось отказаться от последовательного отстаивания национально-государственных интересов и пойти на уступки по многим имущественным, финансовым и территориальным вопросам[220]. Новая конфигурация границ, предоставившая, в частности, Финляндии выход к Северному Ледовитому океану (Петсамо), Латвии – стык с Польшей, Эстонии – Печорский уезд, бессилие помешать исполнению притязаний Польши на Восточную Галицию и Румынии на Бессарабию, лишили Россию непосредственного соседства с Литвой и Чехословакией. Как и во времена «восточного барьера» XVI–XVII вв., возможности ее взаимодействия с Центральной и Западной Европой в значительной мере зависели от Речи Посполитой. Двухсотлетнее российское господство на востоке Балтики кончилось. Свобода внешнеполитического маневра Советской России оказалась стеснена. Как показала Генуэзская конференция 1922 г. прежде, чем Москва могла вернуться в большую мировую и европейскую политику, ей предстояло решить проблемы, вставшие перед Советской Россией как региональной державой[221].
Главной из них советское руководство считало проблему безопасности. Из периода всеобщих потрясений большевики вышли с убеждением, что «если бы все эти маленькие государства пошли против нас… нет ни малейшего сомнения, что мы потерпели бы поражение»[222]. С другой стороны границы процесс образования новых государств был сопряжен с пониманием (особенно прочно утвердившимся в Эстонии, но не чуждым ни одной стране региона), что малым странам трудно «в одиночку выжить в мире великих держав»[223]. С 1919 г. западные соседи Советов предпринимали попытки координации своей политики в отношении Москвы. В сентябре 1919 г. состоялись конференции МИД Литвы, Латвии и Эстонии, в январе 1920 г. к ним присоединились Финляндия и Польша (всего в 1919–1926 гг. состоялось около 60 различных «балтийских конференций»). Наиболее яркое выражение тенденция к их консолидации в рамках Большого балтийского блока получила на Варшавской конференции (март 1922 г.) с участием Финляндии, Латвии, Эстонии и Польши (занятие польскими войсками Виленской области в октябре 1920 г. создало так и не устраненную преграду к взаимодействию Литвы со Второй Республикой). Опасение оказаться инструментом польской политики и быть втянутой в военный конфликт с СССР обусловило отказ Хельсинки от Варшавского аккорда. Идея Большого балтийского блока осталась неосуществленной, но на протяжении последующего десятилетия, пока сохранялись в силе вызвавшие ее международные условия, она продолжала волновать воображение советских руководителей и некоторых политических кругов в странах-лимитрофах. Более скромным отпочкованием тенденции к объединению соседних с СССР балтийских государств явился проект Малого балтийского блока в составе Литвы, Латвии и Эстонии (либо Польши, Латвии и Эстонии); в 1923 г. был подписан союзный договор между Латвией и Эстонией (ратифицировавшими также Варшавское соглашение 1922 г., от подтверждения которого сама Польша впоследствии отказалась).
Занимавшая центральное положение в сношениях Советской России со странами региона, Польша в январе 1921 г. заключила договор с Румынией о взаимных гарантиях на случай советской агрессии, согласно которому они обязались «взаимно уважать и защищать перед угрозой извне нынешние целостность их территории и политическую независимость». Подписанный на пять лет договор был в 1926 и 1931 гг. заменен новыми союзными соглашениями и привел к тесному взаимодействию румынских и польских правительств и генеральных штабов. Подписанные в апреле и июне 1921 г. пакты Румынии с Чехословакией и Югославией укрепили ее тыл и привели к окончательному оформлению Малой Антанты. Целью ее создателей являлась защита статус-кво в Центральной Европе от венгерского и германского ревизионизма, присоединение Бухареста к оси Прага-Белград не привело даже к признанию ими аннексии Бессарабии. Тем не менее, логика международных комбинаций придала Малой Антанте побочную «антисоветскую функцию», и Румыния приобрела дополнительные гарантии на случай войны с Советами[224]. Франко-польский (февраль 1921 г.) и франко-чехословацкий (январь 1924 г.) союзы связал, эту сеть соглашений на рубежах СССР с поддержкой со стороны самой сильной военной европейской державы 1920-х гг.
Советское руководство медленно адаптировалось к постреволюционной реальности и ожидало возобновления национально-классовой борьбы на своих западных рубежах, полагая, что новая «война начнется через 3–4 года… после окончания войны с Польшей и ликвидации Врангеля»[225]. После «германского октября» и провала коммунистического путча в Таллинне (1 декабря 1924 г.) невозможность завершить порыв 1917 г. советизацией соседних государств окончательно стала очевидной. В апреле 1925 г. Западный фронт, в полосе которого в первой половине 20-х велись частые столкновения с поляками и самостийными украинцами, был преобразован в военный округ. Несколько ранее (в феврале 1925 г.), констатировав «установление более или менее нормальных дипломатических отношений с прилегающими к СССР странами», Политбюро распорядилось прекратить направляемую советскими государственными органами «активную разведку» (диверсии) в Польше, «боевую и повстанческую работу» в других соседних государствах; при этом оговаривалось, что обстановка может потребовать возвращения к этим методам («например – Бессарабия»)[226]. Месяцем позже Политбюро создало особую «комиссию из представителей НКИД, ОГПУ и Военного ведомства для систематической разработки и систематизации имеющихся сведений, подготовительных действиях соседних стран»[227].
Главным выводом комиссии Политбюро явилось утверждение, что свершившийся «факт создания блока из Прибалтийских стран, Польши и Румынии таит в себе непосредственную угрозу безопасности СССР»[228]. Эта одобренная Политбюро установка стала основой подготовки страны к обороне на протяжении последующего десятилетия. Тремя годами позже, рассматривая предложения Госплана по военной промышленности, Политбюро ЦК ВКП(б) уточнило: «военная опасность угрожает [Советскому Союзу] главным образом со стороны Польши»[229]. «Нам нужно во что бы то ни стало, – разъяснял нарком Ворошилов, – быть на одном уровне с нашими ближайшими соседями – с Румынией, Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией – со всей этой каемочкой государств, окружающих нас»[230]. Военно-политическая доктрина, утвержденная Политбюро в июле 1929 г., определяла все соседние с СССР западные государства как «вероятного противника» «на главнейшем театре военных действий» и требовала достижения паритета с ними по численности вооруженных сил и превосходства в «двух-трех решающих видах борьбы» (воздушный флот, танки, артиллерия). В начале 1930-х оценка вооруженных сил и боевых возможностей лимитрофов продолжала служить отправной точкой для мобилизационного планирования и строительства Красной Армии[231].
Другая часть работ комиссии 1925 г. была посвящена определению действий «по разложению этого блока». Было решено «использовать возможности нашего экономического давления на государства Прибалтики» (при этом признавалось незнание «конъюнктуры наших экономических отношений с Прибалтикой»); усиливать «существующий между Польшей и Литвой антагонизм», «максимально использовать» германо-польские противоречия[232]. Подготовка и заключение Локарнских соглашений между западными державами и Германией (парафированы 16 октября, подписаны 1 декабря 1925 г.) серьезно модифицировали направленность намеченных советских внешнеполитических усилий и ослабили их конфронтационную тональность. С неприязнью воспринятые в Москве, эти соглашения утверждали различие в международном статусе западных и восточных границ Германии. Предоставление первым из них дополнительных гарантий поощряло тенденцию к пересмотру немецко-польского и немецко-чехословацкого территориального урегулирования. Вместе с тем, Локарнские соглашения фактически положили конец консультациям между представителями СССР и Германии о совместных действиях для сведения пределов Польского государства к ее «этнографическим границам»[233]. Стремясь приостановить дрейф Германии в западном направлении и компенсировать ущерб, который Локарно нанесло германо-советским отношениям, советское руководство впервые смутно ощутило общность международно-политических интересов всех государств востока Европы. В сентябре 1925 г. нарком Г.В. Чичерин посетил с официальным визитом Варшаву, чтобы «создать несколько опорных пунктов для дальнейших дипломатических переговоров, имеющих целью прочное сближение между нашими государствами»[234]. В поле обсуждения вошла проблема заключения советско-польского гарантийного пакта, от чего советская дипломатия прежде отворачивалась, настаивая на приоритете международных мер по разоружению над механизмами безопасности. Поскольку выступление СССР с такой инициативой было чревато образованием дипломатического фронта его западных соседей под эгидой Польши для совместных переговоров о пактах о ненападении, советское руководство, стремясь отделить малые балтийские страны от Польши, решило отступить от принципа неучастия в многосторонних соглашениях. В феврале 1926 г. Политбюро санкционировало «предварительные переговоры с Эстонией, Литвой и Латвией о заключении четверного соглашения о ненападении, невступлении во враждебные комбинации и о нейтралитете»[235].
Следствием этих усилий явилось, однако, предъявление Латвией, Эстонией и Финляндией согласованного с Польшей набора условий двусторонних пактов ненападения с СССР: одновременность их заключения («юнктим»), арбитражное разрешение споров между сторонами, согласование условий пактов с Уставом Лиги Наций. Летом 1926 г. Москва пыталась прорвать «единый фронт» путем ведения отдельных переговоры с Финляндией и Польшей. Для воздействия на Хельсинки Москва фактически прервала демаркацию советско-финской границы и с помощью Германии заблокировала избрание Финляндии в Совет Лиги. Попытки соблазнить Польшу (где в мае 1926 г. установился «санационный» режим Пилсудского) возможностью ослабить рапалльские узы, заключив с СССР пакт о неагрессии, не удались. От раздумий о выгодах соглашения с Польшей за счет отказа от поддержки Литвы в территориальном споре между ними[236] советская дипломатия перешла к форсированию переговоров с Литвой о договоре ненападения ценой официального декларирования в ноте Чичерина, что «фактическое нарушение литовских границ» «не поколебало» отношения Союзного правительства к определению территориального суверенитета по советско-литовскому договору 1920 г. Антипольская основа советско-литовского сближения акцентировалась одновременным заключением «джентльменского соглашения» об обмене информацией в отношении Польши[237]. Договор о дружбе и нейтралитете между СССР и Литвой, к которому прилагалась нота Чичерина, был подписан 28 сентября 1926 г. и имел «фатальное значение для польско-литовских отношений»[238], пятью месяцами ранее аналогичный договор был заключен с Германией. Таким образом, на «окружение» СССР по периметру западных границ, Москва ответила политико-дипломатическим «окружением» Польши. Вслед за этим советское руководство предприняло попытку изменить позицию Латвии, предложив ей выгодное экономическое соглашение (заказы на 6 млн. рублей в год и др.) в обмен на «ликвидацию враждебной политики в отношении СССР» и заключение политического договора «на выставленных нами условиях»[239]. В итоге дипломатического торга Москва согласилась на создание арбитражной комиссии с нейтральным председателем и по торговому договору обязалась увеличить импорт из Латвии до 15 млн. рублей в год[240]. Благодаря этим уступкам, в марте 1927 г. советско-латвийский пакт о нейтралитете был парафирован, и Политбюро без промедления возобновило дипломатическое наступление на Варшаву. Оно было объявлено решающим: НКИД поручалось «в переговорах с Польшей исходить из необходимости доведения их до успешного конца»[241]. На протяжении апреля-сентября позиции двух стран сблизились, но основные разногласия, в том числе проблема увязывания советско-польского договора с «заключением пактов со всеми балтами», оказались непреодолимыми[242]. Эпилогом нового тура переговоров между Москвой и Варшавой стал отказ Риги ратифицировать договор с СССР марта 1927 г. и попытка МИД Латвии актуализировать идею «пакта Восточного Локарно», которым Великобритания, Франция, Германия и Советский Союз «гарантировали бы нейтральность и целостность балтийских государств»[243].
Исход пактовой кампании 1926–1927 гг. явился тяжелым уроком для советских руководителей. Некоторые важные задачи программы весны 1925 г., в первую очередь углубление противоречий между Польшей и Германией и Литвой, были достигнуты, другие (использование «возможностей экономического давление на государства Прибалтики») оказались нереальными[244]. Международное положение СССР оставалось проблематичным. Независимо от того, в какой степени руководители Политбюро соглашались с утверждением Зиновьева («переориентация Германии есть совершившийся факт»)[245], СССР был бессилен как воспрепятствовать процессу сближения Германии со странами-победителями – так же как и найти иную опору в европейской политике. Даже спустя несколько лет руководитель НКИД был вынужден констатировать: «С Англией и Францией и некоторыми другими европейскими странами у нас имеются дипломатические отношения, но далекие от нормальных, ибо проблемы внешней политики почти никогда не бывают предметом обсуждения с ними […] Послы и посланники этих стран в Москве выполняют скорее консульские функции, чем дипломатические. Только в Берлине наше полпредство занимает подобающее ему место в дипломатическом корпусе, так и перед лицом германских официальных учреждений»[246]. Односторонний характер политических связей СССР делал его заложником международной конъюнктуры и внутренней политической жизни стран-партнеров и даже отдельных политиков. Так, государственный переворот в Литве, совершенный спустя три месяца после заключения с нею договора о дружбе, и приход к власти правительства таутининков во главе с трудноуправляемым националистом А.Вольдемарасом быстро показали советским руководителям, сколь рискован соблазн использования литовской карты.
Вынужденная односторонность советской политики отчасти компенсировалась дружественными отношениями с Турцией, до середины 30-гг. соглашавшейся играть роль младшего партнера СССР[247]. Культивирование отношений с Анкарой позволяло Москве нейтрализовывать потенциальную угрозу на южном европейском фланге и спокойно взирать на раздираемую клановой борьбой, слабую в военном и экономическом отношении Румынию[248]. Скверное управление бедной Бессарабией превращало ее в уязвимую, податливую для воздействия Советов область. В октябре 1924 г. (вслед за провалом венских переговоров и накануне принятия решений о свертывании «боевой и повстанческой работы» в Бессарабии) Москва и Харьков создали Молдавскую автономию с центром в Балте (Тирасполе), расположенной на пограничной «линии реки Днестр»[249]. Соседство с Румынией беспокоило советское руководство постольку, поскольку оставались в силе и развивались ее военно-политические контакты с союзницами (Польшей и Чехословакией) и великими державами (Великобританией и Францией), и потому предложения чехословацкого или польского посредничества для урегулирования взаимоотношений Москвы и Бухареста представлялись ему контрпродуктивными[250].
К концу первого десятилетия отношений Советов с окружающим миром вполне определился отказ России от Черноморской и Балканской ориентации предвоенного и военного времени, о лучшем хранителе Проливов, чем кемалистская Турция, думать пока не приходилось. Бывшие российские союзники и клиенты находились на периферии забот Кремля, и пророчества полпреда в Праге о том, что Чехословакия «раньше или позже станет нашим форпостом в Центральной Европе и на Балканах»[251] на протяжении 20-х гг. были лишены актуального смысла. Напротив, «балканизация» Северо-Восточной Европы после мировой войны, утрата стратегически важных рубежей на Балтике превратили этот регион в средоточие жизненно важных интересов Советской России. Если влияние в нем Польши могло быть уравновешено совместным сотрудничеством СССР с Германией (в частности, по поддержке Литвы), то предотвратить британское проникновение в Восточную Балтику Советский Союз был совершенно не в состоянии и потому находился в зависимости от доброй воли Лондона, которому приписывалось авторство плана, «направленного к тому, чтобы у нас на границе создать кольцо в целях окружения Советского Союза»[252]. Между тем, вовлеченность СССР в гражданскую войну в Китае и попытки проведения активной политики на Среднем Востоке делали конфронтацию с Великобританией неизбежной. Давно назревавший разрыв советско-английских дипломатических отношений в мае 1927 г. дал сигнал неподдельной военной тревоге[253]. В этих условиях позицию стран-лимитрофов относительно условий заключения пактов ненападения с СССР Москва рассматривала как попытку поставить их «в зависимость от Финляндии и Эстонии, в которых доминирует английское влияние» и как подтверждение своих опасений, что Польша «хочет в отношении СССР быть грозным, боевым авангардом Европы (и прежде всего Англии)»[254].
Провал усилий прорвать политико-дипломатическое окружение на западной границе и добиться заключения договоров о ненападении и нейтралитете с сопредельными государствами Северо-Восточной Европы в сочетании с разрывом дипломатических отношений с Англией, завершением советско-французской конференции о долгах (1926–1927 гг.), высылкой из Франции полпреда СССР, наконец, стратегическим поражением Советов в Китае (понимавшимся как «авангардный бой между Москвой и Лондоном»[255]) – подводил к пониманию необходимости изменений внешнеполитического курса («мы должны маневрировать») и даже к выдвижению альтернативного подхода. Предложения, исходившие от заместителя наркома иностранных дел М.М. Литвинова и встречавшие понимание «кое-где в сферах более высоких», включали признание дореволюционных долгов, частичный отказ от монополии внешней торговли, уход из Китая – и «правый маневр о внутренней политике»[256]. Являясь сторонником сохранения возможно более тесных отношений с Германией, Литвинов исходил из того, что, в отличие от нее, «Англия представляет собой страну империалистически пресыщенную. Последняя война по своим результатам не могла не разочаровать господствующих классов Англии и отбить у них на долгое время охоту к повторению авантюры. Пацифистские настроения там настолько сильны, чтобы в зачатке парализовать новые военные походы»[257]. Это создавало возможность преодоления острого соперничества и конфронтации с Великобританией ценой уступок в областях, по мнению Литвинова, не являвшихся жизненными важными для советского государства. Для высшего руководства эти предложения, затрагивавшие не только внешнюю, но и внутреннюю политику СССР, оказались неприемлемы. В начале 1928 г. это отчетливо показало «Шахтинское дело» и сделанные в связи с ним заявления Генерального секретаря ЦК ВКП(б)[258].
Другое направление масштабного внешнеполитического маневра представляла идея антибританского «континентального блока», позаимствованная Чичериным у С.Ю. Витте. Нарком был убежден, что, поскольку франко-германское сближение становится неизбежным, его следует интегрировать в более широкую схему, составной частью (если не основой) которого явилось бы Рапалло. Создание «континентального блока» СССР, Германии, Франции (позднее, Италии) он рассматривал как «самую надежную гарантию сохранения мира»[259].
Реализовать эти потенции – укрепить международные позиции и безопасность СССР путем диверсификации партнерства на уровне великих европейских держав было, хотя и в силу иных причин, не легче, чем наладить диалог с соседями. В 1928 г. советская внешняя политика переживала плохие времена, в ней вызревал пересмотр принципов отношений со странами «ближнего Запада». Толчком к ее вступлению в новый этап, продолжавшийся до конца 1932 г., явились международные переговоры о пакте Бриана-Келлога об отказе от войны как орудии национальной политики. Незадолго до его подписания в Париже 27 августа 1928 г. (в том числе представителями Польши и Чехословакии) советское Политбюро отступило от привычной позиции бескомпромиссного осуждения соглашений буржуазных стран. Повторяя, что «острие всей этой дипломатической акции… направлено против Союза ССР», Москва заявила о желании получить приглашение присоединиться к Парижскому договору и 6 сентября дала официальное согласие подписать его. Присоединение к инициированному госсекретарем США пакту позволяло Советскому Союзу вступить на мировую дипломатическую арену, пусть и через боковой вход, – принять участие в первом в его истории многостороннем политическом соглашении, не поступаясь при своей позицией в отношении Лиги Наций.
Другим важным мотивом советской акции, наряду с интересом к «американскому золоту», явился поиск сближения с Соединенными Штатами как противовесом британскому мировому влиянию[260]. О международной комбинации, подобной пакту Келлога, Москва задумывалась уже вскоре после подписания Женевского протокола 1924 г., Политбюро выразило даже заинтересованность в допущении СССР к работам Лиги Наций «в качестве наблюдателя на равных основаниях с Америкой»[261]. Наконец, подключение к пакту об отказе от войны лежало в русле советского международно-пропагандистского наступления, начатого в конце 1927 г. прибытием в Женеву делегации СССР с проектом всеобщего и полного разоружения.
В конце 1927 г. и на всем протяжении 1928 г. пацифистские акции СССР имели практическую параллель в его усилиях добиться смягчения напряженности вблизи своих северо-западных границ. Антипольский курс правительства Вольдемараса, пытавшегося преодолеть внутренний кризис и спровоцировать СССР на предоставление Литве военно-политических гарантий, в конце 1927 г. подвел польско-литовские отношения к грани военного конфликта, а затем к их балансированию невдалеке от этой черты[262]. Преподавая Каунасу советы умеренности, Москва тревожилась «демонстративным переходом Германии на сторону держав Лиги Наций в деле обуздания Литвы»[263]. Ни «мирное» подчинение Литвы, ни, тем более, ее военный разгром (и доминирование Польши в регионе в результате осуществления любого из этих вариантов) не могли не вступить в противоречие с «жизненными интересами» Советов[264]. Выход из затянувшегося конфликта советская дипломатия, которую с августа 1928 г. фактически возглавил М.М. Литвинов, увидела в развитии идеи А. Вольдемараса о специальном региональном соглашении о неприменении силы, которому был придана форма советско-польско-литовского протокола «о быстрейшей ратификации пакта Келлога и о признании его вступившим в силу» между участниками этого дополнительного соглашения. Отказ литовского правительства от советского предложения и умелое маневрирование польской дипломатии в начале 1929 г. поставили Москву перед выбором: либо согласиться с принципом «круглого стола» всех европейских соседей СССР и подписать акт о досрочном введении в действие Парижского договора с Польшей, Эстонией, Латвией и Румынией, либо признать неудачу своей инициативы и отказаться от участия в модифицированном протоколе. Не оставляя попыток настоять на своем вплоть до момента подписания протокола (в частности, путем воздействия на Латвию, где советское влияние соперничало с польским[265]), советская дипломатия и политическое руководство сделали выбор в пользу первого варианта.
Исход шестинедельных переговоров и подписание 9 февраля Московского протокола были исполнены парадоксальности. Задуманная как способ обойти польско-балтийское условие «круглого стола» при переговорах о гарантиях ненападения, советская инициатива увенчалась торжественным собранием в здании Наркоминдела его потенциальных участников. Неучастие Финляндии с лихвой «компенсировалось» подключением Румынии, а главное лицо затеянного СССР примирительного акта – Литва – блистала отсутствием.
Непредвиденный исход начатых Москвой переговоров являл собой пример «исторической необходимости» – необходимости компромисса между интересами безопасности СССР и его западных соседей, – которая прокладывала себе путь без оглядки на расчеты Наркоминдела и Политбюро. Укоренению в советской политике новых подходов, вытекавших из согласия СССР на многосторонний региональный акт, препятствовали неутешительные для нее ближайшие последствия Московского протокола (называвшегося порой «Варшавским»): влияние Польши в регионе (особенно в Латвии) резко возросло, отношения СССР с Литвой вступили в состояние кризиса, с его молчаливого согласия состоялась «моральная демонстрация солидарности» западных соседей – всего этого советскому руководству прежде удавалось избегать, хотя и ценой отказа от разрядки напряженности[266]. Возможность приступить к нормализации отношений с Румынией, возникшая после прихода к власти национал-царанистского кабинета Ю. Маниу (ноябрь 1928 г.), визита в Москву румынского представителя и совместного подписания акта о неприменении силы, по решению Политбюро была вскоре сведена к минимуму[267]. В апреле 1929 г. советское руководство вступило на путь искусственного обострения отношений с Польшей[268]. В правящих кругах широко распространились настроения в пользу недопустимости уступок капиталистическим странам, подобных сделанным при подготовке Литвиновского протокола[269]. Раскол, происшедший в Политбюро в конце января – начале февраля и выплеснувшийся на пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 1929 г. в открытую атаку на «правых» (к которым был близок Литвинов), стимулировали возвращение сталинского руководства к конфронтационной линии в отношении стран региона. Этому также способствовала эйфория по поводу предрешенного поражением консерваторов восстановления дипломатических отношений с Англией[270]. «Рыкова с Бухариным и Литвинова» руководитель Политбюро изобличал в том, что «эти люди не видят ни роста силы и могущества СССР, ни тех изменений в международных отношениях, которые произошли (и будут происходить) в последнее время»[271]. «Держитесь покрепче в отношении Китая и Англии – поручал он соратникам. – Проверяйте во всем Литвинова, который, видимо, не симпатизирует нашей политике»[272].
Ирония истории СССР не замедлила себя ждать. «Наступление социализма по всему фронту» уже в начале 1930 г. обернулось глубоким социально-политическим и хозяйственным кризисом, диктовавшим необходимость любой ценой продлить «мирную передышку» и получить от соседей гарантии невмешательства и ненападения. В международном контексте того требовал многомерный кризис Рапалло, в первые месяцы 1930 г. принявший открытую и тяжелую форму. Примат внутриполитических соображений и их осложненность германской проблемой вели к сосредоточению новых дипломатических усилий главным образом на Польше. В середине марта, озабоченное тем, «что польское правительство может пойти на вмешательство»[273], Политбюро вплотную подошло к решению предложить Польше возобновить переговоры о пакте ненападения, известие об этом Наркоминдел лансировал в британскую печать[274]. В конечном счете советское руководство решило ограничиться половинчатыми публичными заявлениями о желании добрососедских отношений с Польшей: выступление с инициативой новых переговоров было равносильно отказу от выработанной в 1927 г. позиции и чревато повторением опыта Московского протокола. «Военная тревога» 1930 г., далеко вышедшая за рамки привычной для соседей СССР «сезонной войны нервов», в феврале-мае 1930 г. затронула весь пояс Восточной Европы[275].
К лету 1930 г. острота внутриполитического кризиса в СССР ослабла, тогда как в Румынии, Финляндии и Польше он стал приобретать жесткие формы. В Румынии он разрешился вступлением на престол Кароля II в июне 1930 г. и последующей перестройкой государственного управления. Правящие круги Польши и Финляндии были озабочены осенними парламентскими выборами, режим Пилсудского «пацифицировал» Восточную Галицию. В то время, как импульс к активизации советской политики в отношении западных соседних государств угасал, реконструкции и увеличению Красной Армии был придан новый толчок. Решения PBC СССР, 13 июня 1930 г. утвердившего план строительства РККА на ближайшие годы, были перечеркнуты Сталиным, потребовавшим резкого увеличения советских вооруженных сил мирного и военного времени. «Поляки наверняка создают (если уже не создали) блок балтийских (Эстония, Латвия, Финляндия) государств, имея в виду войну с СССР, – мотивировал Сталин новую директиву. – Я думаю, что пока они не создадут блок, они воевать: СССР не станут, – стало быть, как только обеспечат блок. – начнут воевать»[276]. Неудивительно, что большинство решений Политбюро осени 1930 г. были посвящены задачам «восстановления прежних дружественных отношений» с Литвой и отпора охваченной антикоммунистической кампанией Финляндии. К Москве, как показал «процесс Промпартии» и прозвучавшее на нем обвинение Франции в подготовке антисоветской интервенции, вернулась самонадеянность, пусть и смешанная со страхом перед «военным кулаком мирового империализма» – Польшей («ведомой и управляемой французским капиталом и его генеральным штабом») и «остальными нашими западными соседями», включая «тыловую базу интервенции» – Чехословакию (которые «постоянно консолидируются против нас» «в согласии» с Польшей)[277]. Эти опасения, однако, не помешали спровоцировать обострение отношений с Францией в октябре-ноябре 1930 г. и введение ею экономических санкций против СССР. На свой лад истолковывая противоречивую московскую конъюнктуру, в ноябре-декабре 1930 г. полпред СССР в Варшаве в доверительных беседах с руководителями польской дипломатии о двустороннем сближении вышел за рамки инструкций НКИД. В ответ «г-н Маршал, в принципе решил принять предложения [Антонова-]Овсеенко как в деле актуализации по существу никогда не прекращенных переговоров в деле заключения какого-либо политического договора, так и вступления в переговоры о торговом договоре»[278]. Польская дипломатия приступила к консультациям с балтийскими государствами и союзной Румынией относительного нового тура переговоров с Советами. Дело получило огласку, за ней немедленно последовало категорическое опровержение Москвой возможности проявления ею подобной инициативы[279]. Попытки достичь соглашения между СССР и Польшей по экономическим вопросам продолжились[280], однако политические отношения были заморожены. Период осени 1930 – весны 1931 г. стал эпилогом десятилетних усилий обеспечить советские внешнеполитические интересы на основе сближения с ревизионистскими государствами[281].
Расшатывание основ версальского миропорядка побудило его главного гаранта – Францию – искать способов нормализации отношений с СССР. Начатые в апреле 1931 г. советско-французские переговоры о политическом и коммерческом соглашениях привели к согласованию текста двустороннего пакта о ненападении и неучастии во враждебных комбинациях. Переговоры велись под аккомпанемент советских деклараций о «мирном сосуществовании стран, независимо от их социально-политического и экономического строя»[282], 10 августа 1931 г. в Париже был тайно парафирован договор о ненападении между СССР и Францией. Советское руководство видело себя на пороге грандиозного политического успеха: не сумев вбить клин между Польшей и ее восточноевропейскими партнерами, оно, казалось, смогло оторвать от Малой Антанты и Польши покровительствовавшую им великую державу. Расчет оказался иллюзорен: как доказала польская инициатива 23 августа, путь в Париж проходил если не через Бухарест и Прагу, то через Варшаву, Хельсинки, Ригу и Таллинн. Демарш польского посланника, заявившего, что правительство Польши считает продолжающимися переговоры с СССР о пакте ненападения, встретил резкое и единодушное неприятие руководства НКИД, с которым были склонны согласиться и находившиеся в Москве члены Политбюро. Вступление в переговоры с Польшей представлялось им авантюрой, способной разрушить традиционное взаимопонимание СССР с Германией, в июне 1931 г. подтвержденное протоколом о продлении срока действия Берлинского договора 1926 г. «Когда мы найдем это выгодным для себя, мы пойдем и на пакт с Польшей, вопреки Рапалло», писал Литвинов в Политбюро, но это время еще не пришло[283]. В августе 1931 г. советская дипломатия была как никогда близка к участию в наметившемся «концерте великих держав», предоставлявшем СССР возможность сближения с Францией при сохранении дружбы Германии и укреплении связей с Италией[284]. Переговоры с Польшей не только обещали внести разлад в постепенное налаживание такого широкого взаимопонимания, но и представлялись излишними: как констатировали руководители НКИД, на всем протяжении переговоров с Советами Франция не поднимала вопроса о подключении к ним своего главного восточноевропейского союзника[285].
Эта внутренне уязвимая мотивация была разрушена категоричным вмешательством Сталина, следившим за происходящим из Сочи. Возможно, хуже, чем специалисты НКИД, представляя катастрофические последствия пакта с Польшей для советско-германских политических отношений, он, тем не менее, яснее других сумел понять неотвратимость прямых переговоров с Варшавой и бросить на чашу весов свой властный авторитет. «Дело это очень важное, почти решающее», – указал Сталин Кагановичу, «вопрос о мире», и его следует «довести до конца всеми допустимыми способами»[286]. Несмотря на этот нажим, определенного решения о вступлении в переговоры с Польшей на протяжении полутора месяцев Политбюро не принимало. Лишь предъявление Францией «совершенно нового условия об одновременном и предварительном подписании советско-польского пакта»[287] как предпосылке заключения советско-французского договора о ненападении окончательно переломило ситуацию. Одновременно руководителям НКИД пришлось отказаться от предпочтительности «сделать, в случае надобности, уступку Франции в области наших отношений с Румынией», нежели с Польшей[288].
В конце ноября в Москве открылись официальные переговоры о заключении гарантийного пакта с Польшей. Распространенная версия, по которой согласие на подготовку пакта ненападения с Польшей явилось реакцией на японское вторжение в Манчжурию 18 сентября 1931 г., не находит документального подтверждения. Одновременно с началом переговоров Сталин дал Ворошилову разъяснения, согласно которым «мы… не преминули козырнуть нашими нормальными отношениями с Японией перед Польшей» и, хотя польский посланник «вертелся и увертывался», «на другой день дали в печать заявление ТАСС о том, что переговоры уже начались», так что Польше «пришлось примириться с фактом» – «переговоры идут». Оправдав таким образом нейтралитет СССР в отношении дальневосточных событий, Сталин «сигнализировал» наркомвоенмору, как следует парировать недовольство переговорами с западным «вероятным противником»: «Возможно, что этой зимой Япония не попытается тронуть СССР. Но в будущем году она может сделать такую попытку»[289]. За лукавством интерпретации проступало удовлетворение: польская инициатива пакта ненападения пришлась весьма кстати. Пока японская армия закреплялась в Северном Китае, советская дипломатия трудилась над заключением политических соглашений с пятью странами по периметру западной границы СССР.
Открытие советско-польских переговоров побудило Латвию, а вслед за нею Эстонию и Финляндию возобновить обсуждение с Москвой вопроса о двусторонних пактах ненападения; обеспокоенное румынское правительство выступило с предложениями об установлении отношений и о заключении пакта ненападения с СССР, в начале декабря 1931 г. одновременно обратившись к полпредам СССР в Анкаре, Варшаве и Риге. Таким образом, десятилетние настояния на «юнктиме» между ведением политических переговоров увенчались успехом. Москве пришлось удовольствоваться тем, что инициатива исходила от соседних государств и переговоры велись в различных столицах и различными темпами. Процесс переговоров о заключении пактов о ненападении и соглашений о согласительной процедуре (которой, по требованию Москвы был заменен международный арбитраж) между СССР и западными соседними государствами занял ровно год (ноябрь 1931 – ноябрь 1932 г.).
В Хельсинки советской дипломатии удалось добиться молниеносного успеха – пакт ненападения был подписан уже 21 января 1931 г. Советско-финский договор существенно отличался от французского прототипа и в основных чертах удовлетворял пожелания Москвы, сформулированные ею четырьмя годами ранее. В него была включено краткое определение понятие агрессии (что годом позже отозвалось инициативой СССР о международной конвенции об определении агрессии и Лондонскими соглашениями 1933 г.). Кроме обязательства взаимного ненападения, стороны обязались сохранять нейтралитет в случае агрессии третьего государства, предоставили друг другу право без предупреждения расторгнуть договор в случае совершения одной их них «нападения против третьей державы», и, наконец, взяли на себя обязательство «не участвовать ни в каких договорах, соглашениях или конвенциях, явно враждебных другой стороне и противоречащих, формально или по существу, настоящему договору». Эта структура договорных обязательств в основном была воспроизведена в других двусторонних пактах 1932 г.
Практически одновременно завершилось обсуждение содержания договоров с Польшей и Румынией. В ходе семи заседаний Литвинова и Стомонякова с посланником Патеком советской стороне пришлось пойти на существенные отступления от жесткой редакции наиболее беспокоившего ее пункта о неучастии сторон во враждебных комбинациях. Варшава, связанная нацеленностью на «юнктим» и подстегиваемая быстрым ходом переговоров в Хельсинки и Риге, не чинила задержек, но в последний момент заменила подписание согласованного текста его парафированием (25 января 1932 г.). Причиной явился разрыв переговоров, которые 5—20 января велись в Риге между Б.С. Стомоняковым и румынским уполномоченным князем М. Стурдзой. Как докладывал позднее Стомоняков, «с самого начала обнаружилось… 2 основных разногласия: 1) оговорка о наличии спорного территориального вопроса (наше требование)[;] 2) определение нападения как покушения на интегритет (целостность или совокупность) и неприкосновенность территорий, находящихся под суверенитетом одной из сторон (румынское требование). Первое требование мы с румынским делегатом в Риге отложили на конец переговоров, а второй вопрос занял центральное место на всех переговорах» На ультимативное отклонение понятий «суверенитета» и «интегритета» Стурдза ответил новым определением ненападения как «покушения на неприкосновенность территории, ограниченной Днестром и остальными… границами». Присланная Москвой новая формула ненападения (как «попытки разрешить насильственным образом территориальный и иные споры, существующие между сторонами») «вызвала разрыв переговоров»[290]. В конце весны Москва согласилась на посредничество Польши (а затем и Франции) для изыскания формулы договора, которая бы позволила обойти непримиримые разногласия СССР и Румынии по бессарабской проблеме. Несколько туров посреднических усилий и советско-румынско-польские упражнения во французской грамматике не дали результатов. «Конечно, – писал Стомоняков Сталину незадолго до окончания этих попыток, – вопрос о Бессарабии никогда не будет решаться на основании пактов или их толкования». Тем не менее, «в будущем бессарабский вопрос может стать предметом международного обсуждения в самых разнообразных обстановках, независимо от нашей воли, и тогда толкование таких понятий, как «интегритет» и «споры» может получить для нас реальное большое политическое значение»[291]. С этим выводом были по существу согласны и правительство Румынии, и новый министр иностранных дел Н. Титулеску, призванный на этот пост в качестве авторитетного критика уступок СССР по бессарабской проблеме.
После того, как к советскому пакту с Финляндией добавились конвенция о согласительной процедуре (22 апреля) и договоры ненападения с Латвией (5 февраля) и Эстонией (4 мая), а женевское посредничество польских дипломатов разбилось о неуступчивость Бухареста, Пилсудский санкционировал подписание пакта с Советами (25 июля). Завершение «пактовой кампании» зависело не столько от перелома в позиции Румынии, сколько от готовности Варшавы и Парижа признать, что советская дипломатия сделала все от нее зависевшее для политического соглашения с нею; в Москве преобладало мнение, что «пакт с Румынией самостоятельной ценности для нас никогда не имел и не имеет», и представляет интерес главным образом с точки зрения «заключения пактов с Францией и Польшей»[292]. Обещая заключить пакт с Румынией на оговоренных ранее компромиссных условиях, если Бухарест в течение четырех месяцев выразит такое желание, Москва 23 ноября заключила согласительную конвенцию с Польшей, а 29 ноября договор о ненападении и аналогичная конвенция были подписаны с Францией.
Двенадцатимесячные переговоры с соседними государствами крайне фрагментарно отразились в решениях Политбюро 1931–1932 гг.; вопросы заключения договора ненападения между СССР и Финляндией вообще не упоминались в его протоколах. Отчасти это может быть объяснено необходимостью для советских руководителей немедленно реагировать на переговоры, проводимые в иностранных столицах. Однако главным образом фактическое изъятие проблем политических переговоров с соседями из коллективного ведения Политбюро было связано с перенесением их в образованные в ноябре 1931 г. комиссии Политбюро. В одну из них вошли Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Секретарь ЦК, руководивший Оргбюро и Секретариатом, и Председатель СНК СССР, в другую («по советско-польским делам»), – наряду со Сталиным и Молотовым, нарком Литвинов и член Коллегии НКИД Стомоняков[293]. Хотя основная причина создания этих комиссий может быть установлена лишь предположительно, организационные соображения вряд ли играли определяющую роль. Осенью 1931 г заседания Политбюро стали ареной жесткой полемики, на которой вскрывались разногласия НКИД (и внутри его Коллегии) с руководством Политбюро относительно поворота руля советской внешней политики в сторону нормализации отношений с Польшей. Тактические расхождения имели стратегический подтекст, акцентированный инициативой Сталина о создании особого Бюро международной информации, главной задачей которого было независимое наблюдение за ситуацией в Восточно-Центральной Европе, прежде всего в треугольнике Москва – Варшава – Берлин[294]. Сдержанная публичная реакция советского руководства на политические соглашения СССР с западными соседями скорее камуфлировала, нежели подтверждала их действительное значение для международной политики СССР.
Переговоры о Московском протоколе, начатые СССР с целью помешать формированию прибалтийского блока под эгидой Польши и расшатать ее союз с Румынией, завершились торжеством принципа «круглого стола». В пактовую кампанию 1931–1932 гг. советская дипломатия вступала нехотя и с открытыми глазами, понимая, что избежать «юнктима» невозможно. Однако ее окончание знаменовало фактическое поражение линии Варшавы на удержание единого дипломатического фронта, ее ближайший союзник сказался в изоляции. Польша дорого заплатила за укрепление своего «тыла» перед лицом германской угрозы. С другой стороны, договор СССР с Францией не только нормализовал их политические отношения, но и знаменовал движение Москвы к защите европейского статус-кво[295]. Пакты ненападения не только укрепили безопасность и авторитет СССР в восточноевропейском регионе, но и способствовали его общей стабилизации, подтверждали версальский (или «версальско-рижский») порядок, причем именно тогда, когда из Берлина и Рима все громче звучали, находя отклик в Лондоне и даже в Париже, требования Gleichberechtigung и территориальной ревизии[296]. Наиболее отчетливо значение новой системы пактов проступило в реакции «а них со стороны правительственных и более широких правящих кругов Германии. Если их недовольство Литвиновским протоколом приняло мягкую форму, то переговоры с Польшей были поняты как прямая измена Рапалло. Несмотря на увещевание советских дипломатов не придавать значения «формальностям» и заявление Сталина, что советско-польский пакт не означает гарантий границ Польши, руководители МИД Германии указывали, что договор не предусматривает автоматического прекращения обязательства СССР в случае польского нападения на нее, обеспечивает нейтралитет СССР в случае, если нападающей стороной будет объявлена Германия и подкрепляет Польшу в ее сопротивлении территориальной ревизии. Кроме того, в случае выполнения Польшей ее союзных обязательств перед Францией, она не может рассматриваться как нападающая сторона. Пактом с Польшей Советский Союз не только отказывается от прежнего взаимопонимания с Германией, но и лишается свободы маневра, отныне Германия не может полагаться на его поддержку в защите своих жизненных интересов[297]. Эти тенденции, обозначившиеся в ходе переговоров конца 1931–1932 г., в конце 1932 – начале 1933 г. переросли в новое качество советской внешней политики, проступившее прежде всего в отношениях с западными соседями (что не нашло сколько-нибудь адекватного отражения в протоколах Политбюро). Проблема сближения СССР с западными соседями в постановлениях Политбюро первой половины 1933 г. не затрагивается, если не считать половинчатых решений о заключении торгового договора с Латвией[298]. Молчанием обойдены даже переговоры М.М. Литвинова с представителями соседних государств о заключении конвенций об определении агрессии в апреле-июле 1933 г.; единственное упоминание о них содержится в постановлении Политбюро «О поездке в Испанию»[299]. Декларация пяти держав о предоставлении Германии «равноправия в системе безопасности» (декабрь 1932 г.) и итало-британская инициатива образования директории четырех держав (март 1933 г.)[300], с которыми совместился внутригерманский кризис и приход нацистов к власти, вызывали тревогу в Восточной Европе. Потускневшая перспектива столкновения СССР с блоком западных соседей, поддерживаемого Англией и Францией, вытеснилась угрозой образования Большой коалиции, внутренние противоречия которой будут устранены путем предоставления Германии возможностей экспансии на восток. Москва серьезно опасалась, что принятие Западом этой концепции повлечет за собой вторую волну враждебного международного сговора – соглашение оказавшихся в изоляции Польши и малых восточноевропейских государств с Германией о компенсации их территориальных потерь за счет Советского Союза. В этом контексте пакты 1932 г. могли оказаться лишь средством укрепления переговорной позиции Варшавы и тем самым содействовать ее договоренности с Германией в будущем. Еще более податливыми к международному нажиму могли оказаться страны Балтии и рассматривавшиеся в качестве французских вассалов Чехословакия и Румыния. Переставая быть международным звеном, опираясь на которое Москва стремилась разрешить двойную проблему антисоветского альянса как западных держав, так и западных соседей, Германия сама превратилась в ее средоточие; лишь по тактическим соображениям советская дипломатия не спешила признавать, что «от советско-германских отношений осталось пустое место»[301].
В советском руководстве крепло убеждение, что «Советский Союз должен любой ценой защитить нынешний статус-кво в Европе»[302]. Активизация советской политики в отношении западных соседних государств оказалась поэтому настоятельной необходимостью. Уже через три месяца после ратификации пакта о ненападении с Польшей (и одновременно с ужесточением режима для польской миссии в Москве) советские эмиссары принялись зондировать возможность военно-политического союза СССР и Польши, заговорили о притоках Одры как линии их общего фронта[303]. Наряду с сомнениями относительно ориентации Пилсудского, советские усилия ослабляла неурегулированность отношений со странами Малой Антанты, так же, как и Польша, традиционно считавшейся «военным кулаком против СССР». В марте 1933 г., доказывая, что целью укрепления этого объединения является создание «противовеса Гитлеру» и освобождение от влияния Франции, руководитель чехословацкой дипломатии предложил заключить пакт ненападения и установить дипломатические отношения между СССР и странами Малой Антанты. Требование Москвы об обязательной констатации в советско-румынском договоре наличия «территориального спора» сорвало инициативу Э.Бенеша[304], но в восприятии Москвой Малой Антанты наметился перелом, и Литвинов с симпатией отмечал ее роль «как элемента стабильности в Европе»[305]. Наметились сдвиги и в отношении СССР к перспективам Балтийского союза[306].
19 марта 1933 г. Италия выступила с предложением о заключении пакта четырех (Англия, Франция, Германия и Италия), целью которого было бы обеспечение длительного мирного периода. Фактически речь шла о подготовке демонтажа Версальской системы и вероятности того, что пересмотру могут быть подвержены положения Устава Лиги наций. 13 апреля Литвинов направил Сталину записку с информацией о поступивших из Анкары и Риги предложениях: 1) занимавший пост председателя комиссии по иностранным делам латвийского сейма социал-демократ Феликс Целенс поинтересовался в беседе с полпредом А.И. Свидерским, согласится ли СССР принять участие в конференции министров иностранных дел Прибалтики и Польши для создавшегося международного положения; 2) министр иностранных дел Турции Тевфик Рюштю Арас (Рушди-бей) передал по поручению Кемаля полпреду Я.З. Сурицу два предложения – присоединиться в Женеве к французскому проекту создания безопасности и созвать по инициативе СССР в Женеве конференцию стран подписавших Московский протокол. Рушди считал, что такая конференция должна быть акцией, параллельной пакту четырех и демонстрацией против него. Коллегия НКИД высказывалась за положительный ответ на запрос Целенса на двух предварительных условиях: единогласное принятие решений участниками конференции и воздержание от сепаратных групповых совещаний. По мнению Литвинова, это позволило бы избежать антигерманских демонстраций. Что касается предложений Анкары, то Литвинов считал их вызванными опасениями Турции оказаться в изоляции. Он предлагал отклонить первое предложение, но принять второе – с поправкой – созвать не конференцию подписавших Московский протокол, а конференцию непосредственных соседей СССР, подписавших пакты о ненападении (с допуском на нее Румынии). Нарком высказывался за желательность наполнения конференции новым содержанием, а именно – подписанием протокола о принятии советского определения понятия агрессия[307].
Судя по всему, определенного ответа «Инстанции» не последовало. Возможно, свою роль сыграли опасения в отношении резкой реакции Германии. Тем не менее, 19 апреля Литвинов обратился к польской дипломатии с идеей проведения конференции государств-соседей СССР для заключения совместного протокола об определении понятия агрессии, подобного тому, какое руководитель советской делегации безуспешно предлагал ранее Конференции по разоружению. Варшава выдвинула условием предварительное правовое урегулирование бессарабского вопроса, и проект восточноевропейской конференции был на время оставлен. Возвращение к нему произошло в ходе встреч глав внешнеполитических ведомств СССР, Румынии и Турции и польского представителя, приехавших в Лондон по случаю мировой экономической конференции. Беседа Литвинова, Титулеску и Рачинского 26 июня предрешила заключение многосторонней конвенции об определении агрессии на основе доклада комиссии Политиса Женевской конференции по разоружению. Вопреки желанию Литвинова, стремившегося придать конвенции максимально широкий характер и намерению Титулеску сделать ее участниками все государства, по настоянию Польши были оформлены два отдельных соглашения, имевшие «региональный» характер. Первое из них, подписанное 1 июля[308], охватывало СССР, Румынию, Польшу, Латвию и Эстонию (а также Афганистан и Иран)[309], 4 июля идентичный документ был подписан СССР с Турцией и странами Малой Антанты. 5 июля конвенция об определении агрессии была заключена между СССР и Литвой, которой пришлось примириться с тем, что, «поскольку в игру входят более важные для нас проблемы общей политики», двусторонним отношениям «может быть нанесен определенный ущерб»[310].
Значение Лондонских конвенций для взаимоотношений Советского Союза с западными соседями было многопланово. Являясь ответом восточноевропейских государств на заключенный вопреки их протестам «пакт четырех держав» и на территорально-колониальные притязания Германии, многосторонний Договор о ненападении (как нередко называли эти соглашения) устанавливал жесткие критерии, в соответствии с которыми никакие обстоятельства внутренней жизни государства или «соображения политического, военного, экономического или иного порядка» не могли служить «извинением или оправданием агрессии». Существо определения «агрессия» удовлетворяло страны Восточной Европы, короткая история которых началась с покушений на обретенный ими суверенитет (в особенности, со стороны Советской России) и которые оказались перед лицом отстаивания своих границ от ревизии послевоенного устройства, и, вместе с тем, являлось апофеозом советской концепции международного невмешательства во внутренние дела других стран (под которыми подразумевался СССР). Ссылка на «доклад Политиса» позволяла молчаливо исходить из содержавшегося в нем понятия территории государства как территории, находящейся под его «фактической администрацией», что вызывало удовлетворение Польши как обладательницы Виленской области и Румынии – владычицы Бессарабии[311], а многосторонний характер Конвенции об определении агрессии делал неуместным какое-либо упоминание о существовании неразрешенного спора между СССР и Румынией[312]. Поэтому заключением Лондонских конвенций Москва не только завуалированно отступила от чичеринской ноты 1926 г. в отношении Литвы[313], но и устранила главное препятствие к нормализации отношений с Румынией, о которое разбились переговоры о пакте ненападения. Румынское и чехословацкое правительства, не встречая возражений с советской стороны, рассматривали соглашение 4 июля как заменяющие двусторонние пакты с СССР о ненападении. Вместе с тем, заключение этой конвенции ослабило потребность Бухареста и Праги в договоренностях с СССР о взаимном признании, и беседы на этот счет велись еще почти год – от одного женевского случая к другому. Польское предложение о подписании конвенции первоначально лишь с соседними государствами возбудило обычные подозрения насчет стремления Варшавы к региональной гегемонии в ущерб СССР, однако немедленное согласие советской дипломатии и политического руководства с подобными настоянием показывало, что Москва начинает примериваться к роли объединителя восточноевропейских государствах в их противостоянии империалистским притязаниям.
Июльская манифестация общности интересов и принципов поведения стран региона дополнилась беспрецедентной акцией – путешествием в Польшу заведующего Бюро международной информации ЦК ВКП(б) К. Радека для переговоров с уполномоченным Пилсудского и осведомительных бесед с руководителями правящего блока и оппозиционных партий. Сделанное им предложение о налаживании союзных отношений между СССР и Польшей было расценено Бельведером как преждевременное, тем не менее, эмиссар Сталина возвратился в Москву с убеждением, что лишь революционный кризис, способный вызвать «животный страх за свои головы», и «решительное поражение Польши в войне с Германией» могут «толкнуть Польшу против нас»; «вне этих двух возможностей налицо реальная возможность дальнейшего нашего сближения с Польшей, хотя процесс этого сближения может носить затяжной и противоречивый характер». Используя франко-польские противоречия и решимость руководителей Польши не допускать «подчинения польских интересов французским», Москве следует «не делать ничего, что могло бы задеть польское самолюбие. Путь в Варшаву идет не через Париж, а только через Варшаву»[314]. Осенью 1933 г. советское руководство, пусть и не без сомнений, готово было признать эти утверждения в качестве ориентира внешнеполитических акций, но к весне-лету 1934 г. оно практически от них отказалось. Взяв курс на сближение с Польшей, советское внешнеполитическое руководство воздерживалось от культивирования двусторонних отношений с нею, в котором виделось ограничение собственной свободы маневра и предоставление полякам советского козыря в переговорах с Германией. Сталин и его сподвижники мрачно следили за попытками Берлина договориться с Варшавой о своеобразном моратории на разрешение конфликтов между ними и усматривали в них начало сговора о предоставлении Польше свободы рук на Украине в обмен на возвращение Германии Коридора и совместном походе против СССР. Возможно, никогда не удастся установить, в какой степени эти подозрения, разжигавшиеся разнообразными зарубежными источниками, были искренни и отражали беспокойство, в какой – служили мотивировкой давления на Варшаву, с целью заставить ее занять однозначно-враждебную позицию перед лицом Германии и тем самым поставить свое независимое существование в зависимость от доброй воли большевистской России. Своеобразной проверкой доверительного сообщения министра иностранных дел Ю. Бека полпреду СССР о намерении продолжать политическое сотрудничество с СССР явилось советское предложение о выступлении с совместной декларацией, объявляющей о заинтересованности СССР и Польши, «неприкосновенности и полной экономической и политической независимости новых политических образований, выделившихся из состава бывшей Российской империи», т. е. стран восточной Балтии. Полуторамесячные переговоры вскрыли главную цель советской акции – стремление либо соблазнить Варшаву договоренностью о «сферах влияния» и «областях интересов», либо «скомпрометировать» ее внешнюю политику и сорвать соглашение с Берлином о неприменении силы в двусторонних отношениях[315]. Подписание 26 января 1934 г. польско-немецкой декларации о ненападении и последовавший за этим отказ Варшавы от оформления договоренности с Советским Союзом о независимости Прибалтики положили конец советско-польскому сближению. Хотя на XVII съезде ВКП(б) Сталин заявил о «переломе к лучшему» в отношениях СССР и Польши, дальнейшие события показали, что первый в истории двусторонних отношений визит польского министра иностранных дел в СССР (февраль 1934 г.), придание соответствующим миссиям в Москве и Варшаве ранга посольств (март 1934 г.) и продление на десятилетний срок пакта ненападения (май 1934 г.) явились эпилогом непродолжительного rapprochement двух ведущих государств Восточной Европы.
Постепенное восстановление Польши в правах потенциального противника, нараставшее на протяжении 1934 г., сопровождалось усилением советского нажима на северном фланге расшатанного «восточного барьера». В середине января 1934 г. Политбюро впервые попыталось принять план всестороннего сближения с четырьмя балтийскими странами[316]. Натолкнувшись на несговорчивость Варшавы при продлении пакта ненападения, Литвинов сделал аналогичное предложение Латвии, Литве и Эстонии и уже двумя неделями позже вместе с посланниками этих государств торжественно подписал протоколы о продлении двусторонних пактов ненападения до 31 декабря 1945 г., указывая: «Досрочно выкупленный вексель свидетельствует как о доброй воле, так и о блестящем финансовом положении векселедателя»[317]. В результате этого маневра традиционным притязаниям Польши на руководящую роль в Балтийском регионе был нанесен сильный удар[318]. В отношении польско-литовского конфликта весной 1934 г. Москва пыталась наметить средний курс: после некоторого сопротивления, она все же согласилась обесценить советско-польским протоколом 5 мая письменные заверения Литве 1926 г.; «джентльменское соглашение» было фактически возобновлено, но поставки Литве вооружений и военного имущества неоднократно откладывались[319]. Гораздо труднее складывались отношения СССР с Румынией и Чехословакией, несмотря на то, что их полная нормализация была предрешена. Н. Титулеску не торопился, надеясь подтолкнуть Москву к свертыванию коммунистической активности в Бессарабии; НКИД тем временем безуспешно пытался помешать заключению Балканского пакта с участием Румынии. Женевская встреча Титулеску с Литвиновым весной 1934 г. не состоялась из-за болезни наркома. Чехословакия, не желая нарушать сплоченности Малой Антанты, откладывала проявление инициативы об установлении полных дипломатических отношений до коллективного решения всех участников этого объединения. Ее мартовское предложение начать торговые переговоры с СССР было расценено Москвой как желание «получить от нас компенсацию в форме торгового договора за неизбежное уже восстановление дипломатических отношений» и отвергнуто[320]. За сдержанностью советской дипломатии в отношении этих стран (как и за ее жесткими требованиями к поведению Польши и неослабным наблюдением за положением в Прибалтике) стояли не только возросшая уверенность в своих силах, но и неопределенность относительно поведения великих держав, сомнения в правильности взятого курса[321].
После выхода Германии из Лиги Наций процесс советско-французского сближения вошел в стадию подготовки совместного плана обеспечения региональной безопасности. В декабре 1933 г. Политбюро ЦК ВКП(б) постановило: «СССР не возражает против того, чтобы в рамках Лиги наций заключить региональное соглашение о взаимной защите от агрессии со стороны Германии» и «согласен на участие в нем» Чехословакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии. Участие в таком соглашении, известном позднее как «Восточное Локарно», Франции и Польши рассматривалось как «обязательное» условие дальнейших переговоров, инициатива которых предоставлялась Парижу[322]. Вскоре Сталин публично сообщил о готовности СССР если не вступить в Лигу Наций, то отныне рассматривать ее как организацию, способствующую предупреждению войны. Долгая пауза в диалоге с Парижем (январь-апрель 1934 г.) и срыв советско-польских переговоров о балтийской декларации сопровождался характерным зигзагом в сторону германо-советского взаимопонимания. Его предлагалось облечь в форму протокола, согласно которому правительства СССР и Германии обещали «неизменно учитывать в своей внешней политике обязательность сохранения независимости и неприкосновенности» Прибалтийских стран[323].
Отказ Берлина принять это двусмысленное предложение и намерение Парижа возобновить подготовку «Восточного Локарно» вернули советскую дипломатическую активность в русло антиревизионистской политики. В середине мая 1934 г. главы внешнеполитических ведомств Л. Барту и М.М. Литвинов согласовали схему, в соответствии с которой Германии, Польше, Чехословакии, Литве, Латвии и Эстонии предлагалось заключить с СССР региональное соглашение о взаимной помощи в случае агрессии одного из его участников (Восточный пакт). Франция выступала гарантом выполнения этого соглашения Советским Союзом и Германией, тогда как СССР брал на себя такое же обязательство в случае нарушения Францией или Германией Локарнского пакта[324]. По желанию Москвы, французское правительство не только приняло на себя обязательства обеспечить согласие с этим проектом гарантов договора 1925 г. – Великобритании и Италии, но и вести переговоры с предполагаемыми участниками Восточного пакта. В конце мая-начале июня, когда французская дипломатия приступила к их оповещению, нарком иностранных дел согласовывал с румынским и чехословацким министром формулировки нот о взаимном признании, которыми они вскоре обменялись как уполномоченные своих правительств. Обмен конфиденциальными нотами между СССР и Чехословакией зафиксировал обоюдный отказ от взаимных имущественных претензий, связанных с войной и революцией[325]. Для советско-румынских отношений решающее значение имел обмен заявлениями о строгом и полном соблюдении суверенитета другой стороны[326]. Фактический (а в отношении ЧСР – и формальный) отказ Москвы от тезиса о существовании спорных вопросов между СССР и двумя странами Малой Антанты подкреплялся обязательством воздерживаться от «прямого или косвенного» вмешательства во внутренние дела другой стороны, содержавшимся в конфиденциальных нотах. Таким образом, «вторая волна признания» 1934 г. принесла Москве окончательную нормализацию отношений с Чехословакией и Румынией, что проложило путь переговорам 1935–1936 гг. о военно-политическом союзе СССР с этими странами.
К лету 1934 г. советская политика в отношении западных соседних государств во многих отношениях совершила полный оборот. Зимой 1928–1929 г., приступая к переговорам о Московском протоколе, советская дипломатия и советское руководство терзались сомнениями относительно допустимости «многостороннего» (тройственного) варианта соглашения с Литвой и Польшей. В конце 1933 – середине 1934 г. оно настаивало на включении в региональное соглашение всех западных соседних государств (кроме Румынии, участие которой изменило региональный характер проекта и вовлекло бы в него противоречивые балканские и средиземноморские интересы). От обязательств негативного характера (отказа от войны как орудия национальной политики, ненападения) СССР перешел к активной политике за заключение соглашений о взаимной помощи в случае агрессии. Последовательные усилия по вытеснению английского и французского влияния по периметру западной границы Советского Союза переросли в сотрудничество с французской, а с лета-осени 1934 г. – и английской, дипломатией, использованию их позиций в Восточной Европе для обеспечения советских внешнеполитических интересов. Ставка на дестабилизацию послевоенного урегулирования в регионе, прямое и косвенное оспаривание законности суверенитета Польши и Румынии над всей территорией этих государств, откровенный скепсис в отношении возможности независимого существования Чехословакии и балтийских стран уступили место защите территориального статус-кво. Концепция «санитарного кордона» перелицовывалась и примерялась для собственных нужд[327]. Из «восточного барьера» страны, расположенные между Черным и Балтийским морями, превращались для Москвы в «западный барьер», ограждающий СССР от главного очага европейского конфликта. Наконец, от неподдельной озабоченности угрозой своим интересам со стороны западных соседних стран развивший свой военный и промышленный потенциал Советский Союз перешел к линии на установление опеки государственных интересов стран Прибалтики, Чехословакии и, ранее всего и с очевидным отрицательным результатом – Польши. Из региональной державы Советский Союз стремительно вырастал в европейскую и мировую, свысока поглядывающую на «малых сих».
Гибкость и реализм, проявленная советским руководством при трансформации своего международного поведения в 1929–1934 гг., были связаны с отсутствием «великого плана» внешней политики, разработанной системы ее принципов, что, с другой стороны, порождало нестабильность новообретенных ситуативных установок. Некоторые из них, опиравшиеся на возросшие социально-политическую прочность и экономико-военные возможности Советского Союза, подкрепленные имперской традицией, укоренились в советской политике в отношении восточноевропейских соседей. Другие, связанные с потребностями тесного международного сотрудничества для защиты статус-кво, оказались в значительной мере функцией преходящей констелляции европейской и мировой политики. В процессе впечатляющей эволюции советской политики к середине 30-х гг., подходы предшествующего периода отодвигались, но не отбрасывались. Возвращение к ним зависело от «соотношения сил» и «политической целесообразности».
* * *
Общие внешнеполитические установки советского руководства, непризнание легитимности участия СССР в европейских делах привели к тому, что усилия СССР в конце 20 – середины 30-х гг. были сосредоточены не столько на поиске политического партнерства с теми или иными государствами, сколько на обеспечении безопасности от них. Сотрудничество с внешним миром в области культуры, осложненное идеологической нетерпимостью, сводилось главным образом к дискретному «культурному обмену», зависевшему от малейших изменений политической конъюнктуры. Поэтому единственной областью, в которой Москва обнаруживала волю к позитивному взаимодействию с окружающим миром, оказались внешнеэкономические связи.
Монополия внешней торговли, казалось, предоставляла советскому руководству уникальную возможность выстраивания системы хозяйственных связей с зарубежными странами и ее координации с внешнеполитическими приоритетами СССР, позволяя отступать от сбалансированности торгового оборота с отдельными странами, компенсируя отрицательное сальдо в торговле с ними положительным балансом в торговле с другими[328]. В том же направлении действовали экономико-географические факторы: разнообразие потребностей и размеры внутреннего рынка, характерная для него удаленность производителей от потребителей (усугубляемая транспортными проблемами), сходство номенклатуры импорта СССР с запада и его экспорта на восток[329]. В рамках общей советской политики в отношении своих западных соседей эти преимущества оказались использованы в незначительной мере, а надежды их хозяйственных кругов на восстановление и развитие существовавших до распада Российской империи хозяйственных связей[330] – иллюзорны. Материалы протоколов Политбюро свидетельствуют, что круг постоянных забот советского руководства ограничивался преимущественно контактами с главными мировыми рынками. Действительно, объемы советской торговли с восточноевропейскими соседями были крайне невелики. Ее подъем в первой половине 20-х гг. оказался непродолжительным; во многом он основывался на оказании посреднических услуг, в которых СССР по мере установления торговых отношений с главными экономическими партнерами (Германия, Англия, Франция, США и др.) испытывал все меньшую нужду. Деятельность концессионных предприятий никогда не играла существенной роли в хозяйственных связях с восточноевропейскими странами и завершилась к началу 30-х гг.[331]. Другие, менее традиционные формы экономического взаимодействия (соглашения о квотировании экспортных поставок на мировой рынок; соглашения о сплаве леса по пограничным рекам; транзит экспортируемых и импортируемых СССР товаров через территорию Польши, Литвы, Латвии), хотя временами привлекали повышенное внимание Политбюро, также занимали периферийное по отношению к двусторонней торговле место[332].
Начало хозяйственной реконструкции привело к незначительной интенсификации внешнеторговых связей СССР. С 5 млрд. рублей в 1925–1926 гг. внешнеторговый оборот вырос до 7,3 млрд. рублей (свыше 70 % от объема предвоенного 1913 г.) в 1930 г., с 1931-32 гг. произошло резкое сокращение его объемов (до 2,3–2,1 млрд. рублей в 1934–1938 гг.)[333]. Точное выявление роли и места в этом процессе торговых связей СССР с западными соседними государствами сопряжено с почти неразрешимыми трудностями, тем не менее официальная советская статистика позволяет придти к выводу об их незначительности в торговом обороте СССР.
Диаграмма. Торговый оборот СССР с Польшей, Финляндией, ЧСР и Румынией в сравнении с его общим внешнеторговым оборотом в 1929–1934 гг.[334].
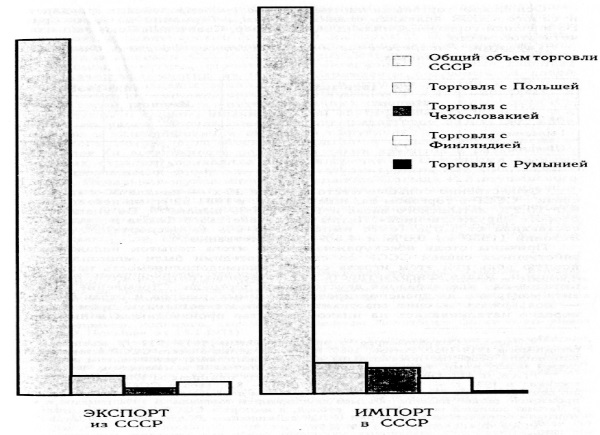
Основными торговыми партнерами восточноевропейских государств, как и самого СССР являлись главным образом Германия и Великобритания. Во внешней торговле Финляндии, например, Советский Союз занимал лишь четвертое место:
Таблица. Распределение внешнеторгового оборота Финляндии по странам (в процентах)[335]
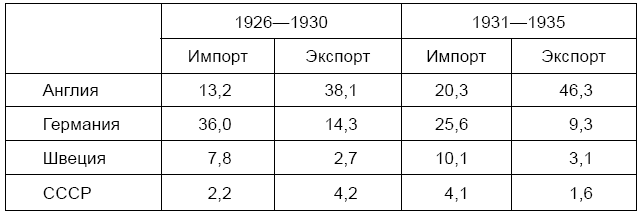
Существенно большее место в конце 20-х – начале 30-х гг. занимали связи с СССР в торговом балансе Латвии: в 1931–1932 гг. на него приходилось 9,0—10,2 % латышского ввоза и 16,7—18,0 % вывоза[336]. Во внешнеторговом обороте «дружественной» Литвы доля Советского Союза в начале 30-х гг. составляла от 1,5 % (в ее импорте) до 6 % (в экспорте)[337], в торговле Эстонии (1930 г.) 9,3 % и 4,5 % соответственно[338].
Причины столь обескураживающего итога попыток налаживания хозяйственных связей СССР со своими соседями были многоплановы. Основную роль при этом играла слабая взаимодополняемость национальных экономик, малая конгруэнтность хозяйственных потребностей, нехватка капиталов для кредитования двусторонней торговли. Стремление СССР снизить издержки на транспортировку ввозимых товаров и стран-лимитрофов – поддержать за счет советских заказов отечественную промышленность нередко наталкивались на низкое качество производимых в них промышленных изделий, изношенность производственных фондов, дефицит квалифицированной рабочей силы[339]. Поставляя на мировой рынок главным образом сырье и полуфабрикаты восточноевропейские страны сталкивались с аналогичной направленностью советского экспорта[340]. Попытки изменить характер вывоза в соседние государства осложнялись малой емкостью рынков для предлагавшихся СССР промышленных товаров (сельскохозяйственные машины, текстиль, строительные материалы, резиновые изделия) и низким качеством многих из них[341]. Стремление сохранить за собой часть рынка сельскохозяйственных машин в странах Балтии и Польше заставляло советские внешнеторговые организации и НКВТ прибегать к реализации своей продукции «путем встречных сделок на сельскохозяйственные продукты и сырье», иными словами «путем товарообмена»[342], что, разумеется, не удовлетворяло советское внешнеторговое ведомство, заинтересованное в маневрировании валютной выручкой[343].
Кроме того, потребность Москвы в кратко– и среднесрочном кредитовании закупок (и возможность получения таких кредитов в развитых индустриальных странах) приходила в противоречие со скромными возможностями национальных финансов и недостаткам средств для собственных инвестиций. Печальная шутка министра финансов Польши И. Матушевского о своей стране как о «капиталистическом государстве, но без капиталов» была, хотя и в различной степени, применима ко всем соседним с СССР государствам. Опыт использования специально создававшихся смешанных банков (например, Транзитный банк в Риге) положительного эффекта не дал, аккумулируемые таким образом средства нередко использовались не по назначению. Для кредитования закупок в странах Балтии советские хозяйственные органы были вынуждены привлекать средства государственного Промышленного банка (созданного в середине 20-х гг. для иных целей). Наиболее крупной (и отчасти успешной) попыткой преодолеть дефицит кредитных ресурсов для финансирования двусторонней торговли явилась восьмилетняя деятельность созданного в 1926 г. советско-польского акционерного товарищества «Совпольторг». Польская сторона была представлена в нем обществом «Польросс», большая часть акций которого принадлежала государственному Польскому банку. Широкое соединение двусторонних торговых сделок с посредническими операциями, организацией на советской территории предприятий для дополнительной переработки («облагораживания») экспортируемых в Европу товаров позволяли «Польроссу» и «Совпольторгу» кредитовать советский импорт из Польши. Вместе с тем эти операции вызывали растущее недовольство советских ведомств, с 1930 г. неоднократно планировавших ликвидацию этого общества. Окончательное решение об этом было принято в начале 1934 г.[344]
Вторая группа трудностей состояла в своеобразии общей экономической политики СССР, особенно после вступления в фазу форсированной индустриализации. Стремительный рост городского населения при фактическом развале сельского хозяйства подталкивал к наращиванию закупок продовольствия в соседних государствах. Для всех из них (кроме ЧСР) именно сельскохозяйственные товары являлись основной группой экспорта. Продовольственный кризис в СССР совпал по времени с мировым аграрным кризисом, в 1929–1933 гг. понизившим индекс цен на 20 главных сельскохозяйственных товаров более, чем в два раза (со 100 до 48,8 пунктов). Цена главного экспортного товара Латвии – масла – в 1929–1930 гг. упала на 70 %, румынской пшеницы – на 60 %[345]. Использование этой конъюнктуры для смягчения голода на продовольственные товары допускалось советским руководством лишь в незначительной мере, преимущественно в тех случаях, когда в силу географических и транспортных условий снабжение городских центров (в первую очередь, Ленинграда) было заведомо выгоднее организовать с привлечением иностранных поставщиков[346]. Жертвой режима строгой экономии и централизованного использования валютных фондов (породивший, среди прочего, постановления Политбюро об ассигновании 372 ам. долларов[347]) стал и рынок непродовольственных потребительских товаров. Их закупки за рубежом в 1931–1933 гг. были свернуты, что прямо задевало торговый обмен с соседними странами.
Наконец, в начале 30-х гг. СССР стал испытывать трудности с поставками за границу традиционных экспортных товаров, ставших остродефицитными и на внутреннем рынке. Уже в декабре 1929 г. Политбюро «предложило НКТоргу СССР сконцентрировать всю экспортную работу по Западной Европе на основных рынках сбыта, прибегая к реализации на второстепенных рынках в случае крайней необходимости»[348]. Советским экспортерам пришлось, в частности, отказаться от планов завоевания рынков нефти и нефтепродуктов в соседних европейских странах. Этими обстоятельствами в значительной степи были продиктованы денонсация советско-латвийского торгового договора 1927 г., невыполнение условий торгового договора с Эстонией 1929 г., отклонение инициатив литовского правительства, направленных на заключение торгового договора между Москвой и Каунасом.
Рука об руку с общеэкономическими факторами и внешнеторговой стратегией советского руководства шли низкие эффективность структур и компетентность кадров, на которые возлагалось осуществление государственной монополии на торговые сношения с внешним миром. Создание в середине 20-х гг. внешнеторговых объединений (акционерных обществ) было призвано придать этой работе большую гибкость и инициативу[349], сохранив ее под началом наркомата торговли (с 1930 г. – внешней торговли). На практике это привело к несогласованности работы внешнеторговых объединений, координировать ее НКВТ был не в состоянии. В результате принимаемые решения оказывались «не всегда доступны разуму обыкновенных людей, не принадлежащих к племени Внешторга»[350]. Так, долгое время Советский Союз в значительных объемах приобретал в Чехословакии растительное сырье и животноводческие продукты, проявлял интерес к закупкам жеребцов и семян клевера, при этом «исключительно плохо зная чехословацкую технику, которая стоит на очень высоком уровне». «К нашему стыду, мы исключительно мало знали о промышленности Чехословакии и очень многие и на сегодня продолжают утверждать, что эта страна не представляет для нас интереса, – докладывал после обследования чехословацких заводов председатель объединения «Станкоимпорт». – Промышленность Чехословакии по объему значительно меньше германской и английской, но по своему техническому уровню ни в коей мере не уступает последним»[351].
Частые и порой вопиющие просчеты в работе, влекущие за собой финансовые потери, не могли не вызывать в контрольных партийных и государственных органах постоянных подозрений в «личной заинтересованности» некоторых представителей НКВТ и экспортно-импортных объединений.
Скромные размеры хозяйственных связей, жесткие пределы внешнеторговых операций, заданные «генеральной линией», низкая эффективность механизма осуществления монополии внешней торговли ограничивали возможности использования экономических связей для достижения политических целей СССР в Восточной Европе. Оставляла желать лучшего и координация деятельности органов НКИД и НКВТ (как центральных аппаратов, так и их представительств за рубежом). Все это подрывало политически мотивированные инициативы по достижению крупных изменений в торговых отношениях с соседями и, тем более, непосредственное использование этих отношений в качестве инструмента советской дипломатии. Редкие попытки Политбюро примирить соображения политической тактики и потребности хозяйственных ведомств в рамках позитивной программы экономических сношений с отдельными странами оказывались иллюзорны[352].
Для характеристики соотношения дипломатии и торговли (точнее, отсутствия координации между ними) особенно показательны взаимоотношения СССР с Польшей. На протяжении 1929–1934 гг. в торговле с нею Советский Союз имел пассивное сальдо, причем весьма значительное – как в абсолютных цифрах, так и по его удельному весу в двустороннем обороте (по разным данным, он составлял от 40 % до 60 %)[353]. Из года в год соглашаясь с перекосом двустороннего торгового баланса, советское руководство не получало от этого никаких осязаемых выгод в области политических взаимоотношений с главной соперницей СССР в Восточной Европе (не считая неустойчивого влияния советских заказов на настроения части предпринимательских кругов Польши). Нами не обнаружено и указаний на то, что Политбюро ЦК ВКП(б) или советские органы, причастные к определению задач внешнеэкономической деятельности, преследовали при этом конкретные политические цели. Когда хозяйственная конъюнктура ставила в порядок дня возможность получения побочных политических дивидендов, московские руководящие инстанции терялись перед лицом всевозможных дилемм – внутриэкономического, политико-дипломатического и иного свойства. Так, анализ рыночной конъюнктуры в 1929 г. побудил торгпреда Н.В. Попова («одного из авторитетнейших наших хозяйственников») предложить наркомторгу разместить в Польше заказ текстильным предприятиям на один миллион долларов[354]. Даже на Кузнецком мосту эта идея вызвала сомнения. «С одной стороны, наш заказ лодзинской промышленности при ее тяжелом положении увеличивал бы заинтересованность этой промышленности в развитии мирных и добрососедских отношений с СССР, – размышлял Б.С. Стомоняков. – С другой стороны, однако, мы вряд ли заинтересованы в смягчении экономического кризиса в Польше в настоящее время»[355]. Потребовалось состояние крайней озабоченности возможностью срастания внутреннего кризиса в СССР с польским вмешательством, чтобы, следуя общей тенденции решений Политбюро по Польше в первой половине 1930 г., НКИД настоял, а член Политбюро и нарком торговли Микоян согласился «попытаться использовать» заказы на 3–5 млн. рублей «для улучшения отношений с Польшей». Речь шла об увязывании уже отпущенных НКТ сумм с потребностью в ходе варшавских переговоров о заказах, вызвать у их получателей «убеждение, что скорое заключение торгового договора обеспечило польской металлургической и металлообрабатывающей промышленности длительные крупные заказы»[356]. Вопреки договоренности двух ведомств, уполномоченный наркомторга Биткер вместо Варшавы поехал в Берлин – и «там выдал заказы». «Благодаря такой тактике, – резюмировал итоги всей акции член Коллегии НКИД, – мы не могли использовать этих крупных заказов не только в интересах нашей политики в отношении Польши, но даже и в интересах нашего экспорта в Польшу»[357].
Между тем, если отвлечься от конкретных потребностей «планового хозяйства» (и без существенного ущерба для них), существовала возможность целенаправленного использования валютных средств (например, десятков миллионов рублей, ежегодно составлявших отрицательное сальдо в торговле с Польшей и Чехословакией) для наращивания советских заказов и закупок в отдельных соседних странах ради достижения политического результата, будь то конкретные уступки или создание экономической зависимости от СССР и утверждение его влияния во внутренней жизни страны. В наибольшей степени такой эффект был достижим, разумеется, не в Польше, а в странах востока Балтии, где масштабы национальной экономики и степень воздействия хозяйственных интересов на правительственные решения создавали благоприятные условия для советского проникновения. Подобного рода идеи беспокоили воображение советских полпредов в Финляндии и других балтийских государствах. Так, в середине 1930 г., в связи с падением советско-эстонского торгового оборота Ф.Ф. Раскольников пытался доказать НКИД необходимость содействия промышленному развитию Эстонии, «не только потому, что индустриализация увеличивает численность рабочего класса, но также и потому, что индустриализация неизбежно вынуждающая Эстонию ориентироваться на советский рынок, ставит Эстонию в положение экономической зависимости от СССР, вовлекает ее в орбиту советской политики»[358]. Двумя годами позже И.М. Майский убеждал Москву в наступлении подходящего момента для того, чтобы «оторвать» от Польши и «поставить под наше влияние» государства Восточной Балтики. Для этого, полагал полпред, достаточно «рискнуть весьма небольшими деньгами» – закупать в этих странах сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 15–20 млн. рублей ежегодно. Руководство НКИД и его 1 Западный отдел скептически реагировали на такие предложения, ссылаясь на неудачные эксперименты в этой области, середины 20-х гг. «В одной Латвии мы тратили по 15 млн. рублей, – комментировали в НКИД доклад Майского. – И не купили Латвию»[359]. В специальной записке 1 Западного отдела, подготовленной для наркома, в связи с переговорами о заключении пактов ненападения с Польшей и государствами Балтии, отмечалось: «Не следует еще раз повторять попытку путем крупных экономических жертв парализовать влияние Польши, как это мы сделали в торговом договоре с Латвией. Эти жертвы не оправдывают себя»[360].
Специальный независимый анализ причин, в силу которых политические замыслы уступок Риге в договоре 1927 г. оказались нереализованными, не проведен[361], можно лишь предположить, что не последнее место среди них, наряду с чрезмерностью поставленной цели (см. выше), занимало отсутствие тесной координации политических и торговых переговоров с Латвией после заключения этого договора, а постоянные ссылки НКИД на латвийский пример были призваны скрыть пессимизм относительно сотрудничества с НКВТ и другими хозяйственными органами для достижения внешнеполитических целей. К этому предположению приводят как многочисленные примеры несогласованности действий ведомств иностранных дел и внешней торговли[362], так и конкретные примеры, когда акции, продиктованные экономическим расчетом и подкрепленные политическим чутьем, срывались из-за протеста посторонних хозяйственных инстанций. Москве было хорошо известно, что незначительные по своим размерам закупки в Финляндии молочных продуктов для Ленинграда немедленно сказывались на политических настроениях в Выборгской губернии и прилегающих территориях. Такое же, благоприятное для СССР, влияние оказывали закупки рыбы в восточных районах Эстонии, среди населения которых (сетов и русских) преобладали активные антикоммунистические настроения, причем затрачиваемые суммы были мизерны даже по масштабам советско-эстонского товарооборота. Эти внешнеторговые сделки вызывали, однако, ярое сопротивление советской кооперации, которая, не будучи в состоянии обеспечить снабжение городов, стремилась не допустить проникновения на внутренний рынок сравнительно дешевых зарубежных товаров[363]. В более широком аспекте, сохранение монополии внешней торговли после яростных дискуссий 1924–1925 гг. было достигнуто за счет расширения круга действующих на внешних рынках организаций (государственных и полугосударственных) и за счет перманентных конфликтов хозяйственных ведомств с главным уполномоченным органом – НКВТ.
Во всяком случае, пытаясь выдать нужду (будь то «объективные» трудности в «покупке» Латвии или внутренняя неспособность к эффективному торгу) за добродетель, член Коллегии НКИД Б.С. Стомоняков, обладавший немалым опытом работы во внешнеторговом ведомстве, в ответ на инициативы полпредов об использовании экономических стимулов для целей дипломатии неизменно декларировал позицию НКИД: малые соседние государства вынуждены избегать обострения отношений с СССР и даже стремиться жить в дружбе с ним, независимо от того, платит или нет Москва за эту дружбу[364]. Избирательность торговой политики СССР в отношении трех стран Балтии приобретала поэтому своеобразную форму. В переговорах со всеми партнерами Москва стремилась избежать создания прецедентов, которые могли осложнить ее соглашения с третьими странами. Используя крайнюю политическую и экономическую заинтересованность Таллинна, Риги и Каунаса в сотрудничестве с СССР, она поэтому с 1933 г. перевела договоренности о контингентах (объеме и номенклатуре торгоборота) и тарифах в режим устных («джентльменских») соглашений. Одной из очевидных причин «утаивания» их условий являлось сходство структуры экспорта Эстонии, Латвии, Литвы (и, отчасти, Финляндии), однако, учитывая масштабы двусторонней торговли СССР с этими странами и международную обстановку 1933–1934 гг., трудно не признать полученную таким образом экономическую выгоду эфемерной, а упущенные возможные политические дивиденды – значительными.
Комплекс решений Политбюро указывает, что его подход к проблеме взаимоотношения политических и экономических задач в отношениях с западными соседними государствами был если не тождествен, то близок к позиции, сформулированной Стомоняковым и воплощенной в практической деятельности НКВТ. Так, в частности, экономический раздел постановления «О Прибалтике» (17 января 1934 г.) был сформирован путем механического наделения каждой из четырех сестер одинаковой и малоценной серьгой – обещанием затратить на заказы в первом квартале по 200 тыс. рублей. В июне 1934 г., после трехмесячной проволочки согласившись вступить в торговые переговоры с Чехословакией, Политбюро указало отложить «фактическое начало переговоров до осени», хотя уже не имело оснований рассматривать их как попытку Праги получить «компенсацию» за восстановление дипломатических отношений[365]. Между тем, в обоих рассмотренных примерах речь шла о государствах, с которыми уже в декабре 1933 г. советское руководство «согласилось» (а летом 1934 – весной 1935 г. – активно стремилось) «заключить региональное соглашение о совместной защите от агрессии со стороны Германии»[366].
Общий подход советского руководства к возможности сочетания дипломатических и экономических инструментов для завоевания политического влияния в СССР в сопредельных аграрно-промышленных странах коренился в том же своеобразном реализме, который на протяжении большей части межвоенного двадцатилетия диктовал ему страх перед интервенцией и вызывал обвинение в «национальной ограниченности» со стороны левой оппозиции и традиционалистов-государственников[367]. В полемике с Чичериным относительно «нашей экономической политики в государствах Востока» в начале 20-х гг. Сталин отчетливо сформулировал возражения против идеи «противодействовать поглощению восточных стран», Латвии и Польши, «антантовским капиталом». «Для меня несомненно, – отвечал Сталин, – что мы ни по торговой, ни по промышленной линии тягаться с врагами в упомянутых выше [восточных. – Авт.] странах не в силах, пока – 1) курс русского рубля падает, 2) экспортного фонда нет у нас или почти нет, 3) наш торговый баланс отчаянно пассивен, 4) нет у нас достаточного количества золота, могущего компенсировать наши хозяйственные недочеты по трем предыдущим пунктам»[368]. Нетрудно заметить, что ни один из аргументов Сталина против широкого использования экономических инструментов в международной политике СССР, не утратил актуальности и десятилетия спустя[369]. Поэтому итоги экономического проникновения в Северо-Восточной Европе, на которое было нацелено внимание советских политиков, дипломатов и военных во многом оказались подобны результатам российских усилий закрепиться на Ближнем Востоке в конце XIX – начале XX в. «Если на периферии Империи в Центральной и Восточной Азии Россия была в состоянии с долей успеха подражать способам и средствам, применяемым современным империализмом», то в области, где ей приходилось сталкиваться с более развитой международной финансовой и коммерческой инфраструктурой, российский империализм оставался весьма «несовременным», его экономическая отсталость приходила в прямое противоречие с внешнеполитическими приоритетами[370]. Более не питая чрезмерных иллюзий в отношении силы идей и скептически относясь к своим хозяйственным возможностям, советская политика в отношении соседних восточноевропейских стран конца 20-х – середины 30-х гг. была вынуждена излагаться на традиционные силовые и политико-дипломатические средства.
* * *
В минуту «откровенности» влиятельный чехословацкий дипломат Ф. Папоушек передал полпреду СССР слова президента Чехословакии Т.Г. Масарика: «Русские не понимают, каких псов они могли бы иметь против Европы в лице среднеевропейских малых государств»[371]. Разумеется, было бы неоправданной наивностью буквально воспринимать эту оценку применительно к политике СССР в отношении своих западных соседей, игнорируя сложность внутренних и международных процессов в Восточно-Центральной Европе. В ретроспективе представляется, однако, несомненным, что Москва лишь в малой степени сумела реализовать как потенциал политического и хозяйственного сотрудничества со странами, lingva franco которых еще оставался русский язык, так и возможности сотрудничества с ними в европейской политике в интересах региональной стабильности. Заключение договоров о взаимной неагрессии переросло в нащупывание общих с соседями международно-политических интересов. При этом, однако, главные усилия Москвы оказались сосредоточены на вхождении в круг великих держав, чему было отдано предпочтение перед непосредственным сотрудничеством с соседними странами. Едва оправившись от синдрома окружения по периметру западной границы, советское руководство перешло к быстрому усвоению великодержавного тона в отношении своих соседей. Наиболее отчетливо эта перемена проявилась в советско-польских отношениях, являвшихся в значительной степени осью отношений СССР с его западными соседями в конце 20-х – середине 30-х гг.
Решения и комментарии
20 декабря 1928 г.
4. – О пакте Келлога (т. Литвинов).
Принять предложение НКИД об обращении к Польше и Литве с предложением подписать протокол о быстрейшей ратификации пакта Келлога и о признании его вступившем в силу между ними и СССР, независимо от ратификации других участников пакта. В ноте указать, что это предложение отнюдь не снимает вопроса о заключении специального пакта о ненападении, но является лишь первым шагом к нему.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 55 (особый № 54) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.12.1928. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 14.
Рассмотрение в Политбюро проблематики пакта Бриана-Келлога и реализация советской дипломатией соответствующих решений прошли два этапа. На первом из них (июль-август 1928 г.) было принято решение о присоединении к Договору об отказе от войны в качестве орудия национальной политики пакт (Бриана-Келлога), подписанном в Париже 27 августа 1928 г. пятнадцатью государствами, включая западные великие державы и Польшу. Преодолев колебания, двумя днями позже Москва официально присоединилась к Договору об отказе от войны; СССР первым из государств-участников ратифицировал его. Декабрьское решение Политбюро продолжило намеченную в августе-сентябре 1928 г. линию по использованию участия СССР в пакте Келлога в целях внешнеполитической пропаганды, однако существо новой инициативы далеко выходило за эти рамки и привело к непредвиденным политическим последствиям.
Выдвигая ее, руководство НКИД исходило из идеи «сразу предложить Польше и Литве подписать один протокол, который бы связывал все три государства в их взаимоотношениях», что и было одобрено Политбюро 20 декабря 1928 г. Инициатива заключения трехстороннего политического соглашения противоречила одной из основных установок советской дипломатии «чичеринской» эпохи. Несмотря на то, что постепенная интеграция СССР в международную политическую жизнь требовала расширять диапазон применяемых средств, Москва упорно держалась взгляда, что единственное в мире социалистическое государство неизбежно проиграет, согласившись на участие в какой-либо многосторонней комбинации, даже если другими ее участниками будут страны, состоящие в наилучших отношениях с СССР или находящиеся на периферии большой политики. Еще в марте 1928 г. Политбюро постановило отвергнуть предложение (исходившее, вероятно, от дружественной Турции) о заключении четверного пакта о ненападении между СССР, Турцией, Италией и Грецией, поручив советским представителям «вести переговоры в том духе, что СССР готов заключить как одновременно, так и в различное время пакты о ненападении с каждым государством в отдельности»[372].
Вероятно поэтому, вслед за одобрением предложений исполняющего обязанности наркома по иностранным делам М.М. Литвинова руководство Политбюро решило взять назад свое согласие с идеей заключения тройственного протокола. «Вследствие некоторых возражений со стороны инстанции», руководители Наркоминдела «остановились на предложении Польше и Литве двусторонних протоколов»[373]. 29 декабря Литвинов вручил польскому посланнику в СССР ноту с приложенным к ней проектом советско-польского протокола и передал копию этих документов литовскому посланнику Ю. Балтрушайтису, официально предложив Каунасу подписать «этот же протокол»[374]. Однако уже через несколько дней Литвинов фактически добился возвращения к прежней директиве Политбюро. На вопрос С. Патека о том, идет ли речь о тройственном протоколе, двусторонних протоколах или же о присоединении Литвы к советско-польскому протоколу, Литвинов дал следующий ответ: «Мы не хотели навязывать ни Литве, ни Польше какой-либо определенной формы участия всех трех государств в протоколе, хотя и наиболее желательной нам. Могут быть и двусторонние протоколы между нами и Польшей, между нами и Литвой, между Литвой и Польшей. Мы мыслим, однако, одновременное подписание всеми тремя государствами единого протокола». Как на решающий аргумент и.о. наркома сослался на намерение Литвы «подписать втроем протокол о скорейшем введении в действие пакта Келлога»[375]. «В действительности Вольдемарас такого согласия не давал, а изъявил лишь готовность присоединиться к советско-польскому протоколу», расхождение между этими версиями якобы было вызвано «недоразумениями при передаче из Ковно»[376]. Эта «ошибка» в точности соответствовала тому, чего ожидали от Литвы в руководстве НКИД – выступить с предложением «общего протокола»[377], и хотя она была вскоре разъяснена, советская позиция относительно целесообразности подписания общего протокола в дальнейшем не претерпела изменений.
Указание на то, что в подготавливаемой ноте следует указать, что предлагаемый протокол рассматривается СССР в качестве первого шага к пакту о ненападении, вероятно, отражает несогласие Политбюро с трактовкой этого вопроса руководством НКИД. Полпред СССР в Польше видел основное достоинство нового предложения Польше в том, что «подписание такого протокола делало бы совершенно ненужным какой-нибудь куцый пакт о неагрессии»[378]. В пользу этого предположения свидетельствует и тот факт, что и в 1927, и в 1931 г. при обсуждении перспектив заключения пакта ненападения с Польшей, Политбюро подталкивало НКИД к максимальным усилиям в этом направлении. Наряду с вероятными принципиальными возражениями руководства НКИД против актуализации вопроса о советско-польском пакте ненападения, оно стремилось избежать указания на него по соображениям переговорной тактики. Будучи хорошо осведомлен о польской позиции, Литвинов не исключал того, что идея дополнительного протокола может развиться в подписание его не только СССР, Польшей, Литвой, но и всеми западными соседями СССР, и опасался, что в будущем это ослабит советскую дипломатию в ее отказе от подобной схемы заключения пакта о ненападении. «Наше одновременное обращение к Польше и ко всей Прибалтике было бы неудобным для нас потому, что оно вызвало бы упрек со стороны Польши в отклонении нами в свое время польского предложения о подписании общего пакта о ненападении», – разъяснял он[379].
Вероятно, в силу этих причин, в советской ноте от 29 декабря, указание Политбюро было выражено в смягченной форме. Отмечалось, что «своим настоящим предложением Союзное правительство не снимает ранее сделанного Польскому правительству предложения о пакте ненападении, заключение которого в дальнейшем послужило бы еще большему укреплению добрососедских отношений между СССР и Польской республикой»[380].
Идея подписания с Польшей и Литвой соглашения об ускоренном вступлении в силу между ними пакта Бриана-Келлога явилась первой крупной инициативой Литвинова как фактического руководителя советского дипломатического ведомства. 9 августа 1928 г. он был назначен временно исполняющим обязанности наркома «в связи с предоставлением Г.В. Чичерину отпуска для лечения»[381]. Все дипломатические акции, связанные с подготовкой и ведением переговоров о дополнительном протоколе, осуществлялись самим Литвиновым или по его указаниям. В частности, полпреду в Польше было запрещено вести на эту тему беседы в Варшаве: «переговоры начаты и будут вестись только здесь»[382].
Мотивы внесения Литвиновым (и принятия Политбюро) предложения о дополнительном протоколе документально не установлены. Вероятно, они носили троякий характер. Во-первых, присоединением к пакту Келлога и выступлением за скорейшее введение его в силу СССР впервые демонстрировал свою готовность принять общие правила международной игры. При этом обстоятельства заключения и содержание пакта Келлога позволяли СССР ни изменять своей враждебности к Версальской системе (и, в частности, Лиге Наций), ни поступаться интересами внешнеполитической пропаганды, поскольку пацифистский пафос пакта Келлога в основном совпадал с официальной советской позицией. В своем отношении к Парижскому договору правительство СССР руководствуется стремлением представить еще одно доказательство своих мирных намерений, объяснял исполняющий обязанности наркома по иностранным делам итальянскому представителю, но также рассчитывает, что этот договор может ослабить значение Лиги Наций – «центра интриг и махинаций против Советского Союза»[383]. Дальнейшее обыгрывание пакта Келлога позволяло Советскому Союзу выступать «как одной из великих держав»[384] и предоставляло ему дополнительные пропагандистские возможности (в особенности, для подготовки восстановления дипломатических отношений с США).
Во-вторых, дополнительный протокол позволял стабилизировать международное положение Литвы. Несмотря на то, что в декабре 1927 г., Каунас официально признал прекращенным состояние войны между Литвой и Польшей, состояние отношений между ними на протяжении 1928 г. продолжало серьезно беспокоить Москву. В январе, феврале и апреле 1928 г. НКИД предпринял энергичные демарши перед правительством Литвы, преподавая ему «советы умеренности» и «гибкости», призывая «идти по такому пути, который привел бы к установлению деловых отношений между Литвой и Польшей хотя бы в некоторых областях»[385]. Мотивы СССР отличались от побуждений Франции, Англии, Италии и Германии, подталкивавших Литву в том же направлении. Советские опасения вызывали как «возможность внезапных авантюристских импульсов Пилсудского»[386], так и безответственные расчеты главы литовского правительства Вольдемараса. В ходе визита в Каунас 10–11 июля 1928 г. Стомоняков убеждал литовского премьера, что ему не следует строить свою тактику и стратегию на близости советско-польской войны, напротив, ей будет предшествовать расправа Польши с Литвой. Поэтому было бы безумием полагать, что Литве можно не спешить с урегулированием отношений с Варшавой[387]. Осенью 1928 г. советская сторона проявила максимум настойчивости, чтобы доказать Вольдемарасу наивность его предположений о якобы гарантированном пактом Келлога «двухлетнем спокойствии Европы». В этой обстановке на литовско-польской конференции в Кенигсберге (ноябрь 1928 г.) Вольдемарас выступил с предложением, если пакт Келлога не будет ратифицирован всеми подписавшими его государствами, заключить аналогичное соглашение «в рамках территориально более ограниченных, например, пакт, имеющий участниками лишь ближайшие государства, как Германию, СССР, Польшу, Литву, Латвию»[388]. Тем самым, как признавали советские дипломаты[389], было положено начало идее подписания дополнительного протокола.
Третьим побудительным мотивом советской инициативы являлось стремление преодолеть тупик, возникший в отношениях с Польшей после срыва переговоров о пакте ненападения. Решение о его безотлагательном заключении было принято советским руководством в августе 1926 г.[390] и возобновлено в апреле 1927 г. Главным камнем преткновения служило последовательное требование Польши о том, чтобы одновременно с польско-советским пактом обязательства ненападения охватили и сферу отношений СССР с другими западными соседями, т. е. тремя балтийскими государствами и Румынией. Однако к началу 1929 г. Литва оставалась, как подчеркивалось в последующей ноте СССР, «единственной прибалтийской страной, присоединившейся уже к Парижскому договору»[391]. В числе других препятствий на пути заключения пакта о ненападении были настояния Польши упомянуть в нем обязательства, вытекающие из ее принадлежности к Лиге Наций, и предусмотреть процедуру арбитража при рассмотрении спорных вопросов. Подписание Польшей пакта Келлога без условий об арбитраже и без согласования его с Ковенантом предоставляло Советам возможность указать, что тем самым «Польша доказала совершенную несостоятельность своей позиции при переговорах» о советско-польском пакте ненападения в предшествующие годы[392]. Тем самым, адресованное Польше предложение о подписании дополнительного протокола давало возможности размыть ее принципиальную позицию относительно условий принятия на себя обязательств ненападения на СССР и одновременно сделать шаг к стабилизации советско-польских отношений. Изобретение новой дипломатической формулы такой нормализации было «очень удачным» еще и потому, что к ней «со стороны Германии тоже не может быть предъявлено нам никаких претензий»[393], но, поскольку такие претензии все же предъявлялись, советская сторона указывала, «что основной целью нашего предложения является в первую очередь связать Польшу в отношении Литвы»[394]. Косвенным подтверждением того, что Политбюро воспринимало предложение о дополнительном протоколе главным образом с точки зрения своих отношений с Варшавой является, рабочее наименование, использованное для этого соглашения в позднейшем решении Политбюро – «пакт с Польшей»[395].
В дипломатических кругах Хельсинки и Варшавы было распространено убеждение, что инициатива Литвинова вызывалась также его личными амбициями – желанием продемонстрировать руководству СССР, что он способен достичь лучших результатов в проведении внешней политики, нежели отсутствующий нарком Чичерин. «Согласно информации, полученной польским посланником в Москве», идея заключения дополнительного протокола с Польшей и Литвой «была представлена Литвиновым Чичерину» в середине ноября 1928 г. и отклонена им. Недавно Литвинов вновь поднял этот вопрос и оказал такое сильное давление на Чичерина, что тот согласился»[396]. Внутриполитические мотивы поддержки этой дипломатической акции со стороны Кремля усматривались в стремлении обеспечить спокойствие на западных рубежах на случай крестьянских волнений весной 1929 г. и тем самым, в частности, уменьшить свою зависимость от армейских кругов, представляющих потенциальную угрозу для правителей СССР[397].
10 января 1929 г.
13. – О Польше (т. Литвинов)
Для составления проекта ответа на ноту Польши создать комиссию в составе т.т. Рыкова, Сталина, Бухарина, Литвинова.
Выписки посланы: т.т. Рыкову, Сталину, Бухарину, Литвинову.
Протокол № 59 (особый № 57) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.1.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Oп.162. Д. 7. Л. 25.
10 января в НКИД была передана нота временного поверенного в делах Польши в СССР Зелезинского, являвшаяся ответом польского правительства на предложение СССР о досрочном введении в действие пакта Бриана-Келлога. Польское правительство заявляло о готовности «в принципе к подписанию дополнительного протокола и подтверждало свою позицию о необходимости совместного обсуждения всеми заинтересованными государствами вопроса безопасности на востоке Европе» и сообщало о намерении выяснить их мнение относительно советской инициативы[398]. Правительство Вольдемараса, вопреки расчетам Москвы, вообще не откликалось на советское предложение (23 января оно заявило о категорическом отказе подписывать протокол к пакту Бриана-Келлога вместе с Польшей). Затягивание переговоров способствовало осуществлению планов Варшавы на объединение вокруг себя западных соседей СССР. По той же причине в Москве стремились подстегнуть ход событий, что объясняет срочность постановки доклада Литвинова на Политбюро. Решение о создании комиссии с участием руководителей ЦК, Совнаркома объяснялось как отсутствием у НКИД проекта ответной ноты, так и необходимостью внести изменения в ранее намеченный советским руководством план дипломатических и пропагандистских усилий.
По своему составу комиссия по подготовке ответа Польше совпадала с комиссией Политбюро, на которую 6 декабря была возложена ответственность «за организацию и характер выступлений по докладу НКИД», утверждение тезисов доклада Литвинова и «всей диспозиции постановки этого вопроса» на Сессии ЦИК СССР 10 декабря 1928 г.[399]. 11 января Литвинов, Рыков и Бухарин собрались у Сталина (либо, поочередно посетили его кабинет)[400]. В тот же день Сталина (возможно, вместе с наркомом торговли) посетил Б.С. Стомоняков, который не вошел в состав новой комиссии, хотя его обязанности как члена Коллегии НКИД состояли в курировании отношений СССР с Польшей, странами Прибалтики и Скандинавии. Полугодом ранее именно ему Политбюро поручало окончательную редакцию ноты Польше[401]. Неучастие Стомонякова в комиссии было, по всей вероятности, обусловлено характером его письма Рыкову и Сталину, в котором он заявлял о нежелании продолжать работу в НКИД. Вопрос об уходе Стомонякова из НКИД был поднят летом 1928 г., и Политбюро приняло решение назначить его торгпредом в Париже и ввести в состав Коллегии НКТорга. 1 ноября Политбюро подтвердило откомандирование Стомонякова в Наркомторг, но 5 ноября отменило это решение[402]. 27 декабря 1928 г. Политбюро признало новое обращение Стомонякова «неправильным по существу и недопустимым по форме, заслуживающим порицания» и обязало его «работать в НКИД». Текст письма Стомонякова или его изложение в изученных материалах отсутствуют. Письмо датировано 21 декабря 1928 г. и направлено руководителям ЦК ВКП(б) и СНК СССР непосредственно после одобрения Политбюро инициативы о предложении Польше и Литве подписать с СССР дополнительный протокол к пакту Келлога (20 декабря 1928). Это обстоятельство, как и некоторые оттенки в переписке Стомонякова с полпредствами, позволяет полагать, что заявление члена Коллегии НКИД о своей отставке было если не вызвано, то связано с его несогласием с решением Политбюро о дополнительном протоколе.
Около 22.30 11 января заведующий 1 Западным отделом Карский сообщил Зелезинскому по телефону, что Литвинов незамедлительно хотел бы с ним увидеться для вручения ответной ноты. Из-за болезни Зелезинский не выходил из дома, и, по договоренности с Литвиновым, Карский в полночь доставил ответ в польскую миссию[403]. Таким образом, к разочарованию польской дипломатии, «этот обширный документ был составлен, размножен и подписан в течение двадцати четырех часов со времени получения польской ноты, ответом на которую он явился», и надежды Варшавы затянуть переписку с Москвой до ратификации Парижского договора американским сенатом потерпели неудачу[404]. Советская нота была выдержана в духе наступательной риторики. При этом в ней акцентировалось намерение СССР предложить всем западным соседям присоединиться к дополнительному протоколу, как только они официально заявят о своем участии в пакте Келлога[405]. Это заявление не означало, что комиссия Политбюро приняла требование Польши о придании протоколу регионального характера. Напротив, ввиду «опасности», что Польша предложит «общие переговоры со всеми нашими соседями о заключении специального пакта Восточной Европы», Наркоминдел дал директиву полпредам в Риге, Ревеле, Гельсингфорсе «всеми возможными мерами противодействовать успеху подобного польского предложения»[406].
31 января 1929 г.
7. – О Польше (т. Литвинов).
Принять второй вариант предложения НКИД.
Выписки посланы: т. Литвинову.
Протокол № 62 (особый № 60) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 31.1.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Oп.162. Д. 7. Л. 31.
Точных сведений о характере внесенных НКИД предложений не выявлено, их содержание устанавливается исходя из доступных документов. В ноте С. Патека от 19 января 1929 г. и в ходе его последующих встреч с Литвиновым польская сторона настойчиво отстаивала принцип участия балтийских государств и Румынии в предложенном СССР протоколе о досрочном введении в действие пакта Бриана-Келлога. Попытки и.о. наркома форсировать подписание такого протокола между Советским Союзом и Польшей, предложив остальным западным соседям присоединиться к нему несколько позднее, успеха не имели. Польша поспешила пригласить страны Балтии к заключению общего соглашения и поставила Москву перед фактом согласия Эстонии, Латвии и Румынии «участвовать в протоколе, но при непременном участии и одновременном подписании его с Польшей и СССР». Упрекнув Польшу в нелояльности, Литвинов сообщил, что «прежде, чем дать ответ в Москве должны знать, готова ли она к немедленному подписанию протокола в случае принятия этих условий»[407]. Высшему советскому руководству предстояло принять окончательное решение – либо настаивать на немедленном подписании протокола Польшей и СССР, сохраняя открытым вопрос о присоединении к нему трех балтийских стран и Румынии, либо изменить директиву Политбюро от 20 декабря 1929 г. и согласиться с многосторонним характером Московского протокола. «Второе предложение» НКИД, по всей вероятности, состояло в том, чтобы пойти на совместное и одновременное подписание протокола СССР, Польшей, Эстонией, Латвией и Румынией, прикрывая свое отступление заявлением о предпочтительности первого пути и требуя от Польши гарантий, что она в этом случае не выдвинет новых условий и не станет затягивать заключения этого акта. Именно это и было сделано в ходе беседы Литвинова с Патеком 31 января[408]. Если наше предположение верно, то решение Политбюро 31 января носило во многом формальный характер. Переговоры руководителя НКИД с польским правительством зашли к тому времени уже так далеко, что возвращение к первоначальной советской позиции было невозможно без нанесения советским внешнеполитическим интересам большого урона[409]. 19–21 января советское руководство решило, вместо того, чтобы оспаривать польское требование о модификации протокола, начать «практическое обсуждение процедуры заключения протокола». Наделение Литвинова соответствующими полномочиями[410] произошло без официального постановления Политбюро. Это обстоятельство, как и оттягивание до 31 января постановки в Политбюро вопроса о совместном подписании протокола Польшей, Румынией, Эстонией и Латвией, могло быть вызвано как разногласиями НКИД и Политбюро относительно реагирования на формирование Польшей общего фронта восточноевропейских государств, так и нежеланием Политбюро принимать окончательное решение в период с кратковременного отхода Сталина от дел. («Я очень устал и боюсь, что если не передохну, обязательно слягу», – писал Сталин товарищам по Политбюро-, прося дать ему «хотя бы десятидневный отпуск»[411]. Ни в записке, ни в соответствующем решении Политбюро не указывалось, с какого дня начинается десятидневный отпуск; вероятно, он продолжался с 18–19 по 27–28 января.) Утвержденное 31 января изменение в советской позиции тщательно маскировалось. «Я вполне понимаю, что во всех разговорах наших с поляками и представителями других государств, мы должны подчеркивать, что совместное подписание вытекало уже из первоначального предложения т. Литвинова. Так мы всегда и делаем», – докладывал полпред в Варшаве[412]. Это не меняло того основного обстоятельства, что в силу логики собственной инициативы Москва оказалась вовлечена в переговоры, приведшие ее к частичному согласию с традиционным польским требованием о «круглом столе» западных соседей СССР, и заставившие ее решиться на подписание первого в советской истории многостороннего политического соглашения[413].
7 февраля 1929 г.
14. – О Польше (ПБ от 31.1.29, пр. № 62, п. 7.) (т. Литвинов).
Принять к сведению сообщение т. Литвинова.
Протокол № 63 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 7.2.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 725. Л. 4..
По всей вероятности, на заседании Политбюро Литвинов доложил о затягивании Польшей подписания Московского протокола. В беседах с Патеком 4, 5 и 6 февраля и.о. наркома настаивал на предложенном им ранее сроке подписания протокола (7 февраля). Не возражая против этого в принципе, польский посланник «подчеркивал, что не является исключенным, что этот срок должен быть отсрочен на несколько дней, не позже, однако, 9-го текущего месяца». Литвинов принял оговорки Патека к сведению, «не заявляя со своей стороны никаких возражений». 7 февраля Литвинов направил в польскую миссию письменное предложение «подписать сегодня в 20 часов протокол о введении в действие Парижского договора 1928 г. – пакта Келлога». В ответном письме Патека заявлялось: «Хотя в принципе мы готовы подписать протокол каждую минуту, но, однако, в связи с временным нездоровьем прибывшего сегодня румынского уполномоченного г-на министра Давила, я предлагаю настоящим выставленный мною ранее срок подписания протокола 9-го февраля с.г.»[414].
Препирательства по этому поводу были вызваны желанием советской дипломатии избежать одновременного и совместного подписания Московского протокола Польшей и странами Балтии, тогда как польская дипломатия развила кипучую деятельность по включению Эстонии и Латвии в состав первоначальных участников соглашения[415]. Возможно, на заседании Политбюро 7 февраля Литвинову было рекомендовано продолжать усилия по срыву польского плана. Основные надежды Москва возлагала на Латвию, где была развернута кампания против попыток создать балтийский блок под своим водительством, депутаты-коммунисты получили указание голосовать против ратификации пакта Келлога, другим депутатам Сейма предлагались выгодные торговые заказы и щедрые «подарки»[416]
Около полудня 8 февраля Давила и Патек нанесли и.о. наркома визит вежливости. Литвинов с большой настойчивостью убеждал посетителей в необходимости подписать протокол втроем вечером того же дня, без участия Латвии и Эстонии, правительства которых не заявили еще о своем присоединении к протоколу. Несколькими часами позже, во время ответного визита Давиле в польской миссии Литвинов был поставлен перед фактом готовности Эстонии к немедленному подписанию протокола. В конечном счете, было условленно, что оно состоится либо вечером 9 февраля, либо 11 февраля (если посланник Озолс поручится, что к этому дню правительство Латвии не только даст окончательный ответ, но и будет готово произвести подписание)[417]. Вечером 9 февраля в здании на Кузнецком мосту представители СССР и четырех соседних стран (Польши, Эстонии, Латвии, Румынии) подписали Московский протокол о досрочном введении в действие между ними пакта Бриана-Келлога. Впоследствии к этому протоколу присоединились Турция и Литва, а также Иран.
Иностранные наблюдатели проявили исключительный интерес к тому, как в СССР было воспринято подписание протокола. Например, финский посланник Артти в своих докладах подчеркивал, что безусловного удовлетворения общественное мнение в СССР явно не испытывает, хотя сомнения прямо и не высказываются. Фактически Москве пришлось подписывать пятисторонний документ, ставший своего рода демонстративным подтверждением наличия «антисоветского блока», чего изначально советская дипломатия стремилась избежать[418].
14 февраля 1929 г.
8. – О Финляндии (т.т. Стомоняков, Ворошилов, Менжинский, Сулимов).
Передать на рассмотрение комиссии в составе т.т. Ворошилова, Микояна, Стомонякова и Зофа, с внесением на утверждение Политбюро в 3–4 дневный срок. Созыв за тов. Ворошиловым.
Выписки посланы: Ворошилову, Микояну, Стомонякову, Зофу.
Протокол № 64 (особый № 62) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 14.2.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 34.
На заседании Политбюро рассматривался вопрос о заключении с Финляндией Конвенции о таможенном надзоре в Финском заливе. Создание комиссии Политбюро было вызвано разногласиями между НКИД, НКВМ и ОГПУ СССР относительно границ этих зон. По итогам работы комиссии было принято приводимое ниже решение.
21 февраля 1929 г.
10. – О Финляндии (т.т. Стомоняков, Ворошилов).
Принять согласованное предложение комиссии т. Ворошилова:
а) Согласиться на частичное принятие финской таможенной зоны к югу от острова Гогланда в последнем варианте НКИД.
б) Обусловить уступку по п. 1-му согласием Финляндии на распространение нашего навигационного и антиалкогольного контроля на север от Большого Кораб. фарватера в районе нашей таможенной зоны у Бьорке.
в) Оговорить в соглашении с Финляндией право наибольшего благоприятствования в смысле ширины финских таможенных зон.
г) Срок действия конвенции о таможенном надзоре в Финском заливе установить такой же, как и для тройственного соглашения 1923 (sic) г. между СССР, Эстонией и Финляндией.
Выписки посланы: т.т. Стомонякову, Ворошилову.
Протокол № 65 (особый № 63) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 21.2.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. On.162. Д 7. Л. 36.
Определение границ зон таможенного, навигационного и противоалкогольного надзора вне пределов территориальных вод прибрежных государств в Финском заливе на протяжении всех 20-х гг. оставалось актуальной проблемой советско-финляндских отношений. Тройственное соглашение между СССР, Эстонией и Финляндией, являвшееся составной частью международной Конвенции о пресечении контрабанды алкогольных товаров, было подписано в Хельсинки 19 августа 1925 г. (в тот же день была подписана и Конвенция). Однако ни Конвенция, ни соглашение не были к моменту обсуждения вопроса на Политбюро ратифицированы СССР (это произошло 10 сентября 1929 г.). В июле 1923 г. была подписана советско-финляндская конвенция, определявшая надзор за порядком в Финском заливе вне территориальных вод.
Поводом для очередного обсуждения этого комплекса вопросов явилось издание 30 мая 1927 г. декрета Президента Финляндской Республики № 156, определявшего функции и структуру таможенного ведомства (Asetus tullihallinosta annettu 30.5.1927). В тексте этого декрета руководство НКИД усмотрело ряд положений, которые создавали формально-правовые предпосылки для одностороннего расширения Финляндией границ зон таможенного контроля, что входило в противоречие со статьей 3 мирного договора 1920 г. 14 июля 1927 г. член Коллегии НКИД Б.С. Стомоняков от имени советского правительства вручил ноту, предлагавшую урегулировать вопрос с таможенными зонами. Поскольку ответ задерживался, 11 апреля 1928 г. поверенный в делах Г. Залкинд вручил повторную ноту. Только после этого финская сторона согласилась приступить к переговорам, однако, предложение провести их уже летом, было отклонено (глава МИД в этот период должен был находиться в отпуске, а советник А. Ахонен, главный специалист по проблемам советско-финляндских отношений, был крайне занят решением других проблем, к тому же состояние его здоровья внушало опасения)[419].
В середине августа 1928 г. финской стороне был передан советский проект таможенной конвенции. Этот вариант проекта отличался от утвержденного ранее правительством СССР тем, что, как писал заведующий НКИД М.М. Добраницкий, «не заключал в себе уступок последнего». О каких именно возможных уступках шла речь, и почему от уступок решено было отказаться, выяснить не удалось. В конце августа Коллегия НКИД утвердила состав делегации на переговорах с финской стороной в нее вошли Б.С. Стомоняков (председатель), С.С. Александровский, M.М. Добраницкий, Н.П. Колчановский, Рутенбург (от ГУПО), представитель Морского ведомства[420].
Финская делегация (А. Ахонен и В. Поппиус) прибыла для переговоров в Москву 3 сентября. В сентябре состоялось пять заседаний конференции по вопросу о таможенных зонах в Финском заливе. Финская сторона подняла вопрос о борьбе с алкогольной контрабандой в Финском заливе к западу и востоку от 27 меридиана. Она просила предоставить право финским патрульным судам досматривать вставшие на якорь в международных водах и явно занимающиеся контрабандой корабли. При этом указывалось, что советский посланник в Хельсинки будет ставиться в известность о проведении и результатах подобных досмотров. Настойчивость финской стороны в этом вопросе объяснялась тем, что еще не вступившее в силу тройственное советско-финско-эстонское соглашение 1925 г. уже не соответствовало изменившейся тактике контрабандистов. Предложение расширить финскую зону на запад от 27 меридиана, судя по всему, не вызвало возражений с советской стороны, иной была реакция в отношении попыток расширения зоны к востоку от 27 меридиана, что ограничило бы советскую зону таможенного контроля[421]. Неуступчивость Хельсинки побудила Стомонякова заявить, со ссылкой на советские «правительственные круги», что «такие версальские методы переговоров неуместны в отношениях между двумя дружественными государствами»[422]. В начале октября 1928 г. переговоры были прерваны отъездом финской делегации. Тем не менее, поиск компромиссного решения сторонами был продолжен.
Посланник Артти считал избранную в Хельсинки тактику переговоров ошибочной. Ему удалось во время своего пребывания в столице Финляндии добиться в МИДе разрешения пойти на уступку в вопросе о зоне к востоку от 27 меридиана. Во время беседы со Стомоняковым 23 октября Артти высказал предположение, что финская делегация для продолжения переговоров может приехать в ноябре. К тому времени со стороны НКИД была проведена большая работа по согласованию позиций всех заинтересованных советских ведомств. Выяснилось, что компетентные органы «не понимают», зачем финской стороне необходимо иметь право на преследование занимающихся контрабандой спиртовозов в восточной части залива (т. е. в советской зоне контроля). «Непонимание» было вполне уместным, поскольку было известно, что даже попыток осуществления «алкогольной контрабанды» в этой зоне не было. Фактически советская сторона дезавуировала своего полпреда в Хельсинки (Александровского). Финскому посланнику было сказано, что беседы Александровского имели частный характер, полпред говорил только от своего имени, поэтому ни о каком задержании спиртовозов во всей части залива к западу от Гогланда в тех местах, где Большой Корабельный фарватер перекрывается финскими таможенными зонами, и речи быть не может. Советская сторона соглашалась только на задержание пароходов, стоящих на якоре в районе, прилегающем к о. Гогланд[423]. Фактически переговорный процесс был в ноябре 1928 г. остановлен. Не в последнюю очередь на это повлияло и то, что самый активный участник переговоров – Стомоняков – был вынужден в то время основное внимание уделять отношениям с Германией. Можно предположить, что созванное в конце ноября по этой проблеме межведомственное совещание проходило без его участия. Информация о принятых на совещании решениях крайне скупа. Известно, что на нем было решено издать специальную брошюру (для командного состава флота) «о положении в Финском заливе до и после 1917 года»[424], что вызвало негативную реакцию со стороны Колчановского и Александровского.
Они считали, что развитие событий непредсказуемо и Москва может в будущем с этой брошюрой попасть в неловкое положение, когда придется отказываться от некоторых юридически обоснованных положений. В результате руководство НКИД решило предполагаемую брошюру выпустить под псевдонимом (чтобы формально не нести ответственности за ее содержание, как признавал Добраницкий). Задача брошюры должна была быть сведена к «поднятию квалификации комсостава нашего флота в вопросах международно-правового положения Финского залива», а не к «закреплению литературным путем спорных положений международного права»[425]. До конца декабря 1928 г. вопрос о таможенной конвенции не ставился на обсуждение Коллегии НКИД.
Вопрос о дате очередной поездки финской делегации в Москву стал обсуждаться в МИД Финляндии только в январе 1929 г., после состоявшейся 5 января беседы Артти со Стомоняковым, в которой последний поставил вопрос: приедет ли для переговоров финская делегация или переговоры следует считать прерванными?
В Москве ждали более подходящих для достижения компромисса предложений финской стороны. Советская сторона была заинтересована в подписании Конвенции между СССР и Финляндской республикой о таможенном надзоре в Финском заливе, как, впрочем, и не могла затягивать более ратификацию международной конвенции о борьбе с алкогольной контрабандой (1926 г.), чтобы обеспечить гарантии свободы передвижения, как для торгового флота, так и для кораблей Балтийского флота. Еще в 1926 г. Колчановский в затяжке ратификации соглашения Москвой видел угрозу создания такой ситуации, когда разрешение вопроса о таможенных зонах было бы найдено путем многостороннего договора, который превратил бы Финский залив в своего рода Дарданеллы, когда ни о какой свободе передвижений для Балтийского флота не могло идти и речи. Намек Стомонякова был понят в Хельсинки, и уже 7 января министр иностранных дел Финляндии Я. Прокопе в беседе с полпредом Александровским заявил, что он хотел бы достичь положительного результата и в отношении зон таможенного контроля, и в отношении борьбы с алкогольной контрабандой, добавив, что, возможно, советник Ахонен будет послан в Москву[426]. Спустя неделю Прокопе поручил Артти добиваться окончательного разрешения только вопроса о зонах таможенного контроля, советуя посланнику увязать этот вопрос (не на прямую) с вопросом о снижении советской стороной «новых тягостных тарифов за проход судов по Неве»[427]. (Прокопе имел в виду новый размер сборов с частнособственнических судов, проходивших по Неве из Финского залива в Ладожское озеро, введенный постановлением ЦИК и СНК СССР 24 октября 1928 г.). Инструкции финской делегации были обсуждены на заседании комиссии по иностранным делам финского правительства 21 января. При этом в качестве предпосылки продолжения переговоров о таможенных зонах выдвигалось согласие советской стороны на досмотр занимающихся контрабандой судов к западу и востоку от 27 меридиана[428].
К февралю 1929 г. переговорный процесс зашел в тупик. Финская сторона в качестве условия подписания конвенции настаивала на своем требовании о дополнительной «прирезке» зон таможенного контроля на юг и восток от Гогланда. Наркомат путей сообщения и ОГПУ, с которыми НКИД согласовывал свои действия, не возражали против данной уступки. По мнению Стомонякова (уполномоченного подписать Конвенцию), требование финской стороны было выставлено только «для сохранения лица», так как сколько-нибудь серьезного значения эти уступки для Финляндии не имели. Однако резко отрицательную позицию в этом вопросе занял PBC, считавший, по всей видимости, что подобная уступка может только усугубить и без того сложное положение Балтийского флота. Внимание этому вопросу уделяло руководство НКВМ, включая Начальника военно-морских сил РККА Р.А. Муклевича. Особо учитывались при этом планы строительства военно-морских сил Финляндии «в расчете на активную борьбу с СССР за расширение территории» («исправление Юрьевского договора»), а также на угрозу Большому корабельному фарватеру. Добиться положительного ответа от Ворошилова НКИД не удавалось. 1 февраля 1929 г. на совместном заседании Коллегии НКИД с представителями PBC удалось достичь частичного компромисса: военные соглашались на «прирезку» к финским зонам контроля территории к востоку от Гогланда[429]. Финской стороне было известно, что ее главным противником на переговорах являлся Ворошилов, который якобы «вбил себе в голову, что правительство Финляндии желает запереть русский флот в конце Финского залива и поставить под контроль все морские сообщения своего восточного соседа»[430].
Образование особой Правительственной комиссии по этому вопросу на заседании Политбюро 14 февраля означало, что НКИД не удовлетворился этой уступкой PBC. Однако, судя по всему, добиться большего дипломатам, вначале, не удалось; в беседе с А.А. Ахоненом 18 февраля Б.С. Стомоняков был вынужден заявить, что «согласно постановлению Правительственной комиссии, финское предложение о включении известного треугольника на юг от Гогланда в таможенные зоны Финляндии нами отвергается» и посоветовал полностью отказаться от этого требования[431]. Комиссия Политбюро не обсуждала вопрос о согласии на «ловлю спиртовозов» финнами в открытом море (в Москве были категорически против этого). Улаживание этого вопроса оставалось целиком в руках НКИД. Уже в конце января 1929 г. полпред Александровский был уверен, что в результате дипломатических усилий удастся свести уступки в этом вопросе к чисто словесно-декоративным изыскам («прибавить что-нибудь осторожное на тему о готовности благосклонно относится к таким обращениям» (читай: просьбам к советской стороне в каждом конкретном случае о задержании спиртовоза в открытом море), поскольку, по мнению полпреда, необходимо учитывать действительно существующий в Финляндии «антиалкогольный психоз»)[432].
20 февраля до сведения советской стороны было доведено, что правительство Финляндии отклоняет предложение о подписании конвенции на условиях отказа от гогландского треугольника[433]. И уже на следующий день – утром в четверг 21 февраля – вопрос вторично обсуждался на заседании Правительственной комиссии, где Б.С. Стомонякову удалось склонить на свою сторону большинство (либо Ворошилов, либо Зоф не изменили своей позиции), а затем и на Политбюро. Выработанные условия уступки были доведены до сведения финской стороны 22 февраля[434].
5 марта 1929 г. А. Ахонен довел до сведения Б.С. Стомонякова отрицательный ответ своего правительства[435]. В Хельсинки в тот же день представитель МИД заявил полпреду Александровскому, что советские предложения произвели впечатление диктовки сильного слабому своей воли, что советская сторона затруднила подписание конвенции чуть ли не «шиканозным отношением» к делу. Необходимость взаимных уступок была ясна обеим договаривающимся сторонам. К концу марта условия компромисса были в целом выработаны. В обмен на передачу Советским Союзом контроля за судоходством к югу от Суурсаари (Гогланда) и Тютерсов, Финляндия уступала контроль за судоходством у Сейвясте. В Дополнительных инструкциях своим делегатам на переговорах финская сторона особо указывала, что уступка зоны у Сейвясте согласована со всеми заинтересованными финскими ведомствами, в том числе и с Генеральным штабом. Его начальник полковник Валлениус на совещании в МИДе 22 марта заявил, что «выгоднее было бы не уступать эту зону, но ее военное значение не настолько велико, чтобы могло служить препятствием для уступки, если против нее нет иных причин»[436].
Специального обсуждения этого вопроса на Политбюро более не было. В конечном итоге стороны согласились на следующее: 1) зона советского таможенного контроля простирается между Стирсуденскими банками и островом Сескар на 4 мили от советских территориальных вод и на 2 мили между островом Лавансаари и южным рукавом международного морского пути; 2) финская зона навигационного надзора лежит к северу от северной кромки Большого корабельного фарватера, советская зона – к югу; навигационный надзор СССР распространяется на указанную выше зону таможенного надзора, частично выходящую за пределы северной кромки Большого корабельного фарватера, но из-под действия навигационного надзора СССР изымается таможенная зона Финляндии между территориальными водами финских островов Родшер, Малый и Большой Тютерс; 3) противоалкогольная советская зона надзора распространяется на всю советскую зону таможенного надзора.
Конвенция была подписана в Москве 13 апреля 1929 г. (с советской стороны – Б.С. Стомоняковым, начальником главного таможенного управления А.П. Винокуром и Н.П. Колчановским, с финской – советником А. Ахоненом и директором Таможенного управления В. Поппиусом). В районе острова Гогланд (Суурсаари) граница таможенного контроля должна была проходить на расстоянии одной морской мили к югу от южной оконечности острова, а оттуда по границе неразрывных территориальных вод Финляндии. (Параграф 60 упомянутого выше декрета президента Финляндской Республики от 30.5.1927 г. устанавливал трехмильную зону территориальных вод вокруг островов Финского залива и Балтийского моря, с которой совпадала таможенная зона; правда, оговаривалось – «если особо не установлено иначе»). Согласно ст. 3 Конвенции, договаривающиеся стороны соглашались на то, что занимающиеся контрабандой или подозреваемые в этом суда могут преследоваться сторожевыми кораблями и за пределами таможенных зон своей страны (уступка финской стороне), но не в пределах зон контроля другой стороны. К Конвенции был приложен Протокол, определявший изменение границ зон. Конвенция и протокол вступили в силу 10 октября 1929 г. (через месяц после обмена ратификационными грамотами). За подписанием Конвенции последовало издание Циркуляра Главного гидрографического управления СССР от 15 мая 1929 г. № 151, которым, со ссылкой на п. 2 Инструкции для плавания судов в береговых водах в пределах зоны обстрела береговых батарей в мирное время (Приказ РВСР от 5 июля 1924 г. № 897), было оповещено о закрытии ряда районов: у мыса Каравалдай, Красной Горки, маяка Толбухин и острова Котлин[437].
Подписание советско-финляндской конвенции не устранило полностью обсуждение данной темы. Спустя полтора года, в ноябре 1930 г. эстонский посланник в Москве Эпик предложил подписать дополнительное соглашение к Противоалкогольным актам 1925 г., которое позволило бы эстонским и финским властям задерживать на международном морском пути в Финском заливе занимающиеся контрабандой алкогольными товарами суда. Тогда ему было заявлено, что советская сторона не пойдет на такой шаг, поскольку он означал бы аннулирование Тройственного советско-финско-эстонского соглашения 1925 г., на подписание которого СССР пошел лишь при условии соблюдения свободы мореплавания на международном морском пути в заливе[438].
Особой настойчивости в обсуждении вопроса на этот раз не было проявлено со стороны Таллина и Хельсинки.
7 марта 1929 г.
9. – Заявление т. Литвинова (т. Литвинов)
а) Предложить Наркомпросу объявить выговор Главлиту за помещение в журнале «Чудак» необоснованной и оскорбительной заметки о польском представителе и за опубликование в «Вечерней Москве» заметки о японском морском атташе.
б) Объявить выговор редакциям «Чудака» и «Вечерней Москвы» за опубликование, без согласования и вопреки указаниям НКИД, заметок, касающихся личного состава дипломатического корпуса.
в) Поручить т.т. Криницкому и Литвинову принять решительные меры для обеспечения согласования с НКИД опубликования в газетах и журналах статей, заметок, карикатур и т. п., касающихся личного состава дипломатического корпуса.
Протокол № 67 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 7.3.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 729. Л 3.
8 феврале 1929 г. юмористический журнал «Чудак», выпускавшийся Акционерным издательским обществом «Огонек» под редакцией М. Кольцова (в 1930 г. слит с журналом «Крокодил»), поместил фотографию военного атташе Польши в Москве (1925–1928 гг.) майора Кобылянского, сопроводив ее комментарием о том, что он ранее был уличен в контрабандном ввозе в СССР «известных резиновых изделий»[439]. Эта версия, впервые запущенная «Вечерней Москвой» весной 1925, в свое время вызвала энергичный протест польского посланника Кентжинского[440]. В начале марта 1929 г. временный поверенный в делах Польши в СССР А. Зелезинский обратился к заведующему 1 Западным отделом Карскому с решительным протестом против публикации в «Чудаке»[441]. По инициативе Стомонякова и Карского Коллегия НКИД немедленно постановила (а) просить Главлит конфисковать номер «Чудака» с оскорбительной заметкой о Кобылянском, (б) предложить редакции опубликовать извинения, (в) выразить Зелезинскому сожаления по поводу этого инцидента и сообщить о принятых мерах[442]. «Конфискация «Чудака» после того, как номер разошелся, является комедией», считали в Варшаве[443]. Получив официальные извинения Наркоминдела, польская миссия пыталась добиться помещения опровержения в «Известиях», но ей пришлось удовольствоваться редакционной заметкой в «Чудаке»[444].
Принимая это решения, Коллегия руководствовалась как нежеланием вызывать осложнения в отношениях с Польшей, так и потребностями поддержания корректных отношений с иностранными правительствами и их дипломатическими представителями. Полутора месяцами ранее Коллегия приняла специальное обращение к В.Э. Мейерхольду, прося его устранить из пьесы «Д. Е.» «оскорбительные для членов Польского Правительства гримировки, фамилии и т. п.»[445]. Вместе с тем, руководство НКИД решило использовать рецидив абсурдных оскорблений в адрес майора Кобылянского не только для того, чтобы «обратить внимание ЦК на то, что подобные бесконтрольные действия нашей прессы осложняют наши отношения с иностранными правительствами», но и для расширения прерогатив НКИД в этой области. Коллегия просила Политбюро разрешить НКИД «возбудить судебное дело против Редакции «Чудака» за помещение заметки о Кобылянском»[446]. Это обращение продолжало усилия НКИД по установлению контроля за публикациями в советской печати. 28 июня 1928 г. Политбюро утвердило принятое тремя днями ранее решение Оргбюро «О порядке помещения в печати статей и материалов по вопросам иностранной политики». Оно обязывало редакции периодических изданий, Главлит и книгоиздательства, освобожденные от предварительной цензуры, согласовывать с НКИД и его представителями на местах опубликование статей, речей, брошюр и книг членов правительства (т. е. членов ЦИК и СНК Союза и союзных республик). Редакции газет, выходящих в приграничных районах и являющихся официальными органами местных властей, должны были согласовывать с местными представителями НКИД выступления «по вопросам, затрагивающим интересы смежных с этими районами государств»[447]. Поднимая вопрос о судебном процессе против М. Кольцова, руководство НКИД стремилось, как показывают пояснения Стомонякова, к введению такого порядка, при котором не только официальные, но и формально независимые от властей издания не имели бы права помещать «заметок, статей и карикатур, вызывающих осложнения с другими государствами» «без визы НКИД»[448].
Как показывает решение Политбюро от 7 марта, Кремль отказался поступиться в пользу Наркоминдела частью своих полномочий по руководству печатью. Вопреки пожеланиям НКИД инцидент с публикациями о Кобылянском и о покончившем с собой японском морском атташе был сведен к недопустимости несогласованных выпадов против членов дипкорпуса, а осуществление контроля возложено прежде всего за заведующего АППО ЦК ВКП(б) Криницкого. Фактическое поражение НКИД продемонстрировала появившаяся месяц спустя (10 апреля) карикатура в «Красной Звезде», на которой президент Польской республики Мосцицкий был представлен в качестве осла, а военный министр Пилсудский – ассенизатора. Член Коллегии был вынужден констатировать, что «ряд наших газет за последнее время нарушил существующий у нас порядок печатания иностранных материалов и допустил ряд грубых выпадов против Польши. Это в первую очередь относится к “Красной Звезде”»[449]. Коллегия НКИД решила известить наркомвоенмора Ворошилова и начальника ПУР РККА Бубнову, что «мы считаем политически более целесообразным выдерживать серьезный и спокойный тон в нашей прессе в отношении Польши», а также «поручить Отделу Печати созвать редакторов иностранных отделов наших газет и соответствующим образом их проинструктировать по вопросу о поведении нашей прессы в отношении Польши»[450]. Впрочем, и такой брифинг оказался нереальным; дело свелось к направлению заведующим Отделом печати Ф. А. Ротштейном письма в редакции «Известий», «Правды», «Рабочей газеты», «Рабочей Москвы», «Красной Звезды», «Торгово-промышленной газеты», «Ленинградской правды», «Экономической жизни» с настоятельным пожеланием не затрагивать достоинство главы Польского государства и Пилсудского[451]. Между тем «Вечерняя Москва» известила о выставлении в витрине Государственного универсального магазина карикатуры на Ю. Пилсудского, и Коллегии пришлось «просить ГУМ немедленно изъять эту карикатуру из витрины». И.о. наркома Л.М. Карахану было поручено «написать т. Сталину письмо, в котором обратить его внимание на то, что наша пресса систематически нарушает постановления ЦК о недопущении помещения карикатур внешнеполитического характера без разрешения НКИД»[452]. Об обстоятельствах возобновления в апреле 1929 г. напряженности в советско-польских отношениях и антипольской пропагандистской кампании см. комментарий к решению 11.4.1929.
14 марта 1929 г.
24. – О латышах (т. Литвинов).
Багажа не вскрывать.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 68 (особый № 66) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 14.3.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 50.
Имеется в виду багаж супруги латвийского посланника в Москве К. Озолса, задержанный советскими пограничными властями. Судя по всему, посланник отправил под видом дипломатического багажа чужой частный груз. И в Риге, и в Москве было известно, что за подобного рода услуги посланник получал «комиссионные». Озолс (как, впрочем, и многие другие дипломаты в Москве) уделял значительное время приобретению антиквариата, изделий из золота и серебра.
16 марта полпред в Риге И.Л. Лоренц сообщил Стомонякову об исполнении поручения руководства: МИД Латвии поставлен в известность о том, что НКИД удалось добиться возвращения багажа госпожи Озолс в Москву. В МИД отнеслись к этой информации с пониманием[453]. В беседе 6 апреля 1929 г. с советским полпредом Балодис подчеркнул, что «Министерство ни в коем случае не намерено инцидент с багажом обострять, делать из него выводы или отвечать на него»[454].
Несколькими неделями позже латвийские власти решили проверить прибывший багаж самого К. Озолса. При вскрытии багажа, в присутствии члена Петиционной комиссии Сейма Эглита, обнаружили свыше 64 килограммов серебряных и 2 килограммов золотых вещей, расшитые золотом церковные облачения, старинные православные золотые кресты, сверток с фунтами стерлингов и т. д.
Московская деятельность Озолса не была забыта в НКИД, тем более что по возвращении на родину тот неоднократно печатно клеймил СССР. Советские представители продолжали собирать материалы о «торгово-закупочной деятельности» Озолса в Москве (по материалам прессы), в частности, для того, чтобы прервать его дипломатическую карьеру и предотвратить его назначение латвийским посланником в Каунас[455].
28 марта 1929 г.
11. – О Румынии (т. Литвинов).
Предложить т. Литвинову в разговоре с румынами исходить из решения правительства СССР по бессарабскому вопросу о плебисците, обусловленном всеми гарантиями для свободного выявления населением его отношения к этому вопросу.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 70 (особый № 68) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 28.3.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 54.
Обращение Литвинова в Политбюро было связано с его предстоящей поездкой в Женеву для участия в сессии Подготовительной комиссии конференции по разоружению. В конце февраля Политбюро отклонило просьбу Литвинова об «освобождении его от поездки» и на заседании 28 марта утвердило директивы возглавляемой им делегации[456]. У заместителя наркома по иностранным делам были основания ожидать, что в ходе его пребывания в Женеве Румынией и ее союзниками могут быть возобновлены попытки урегулирования советско-румынского спора о принадлежности Бессарабии. В августе 1928 г. министр иностранных дел ЧСР Э. Бенеш по поручению правительств трех стран Малой Антанты сделал полпреду В.А. Антонову-Овсеенко заявление «об их стремлении к установлению нормальных отношений с СССР». При этом отмечалось, что «препятствием к установлению нормальных отношений между Югославией, Чехо-Словакией и СССР является неразрешенный бессарабский вопрос». Двумя месяцами позже, после прихода к власти кабинета национал-царанистов во главе с Ю. Маниу, Политбюро сочло, что ситуация созрела для вручения Бенешу положительного ответа (которым, впрочем, отводилось его посредничество): «если Румыния… действительно имеет желание вновь вступить в переговоры с Советским правительством для улажения всех существующих между ними спорных вопросов, то советское правительство со своей стороны готово пойти навстречу этому желанию вступить в непосредственные переговоры с представителем румынского правительства и, выслушав его предложения, обсудить возможную базу последующих формальных переговоров»[457]. «Мы считали бы нежелательным созыв конференции для официальных переговоров раньше, чем мы договоримся о возможной базе соглашения путем полуофициальных переговоров, – уточнял Литвинов. – Такие разговоры удобнее всего начать при какой-нибудь полуслучайной встрече ответственных представителей обеих сторон где-нибудь в Европе, как, например, во время какой-либо международной конференции. Такой момент, правда, сейчас не предвидится, но, когда он наступит, мы его не пропустим»[458].
Декабрьская инициатива «быстрейшей ратификации пакта Келлога» внесла изменения в этот сценарий. В переговорах о многостороннем протоколе к пакту Келлога советская дипломатия была вынуждена фактически снять некоторые оговорки, выдвинутые ею при присоединении к Парижскому договору, т. е. отказаться от трактовки оккупации чужой территории и нежелания установить нормальные отношения с другим государством как подпадающих под понятие войны. По настоянию Румынии в текст соглашения была включена формула, подтверждающая состояние мира между государствами – участниками Московского протокола. Интерес румынских политиков к советской инициативе во многом был вызван надеждами использовать ее для «хотя молчаливого признания Россией присоединения Бессарабии» к Румынии[459]. Сразу после заключения соглашения о досрочном введении в действие пакта Келлога правительство Румынии попыталось истолковать его как окончательное признание границ Румынии, что уже 10 февраля вызвало отповедь советского официоза[460].
Со своей стороны, в беседе с румынским представителем Давилой, прибывшим в Москву для подписания регионального соглашения, Литвинов предложил организовать плебисцит населения Бессарабии для определения ее государственной принадлежности (тезис о том, что принадлежность Бессарабии Румынии может быть признана Советским Союзом лишь в случае проведения плебисцита и соответствующего волеизъявления населения Бессарабии, был впервые выдвинут в Заявлении делегации СССР на советско-румынской конференции в Вене 28 марта 1924 г.[461]). Давила отклонил это заведомо неприемлемое предложение, сославшись на отсутствие у него полномочий для обсуждения бессарабского вопроса. Заместитель наркома выразил заинтересованность в установлении «прямого канала коммуникации», минуя Варшаву, которая стремилась держать под контролем переговоры своей союзницы с СССР. В ходе беседы в качестве возможного места советско-румынских консультаций была упомянута Женева[462]. Таким образом, постановка вопроса «О Румынии», была вызвана необходимостью получения заместителем наркома дополнительных директив относительно условий для неофициальных переговоров с румынскими дипломатами, намеченных в решении Политбюро пятимесячной давности.
Точное содержание предложений Литвинова, внесенных им в Политбюро, неизвестно. Подход Литвинова к бессарабской проблеме существенно отличалась от официальной линии СССР, в определении которой выдающуюся сыграл Х.Г. Раковский. Еще в 1921 г. при обсуждении возможных уступок со стороны СССР для заключения советско-румынского мирного договора, Литвинов полагал, что ради этого допустим «отказ от Бессарабии»[463]. Эта позиция была обусловлена не только анализом международной конъюнктуры и выгодами, которые получал СССР в случае признания аннексии Бессарабии, но и принципиальным взглядом на права Румынии и ее отношения с СССР. «Вожделения Румынии в отношении Бессарабии возникли не во время империалистической войны; они существовали и раньше и составляли часть общих национальных аспирации Румынии […] Пока мы Бессарабию оспариваем, Румыния должна считать свои национальные стремления незавершенными, она так или иначе должна добиваться нашего признания аннексии; если ей не удастся это мирным путем, то рано или поздно она прибегнет к оружию», – проницательно отмечал Литвинов в полемике с Раковским[464]. По сведениям Л. Фишера (близкого в то время к НКИД и по решению Политбюро получавшего советские субсидии), в середине 1920-х гг. Литвинов продолжал отстаивать такой подход, несмотря на противодействие Чичерина и Сталина[465]. Позднее, в ходе переговоров с Румынией о пакте ненападения, Литвинов предпринимал попытки смягчить требования Политбюро относительно непризнания фактического статуса Бессарабии[466].
В марте 1929 г. Сталин просил находившегося на лечении наркома Чичерина сообщить свою оценку положительных и отрицательных для СССР сторон Московского протокола, в частности, с точки зрения советско-румынских отношений[467]. Чичерин подтвердил прежнюю позицию: «Уменьшение напряжения с Румынией очень хорошо: из-за того, что Румыния заняла Бессарабию, мы не должны наказывать самих себя и портить собственное положение, но, конечно, мы не отказываемся от плебисцита в Бессарабии». Урегулирование двусторонних отношений виделось Чичерину исключительно в виде обмена – возвращения румынских архивов (по высокомерному заявлению Чичерина, «кальсон министров, шуб, картин, любовных писем Братиану, процентных бумаг») за отказ Румынии от требования возвращения золота[468]. Письмо Чичерина, несмотря на его личный характер, было распространено среди членов Политбюро. Возможно, Сталин намеренно заручился заявлением наркома по иностранным делам перед новым рассмотрением руководством страны бессарабского вопроса.
Содержание мартовского решения Политбюро двумя месяцами позже было оглашено в докладе главы советского правительства. Относительно Бессарабии, заявил А.И. Рыков, «мы ничего иного Румынии не предлагаем, кроме честного и беспристрастного плебисцита, проведенного в условиях, исключающих давление как с той, так и с другой стороны, для выявления воли бессарабского народа»[469]. Поскольку Москва не допускала и мысли о международном контроле за проведением плебисцита, эта публичная декларация на деле лишь акцентировала пропагандистское существо решения Политбюро.
Официальная позиция СССР в бессарабском вопросе не претерпела изменений вплоть до июня 1940 г.; в ходе советско-румынских переговоров о заключении договоров о ненападении (1932 г.) и взаимной помощи (1935–1936 гг.) проблема принадлежности Бессарабии рассматривалась лишь с точки зрения возможности закрепления в соответствующих текстах имеющихся между сторонами разногласий.
11 апреля 1929 г.
10. – Об Апанасевиче (т. Стомоняков).
а) Предложить НКИД потребовать выдачи трупа Апанасевича.
б) Вскрытие трупа произвести в Минске, пригласив для этого наиболее авторитетных анатомов.
в) Объявить т. Богомолову строгий выговор с предупреждением за недопустимое поведение его и всего полпредства в связи с делом Апанасевича.
г) Считать необходимым ответить в нашей печати на кампанию в польской прессе.
д) Предложить НКИД заявить протест польскому правительству против ведущейся польской прессой злостной кампании с использованием фальшивок.
Выписки посланы: т. Стомонякову.
Протокол № 72 (особый № 70) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 11.4.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 66.
Решение Политбюро по делу Апанасевича переломило тенденцию к улучшению советско-польских отношений, развивавшуюся в конце 1928 г. – начале 1929 г.
4 апреля сотрудник торгпредства СССР в Польше Апанасевич, находясь проездом в Барановичах, открыл из личного оружия огонь по полицейским. После неудачной попытки самоубийства Апанасевич подвергся аресту и двумя днями позже, находясь в заключении скончался. «На основе всех сведений, которые у нас имеются, я могу сказать, что официальная польская версия о всех деталях этого дела представляется мне достаточно правдоподобной. Одержимый манией преследования, т. Апанасевич стрелял сперва в полицейских, а потом в себя», – подытоживал проведенное им разбирательство полпред в Польше. Из доклада командированного им в Барановичи консула Шахова выяснялось, что «в то время как МИД вел линию на то, чтобы, по возможности, не раздувать этого дела и представить т. Апанасевича как ненормального, власти на местах, основываясь, прежде всего, на заявлении самого т. Апанасевича, что он действовал вполне сознательно, повели линию на то, чтобы создать громкий процесс». Заинтересованность следственных органов в судебном разбирательстве делала версию о смерти Апанасевича от паралича сердца «вполне вероятной», тем более что по сведениям полпредства, он пребывал в третьей стадии такой болезни, при которой умственное расстройство, ни паралич сердца не являются необычными[470]. В польской печати 4–6 апреля появлялись неблагоприятные отклики на этот инцидент, в последующие дни они почти исчезли. На неприятную СССР публикацию в «Polska Zbrojna» полпредство реагировало заявлением протеста начальнику Восточного отдела МИД, который признал его обоснованным. Со своей стороны, и.о. наркома по иностранным делам 6 апреля телеграфировал в полпредство: мы, «конечно, не заинтересованы в раздувании этого дела». Почти в тех же выражениях писал в Варшаву и Стомоняков. Полпреду Богомолову поручалось организовать похороны Апанасевича в польских Барановичах.
Тем самым НКИД демонстрировал отсутствие у него каких-либо претензий к полякам и свое стремление поскорее забыть о прискорбном инциденте; на Коллегии НКИД вопрос о нем не ставился. Полное молчание о деле Апанасевича вплоть до 11 апреля хранила и московская печать[471]. Присутствие Стомонякова на заседании Политбюро (и указание на него как на докладчика) означает поэтому, что он был вызван для дачи объяснений о неправильной позиции ведомства и получения новых директив. С другой стороны, предписанный постановлением Политбюро «ответ» советской печати фактически начался неделей раньше[472]. Особенностью этих выступлений, за которыми последовала грубейшая публикация в «Красной Звезде» 10 апреля, являлась нацеленность на дискредитацию армии и Маршала Польши. «Подобного бесцеремонного и агрессивного тона» советской печати польская миссия не наблюдала со времени убийства П.Л. Войкова[473]. Роль печатных органов Политуправления РККА в организации антипольской кампании дает основания полагать, что инициатива искусственного обострения отношений с Польшей исходила не только из ЦК ВКП(б), но и из военного ведомства. Поскольку атака военных изданий вскоре затронула и иные области внешней политики СССР (в частности, критике подверглась советская дипломатическая тактика в Женеве, куда только что выехал Литвинов)[474], осуждение поведения НКИД в деле Апанасевича приобретало более широкое значение.
12 апреля, во исполнение решения Политбюро, полпредство потребовало от польских властей выдачи тела Апанасевича; 19 апреля это требование было исполнено, однако передача советским властям мозга, внутренностей и первоначального протокола вскрытия была задержана со ссылкой на необходимость соблюдения юридических формальностей. Полпред Богомолов обратился по этому поводу с вербальной нотой в МИД, а 30 апреля лично к министру иностранных дел А. Залескому. Советская сторона решительно отклонила польское требование о выплате возмещения в пользу семьи убитого Апанасевичем полицейского. При этом требование выдачи внутренностей и копии протокола вскрытия выдавалось за настояние «жены т. Апанасевича», «поддерживаемое» НКИД[475]. В начале мая заведующий советским рефератом МИД Янковский сообщил первому секретарю полпредства Кулябко, что выдача мозга и внутренностей Апанасевича «не будет произведена до тех пор, пока в советской прессе не прекратятся утверждения, якобы инкриминирующие польским полицейским убийство гр. Апанасевича. Полпредство выразило несогласие с увязкой этих двух вопросов и сослалось на предшествующие обещания поляков[476]. Со своей стороны, «в ответ на вопрос, как сложились польско-советские отношения после инцидента в Барановичах, министр разъяснил, что характер этого инцидента заранее исключал возможность всякого влияния на отношения между двумя государствами»[477]. Наконец, 18 июня в Минск были пересланы останки Апанасевича и копия акта о причинах его смерти (протокол вскрытия был оставлен в следственных делах)[478]. Данных о проведении предписанной Политбюро экспертизы в Минске не обнаружено. Впрочем, НКИД не имел никаких сомнений относительно ее возможных результатов. «Вопрос нужно считать исчерпанным, – с облегчением констатировал Стомоняков, – и мы к нему не намерены больше возвращаться ни в дипломатических переговорах, ни в прессе»[479].
Вероятно, ни руководство НКИД, ни полпред с самого начала не одобряли решения Политбюро использовать дело Апанасевича для создания напряженности в советско-польских отношениях. В ответ на строгий партийный выговор Богомолов сделал попытку оправдаться. 16 апреля он направил Стомонякову и Сталину письмо, в котором доказывалось, что поведение полпредства в деле Апанасевича соответствовало директивам Центра[480].
Поднятая в советской прессе кампания вокруг дела Апанасевича вызвала желаемую общественную реакцию, которая оправдывала и еще больше подогревала антипольскую кампанию. «Интерес со стороны общественности, в особенности на Украине, действительно велик. Управление Уполномоченного НКИД в Харькове получило запросы от рабочих ряда заводов и вынуждено давать уклончивые ответы»[481]. Советская пропаганда широко использовала в своих целях формирование нового польского кабинета, в состав которого вошли шесть бывших старших офицеров. Разоблачение «правительства полковников» слилось с посмертной защитой «т. Апанасевича – жертвы польской охранки» и затушевало беспочвенность обвинений, давших повод к антипольской истерии[482].
Последнюю часть постановления Политбюро от 11 апреля руководство НКИД исполнять не спешило. Вопрос о ней был поставлен на обсуждении Коллегии лишь 24 апреля. Коллегия НКИД признала «нецелесообразной посылку ноты Польше по поводу усилившейся кампании польской прессы», поскольку агрессивное поведение советской печати давало полякам множество поводов для ответных дипломатических демаршей, что поставило бы НКИД в неудобное положение. Вместо этого, подстраиваясь под общие директивы ЦК ВКП(б), Коллегия сочла необходимым «усилить и развить кампанию в нашей прессе»[483].
30 апреля по поручению МИД Польши С. Патек посетил НКИД для заявления протеста против распространения советской прессой ложных сведений об инциденте в Барановичах. Посланник «подчеркнул, что союзному правительству точно известен ход событий, в которых польские власти проявили максимум выдержки и доброй воли по отношению к психически больному человеку». Исполняющий обязанности наркома Л.М. Карахан подтвердил, что «советское правительство знает существо этого дела от начала и до конца, что не заявлял и не заявляет по нему никаких претензий, что напротив, [он. – Авт.] усматривает в нем со стороны Польского Правительства поведение, исполненное достоинства и понимания того, что оно является болезненным происшествием, вызванным помешательством несчастного человека». Отчасти оправдывая поведение советской печати, Карахан сослался на «некоторые агрессивные и острые» статьи в польской прессе, однако заверил посланника в том, что «уже предпринимаются и еще будут предприниматься шаги во избежание случаев, подобных тем, которые вызвали наш [польский. – Авт.] протест». В следующей беседе он сообщал Патеку, что «советское правительство» провело «целый ряд заседаний, в ходе которых члены Коллегии Наркоминдела, а в особенности Карахан и Стомоняков, должны были представлять специальные отчеты и объяснения» относительно тона польской прессы. Согласно Карахану, «исключительным беспокойством и тревогой наполняет их [ «членов правительства». – Авт.] то обстоятельство, что такое заострение тона прессы совпало с изменением состава Польского Правительства»[484]. Между тем, кабинет К. Свитальского был сформирован 14 апреля, спустя три дня после решения Политбюро «Об Апанасевиче».
18 апреля 1929 г.
Опросом членов Политбюро
5. – Об Эстонии (т.т. Стомоняков, Микоян)
а) Принять предложение Эстонии о вступлении в переговоры на предмет заключения торгового договора.
б) Назначить делегатами по ведению переговоров: полпреда т. Петровского и торгпреда т. Смирнова.
Протокол № 75 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 19.4.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 737. Л. 1.
Постановке этого вопроса на заседании Политбюро предшествовала обстоятельная беседа Б.С. Стомонякова с главой Наркомторга А.И. Микояном 6 апреля. В ходе ее были согласованы позиции НКИД и НКТ относительно заключения торгового договора с Эстонией[485]. Необходимость согласования обусловливалась отрицательной позицией аппарата НКТ к размещению в Эстонии дополнительных заказов, на чем настаивало руководство НКИД[486]. О возможности и желательности заключения торгового договора время от времени говорили на протяжении всего 1928 г. и в Таллине, и в Москве однако, наибольшую готовность обсуждать эту тему советская дипломатия проявила в период трудных переговоров о присоединении Эстонии к Московскому протоколу.
Заключение торгового договора с Эстонией рассматривалось в Москве как одна из мер, которая должна была способствовать улучшению двусторонних политических отношений, внешнеполитической переориентации широких общественных кругов Эстонии, а также позитивным изменениям в советско-финляндских отношениях. Состояние советско-эстонской торговли (с 1927 г. происходило быстрое уменьшение ее доли во внешней торговли Эстонии из-за сокращения заказов на эстонскую бумагу и советского экспорта зерновых) не могло не сказываться на настроениях политических кругов в Таллине. В решении Политбюро не зафиксированы какие-либо принципиальные положения о характере самого предполагаемого договора. Это, впрочем, не свидетельствует о том, что позиции НКИД и НКТ изначально совпадали, но, возможно, в ходе обсуждения на данном заседании вопроса о том, на какой основе будет построен договор (принцип контингентов или нетто-баланса), не обсуждался. В одном из своих писем полпред Петровский напоминал Стомонякову, что тот в разговоре с ним высказался против «активного торгового баланса с балтами», поскольку «ничтожная реальная польза (ввиду малого масштаба оборотов) от такой активности баланса отнюдь не компенсирует того большого политического вреда, который получится в результате ее»[487]. Однако в последовавших за решением ПБ указаниях Стомонякова полпреду указывалось на необходимость «решительным образом отвергать даже малейшие попытки… протаскивать принципы нетто-баланса или так называемой взаимности, хотя бы в самом урезанном виде»[488]. Стомоняков отвергал тезис полпреда о необходимости «платить» за хорошие отношения («Маленькое соседнее государство заинтересовано в том, чтобы поддерживать нормальные и даже “дружественные” отношения с нами даже и без всякой “платы”»), но признавал, что фактической причиной, вынуждавшей отказаться от «платы», являются скудные импортные возможности СССР[489].
Можно предположить, что в силу осведомленности как в способностях полпреда Петровского вести переговоры по торговым вопросам (инспектор НК РКИ Абезгауз так, например, характеризовал этого советского дипломата: «слабо знаком с коммерческими кругами и торговой жизнью страны и по личному признанию ничего в торговой деятельности не смыслит, однако, претендует чуть ли не на руководство всеми торговыми операциями… Болезненный, мнительный, полный сомнения»[490]), так и торгпреда Н.А. Смирнова, в Москве решили «усилить» делегацию начальником Договорно-правового управления НКТ М.Я. Кауфманом и заведующим торговым подотделом Экономическо-правового отдела НКИД Б.Д. Розенблюмом[491]. В эстонскую делегацию входили К. Пятс, П. Пиип, К. Варма и М. Хурт. Советской делегации удалось добиться подписания 17 мая 1929 г. более выгодного договора о торговле и мореплавании (ратифицированный ЦИК СССР 7 августа, договор вступил в силу 19 сентября), чем подготовленный летом договор с Грецией (советская сторона пошла в нем на такие формулировки в признании прав торгпредства, в которых было отказано эстонцам). Стомоняков в одном из писем даже указывал на возможность принесения в жертву договора с Грецией (в окончательном варианте получившего статус Конвенции) ради ратификации более выгодного договора с Эстонией[492].
30 апреля 1929 г.
Решение Политбюро.
2. – О Литве.
а) Предложить т. Литвинову не заезжать в Литву.
б) Предложить т. Литвинову приехать через Варшаву и остановиться в Варшаве, подняв там вопросы об антисоветской кампании в Польше.
в) Вопрос о Литве отложить.
Выписки посланы: т. Стомонякову.
Протокол № 78 (особый № 76) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 3.5.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 74.
Поручение М.М. Литвинову остановиться в Варшаве и поставить там «вопросы об антисоветской кампании в Польше» было, по всей вероятности, вызвано невыполнением НКИД решения Политбюро о направлении по этому поводу ноты протеста. 3 мая Политбюро отменило свое постановление от 30 апреля об остановке Литвинова в Варшаве[493]. Формулирование этого вопроса в повестке заседания («Вопросы т. Литвинова») указывает на вероятность того, что новое решение было принято по настоянию находившегося в Женеве и.о. наркома. Пересмотр постановления 30 апреля мог быть мотивирован как опасением чрезмерно обострить отношения с Каунасом, так и несогласием М.М. Литвинова принять навязываемую ему неблагодарную роль – протестовать против поведения польской печати в начатой Москвою пропагандистской войне (см. комментарий к решению 11.4.1929). Вероятно также, что отмена рабочего визита в Варшаву была связана с обострением, которое внесла в советско-германские отношения речь Ворошилова на первомайском параде. Одновременно с «вопросами т. Литвинова» Политбюро рассмотрело «заявление т. Карахана» и «обязало тт. Ворошилова и Бухарина внести изменения в печатный текст речи т. Ворошилова»[494]. Речь члена СНК СССР была опубликована в выхолощенном виде[495], но эта акция лишь умерила масштабы вызванной ей конфронтации. В этой обстановке встречи Литвинова с руководителями польского правительства могли внести дополнительное напряжение в отношениях с Германией
«Предложение» Литвинову отказаться от визита в Каунас было вызвано охлаждением отношений с Литвой. Советская инициатива заключения дополнительного протокола к пакту Бриана-Келлога, вопреки ожиданиям Москвы, усилила взаимное недоверие между СССР и Литвой, постепенно нараставшее с 1927 г.[496]. В Каунасе первоначально отнеслись одобрительно к идее Литвиновского протокола. При этом А. Вольдемарас рассматривал советскую инициативу как средство продемонстрировать агрессивные намерения Польши на востоке Европы, т. е. фактически стремился к ее срыву (в случае неудачи всей акции с подписанием протокола). Вольдемарас проигнорировал намек на желательность для Москвы, в силу ряда причин, получить от Литвы предложение о трехстороннем подписании протокола, а не довольствоваться польско-советским и советско-литовским протоколами[497]. Ряд «технических» промахов советских дипломатов, негативно сказавшихся на международном престиже Литвы, был использован Вольдемарасом для обвинений Москвы в предательстве. Литовский премьер воспользовался неудачным (хотя и вынужденным) шагом НКИД – публикацией коммюнике, в котором указывалось, что Литва была официально уведомлена об окончательном проекте протокола[498], что противоречило истинному положению дел (временный поверенный в делах СССР в Каунасе С.И. Рабинович передал этот текст «неофициально и конфиденциально»). В НКИД не могли согласиться с требованием Вольдемараса опубликовать опровержение, поскольку это грозило осложнениями в переговорах с Латвией. Но литовский премьер занял жесткую позицию: отказ в опровержении фактически разрушал иллюзию о поддержке его внешнеполитической линии со стороны Москвы и об исключительной близости двух стран, и на фоне ухудшения отношений с Германией, подчеркивал международную изоляцию Литвы.
25 февраля Вольдемарас заявил полпреду: «Скажу прямо – в наших отношениях наступил кризис доверия». Он обвинил СССР в готовности принять эвентуальное предложение Польши «о разделе Прибалтики»[499]. Со своей стороны, Антонов-Овсеенко позднее объяснял позицию Вольдемараса эгоистичным расчетом на ««бескорыстную заинтересованность» нашу в сохранении и усилении независимой Литвы»: «Он полагал возможным свободно «бряцать нашим оружием» и даже пытался нас ангажировать в предпринимаемых им антипольских кампаниях… он просто враждебно относился ко всему, что смягчало напряженность этих (т. е. советско-польских) отношений»[500]. Сохраняя неизменной свою позицию в отношении «польской оккупации Вильнюса», руководство НКИД отказалось обсуждать с Вольдемарасом возможность «уточнение договорных отношений» между Советским Союзом и Литвой[501]. Спустя два дня вопрос об «уточнении» снова оказался в повестке дня Коллегии: прежнее решение было, фактически, подтверждено.
Москве приходилось балансировать между неприятием навязываемых Вольдемарасом уступок и возможностью лишиться единственного крупного литовского политика, занимавшего последовательно антипольскую позицию. В НКИД с большой настороженностью воспринимали сообщения о полной политической изоляции Вольдемараса в Литве, тем более «мы в Литве настолько слабо противодействовали закреплению нам враждебных явлений, что сейчас здесь нет ни одной политической партии или группы, которая осмелилась не то, чтобы рекомендовать ориентацию на Москву, но просто оговаривать необходимость добрососедских отношений»[502]. Вместе с тем, в НКИД рассчитывали, что «от нашей помощи он все равно не откажется, несмотря ни на какие инциденты и престижные обиды»[503]. В апреле 1929 г. в Каунасе осознали, что отношения с Москвой оказались недопустимо натянутыми, и предложили «для уточнения отношений» устроить встречу Литвинова (по пути того в Женеву) с литовским руководством. Литовское правительство продолжало настаивать на визите, пусть даже кратком, напоминая, что путь через Каунас всего на три часа длиннее, а разрыв между приходом и отправлением поезда составляет одиннадцать часов.
После решения Политбюро о нежелательности визита и.о. наркома в столицу Литвы, НКИД продолжал поддерживать впечатление о возможности остановки Литвинова в Каунасе, дабы не обидеть Вольдемараса (и в расчете, что в последний момент М.М. Литвинов может отказаться от визита под предлогом плохого самочувствия). Полпред неодобрительно отнесся к решению «инстанции», он считал «чрезвычайно ошибочной эту политику чрезвычайного менажирования поляков» и предлагал устроить хотя бы визит Б.С. Стомонякова[504] (в 1928 г. уже посетившего Каунас для переговоров с главой кабинета).
3 мая 1929 г.
22. – О Нарвском водопаде (т.т. Рыков, Стомоняков).
Утвердить постановление совещания Председателя СНК и СТО с его заместителями от 30.IV.29 г.
Протокол № 78 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 3.5.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 738. Л. 5.
В конце 20-х гг. в Эстонии стал активно обсуждаться вопрос об использовании вод реки Наровы для увеличения производства электроэнергии. Рентабельность данного проекта не могло повысить даже возможное расширение производства Кренгольмской мануфактуры. В связи с этим возникали различные планы использования излишков электроэнергии, в том числе и создание крупных предприятий по переработке леса. Последний в необходимых количествах можно было получить только из СССР. К проекту проявили интерес английские, французские и германские деловые круги. Москву, стремившуюся укрепить свое влияние в Эстонии, не устраивало дополнительное привлечение английских и французских капиталов. Как свидетельствует служебная записка заведующей Секретариатом Управления делами СНК СССР и СТО Е. Веприцкой, советская сторона считала поставку леса в принципе возможной. На совещании Председателя СНК и СТО с его заместителями[505] было решено поручить НКИД довести до сведения эстонского правительства, что правительство СССР «готово заключить с ним договор о длительном обеспечении проектируемого Нарвского комбината советским сырьем-балансами». На Наркомат торговли возлагалось ведение соответствующих переговоров «с тем, чтобы договор был заключен от имени Союзного правительства» и предусматривал «доставку балансов по 30 тыс. куб. саж[еней] ежегодно в течение 25–30 лет»[506].
Получение Эстонией информации о готовности СССР вести переговоры о поставках балансов вызвало интерес деловых кругов. В июне 1929 г. стал активно обсуждаться вопрос о составе эстонской делегации на предстоящих переговорах и поездке ее в Москву. Полпред А.М. Петровский ратовал за включение в состав делегации К. Пятса. Однако Стомоняков отнесся к этому с осторожностью: «Само собой, разумеется, было бы очень нежелательно из-за удовольствия видеть Пятса в Москве и из-за удобства вести переговоры с дальновидным политиком потерять потом влиятельного сторонника эстонско-советского сближения»[507]. Позднее он изменил свою позицию, считая при этом, что следует принять меры к тому, чтобы политический авторитет Пятса не пострадал[508]. Забота об авторитете Пятса была вызвана, скорее всего, тем, что к тому времени в НКИД было известно о позиции Наркомторга, который не был расположен предлагать Эстонии выгодные для нее условия соглашения (особых затруднений со сбытом леса на европейском рынке у СССР не было).
Переговоры так и не состоялись. Тем не менее, с эстонской стороны не оставляли попыток заинтересовать Москву проектом использования Нарвского водопада. В беседе с Ф.Ф. Раскольниковым в марте 1930 г. Пятс предложил построить эстонско-советский завод по производству селитры, с последующей ее реализацией в Латвии, Литве и Финляндии[509]. Несмотря на хроническую нехватку сырья для советской военной промышленности, этот проект не был реализован.
16 мая 1929 г.
1. – Об опубликовании документов (т. Литвинов).
Считать целесообразным опубликование в первую очередь франко-польской военной конвенции в газете «Moskauer Rundshau».
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 80 (особый № 78) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.5.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 80.
Вопрос «о документах» впервые появился в повестке дня Политбюро несколькими днями ранее. Инициатор обсуждения этой темы в протоколе не указан, неизвестно также, по каким каналам в Москву поступили материалы о секретных соглашениях между Польшей и Францией. Вероятно, они явились частью новых приобретений IV Управления Штаба РККА, а передача их Ворошиловым Сталину послужила исходным пунктом решений Политбюро. «Франко-пол[ьский] и франко-рум[ынский] договора следовало бы предварительно прочесть членам П. Б. и кому-либо из НКИД, – отвечал Сталин наркомвоенмору. – Без этого не следует их публиковать»[510]. В результате 13 мая «решением Политбюро» Бухарину, Ворошилову и Литвинову было поручено «рассмотреть вопрос об опубликовании документов»[511], тремя днями позже руководитель НКИД представил Политбюро заключение этой временной комиссии. Отличалось ли оно от окончательного решения Политбюро, установить не удалось.
Тексты «франко-польской военной конвенции» и «дополнения к франко-польской военной конвенции» были опубликованы в «Moskauer Rundshau» под общим заголовком «Wie Kriege Vorbereitet Werden»[512]. Это периодическое издание начало выходить в Москве 18 мая 1929 г. Решение «об издании журнала на иностранном языке» было принято после двукратного рассмотрения этого вопроса на заседаниях Политбюро в ноябре 1928 г. по представлению наркома Литвинова и заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Криницкого[513]. Официальным издателем обозрения выступал бывший посланник Австрии в СССР О. Поль, в прошлом активно сотрудничавший с венской печатью.
Публикация в «Moskauer Rundshau» 25 мая была анонсирована в «Известиях», которые на следующий день перепечатали тексты «конвенции» и «дополнений», снабдив их редакционным комментарием[514]. Первый из «документов» (якобы за подписями Фоша и Сикорского) был датирован 15 сентября 1922 г., второй – 12 мая 1923 (сопровождался подписями Фоша, Панафье, Скшиньского и Соснковского). Судя по публикации, советскому руководству оставалось неизвестно ни точное содержание секретной военной конвенции между Францией и Польшей, ни время ее заключения. В опубликованном советской печатью тексте упоминалось о некоем «предварительном соглашении» февраля 1921 г., тогда как в действительности 19 февраля 1921 г. в ходе визита Ю. Пилсудского и К. Соснковского в Париж военными представителями двух стран была подписана военная конвенция и приложение к ней. С другой стороны, советские источники преувеличили значимость длительных переговоров начальника Генерального штаба В. Сикорского с его французскими коллегами в сентябре-октябре 1922 г., в результате которых стороны подписали R?sum?, уточнявшее содержание конвенции 1921 г. В итоге следующей франко-польской конференции руководителей вооруженных сил 13 мая 1923 г. в Кракове был утвержден новый текст R?sum? (два из пяти разделов документа 1922 г. не подверглись пересмотру)[515]. Наиболее существенные отступления опубликованных по решению Политбюро материалов от общего смысла франко-польской конвенции и R?sum? 1922–1923 гг. состояли в трактовке обязательств Польши в отношении Франции. Польское правительство якобы обязалось «в случае нападения Германии на территорию Франции действовать согласно указаний французского генерального штаба» (ст. 5 «конвенции») и даже в мирное время «признало необходимым не делать в вопросах народной обороны серьезных шагов, не снесясь предварительно с французской военной миссией в Польше, которая в каждом отдельном случае запросит мнение французского генерального штаба». Французские обязательства перед союзником в случае нападения на него со стороны СССР были представлены сравнительно достоверно, хотя и расширительно по сравнению с действительными (ст. 10 «конвенции» содержала, в частности, обязательство Франции оказать поддержку «увеличением числа польского командного состава резервными офицерами и унтер-офицерами»). Советская пропагандистская акция вызвала опровержения официальных агентств Франции и Польши (Гавас, ПАТ), на что Москва реагировала с заранее продуманной усмешкой[516].
Основной тезис редакционных комментариев в «Moskauer Rundshau» и «Известиях» акцентировал присущий опубликованным текстам перекос и обнаруживал, вероятно, главный мотив их обнародования: «С момента подписания версальского мира Польшу называют вассалом Франции. Теперь это название находит свое полное подтверждение при помощи документальных данных». Таким образом, решение Политбюро было направлено на дискредитацию польской политики в Восточной Европе, представление Польши в качестве подчиненного, неспособного к проведению самостоятельного политического курса государства. Публикация в «Moskauer Rundshau» вносила осложнения в отношения Польши с Францией, с середины 1920-х гг. последовательно стремившейся к ослаблению союзных связей с нею (включая пересмотр военной конвенции), а также с Румынией. Согласно агентурным материалам IV Управления Штаба РККА, на протяжении 1928 г. Варшавой «предпринимались энергичные шаги для расширения существующего оборонительного договора и заключения оборонительно-наступательного союза против СССР», но «это стремление Польши, якобы, встречает энергичный отпор со стороны румынского правительства»[517]. В этом контексте отсутствие в постановлении Политбюро указаний о публикации «польско-румынского договора» (упомянутого в записке Сталина Ворошилову) может быть объяснено не низким качеством полученного текста, а сознательным желанием не задевать Румынии и стимулировать разногласия между Варшавой и Бухарестом.
Обнародование документов облегчало задачу оправдать новую волну советских нападок на Варшаву[518]. Советское руководство стремилось доказать, что не оно, а «новое польское правительство сходит с почвы Московского протокола», однако заявивший об этом председатель Совнаркома СССР мог сослаться лишь на «смягчение приговора белогвардейцу Войтовскому» (в 1928 г. покушавшемуся на торгпреда Лизарева) и на «клеветническую кампанию польской печати против СССР»[519]. О конъюнктурности публикации свидетельствует тот факт, что несколько месяцев спустя советская пропаганда как бы забыла об этих «документальных данных» и вместо использования текстов 1929 года предпочитала трактовать франко-польский союз в самых общих выражениях.
По всей вероятности, решение Политбюро учитывало также достижение к середине мая 1929 г. немецко-французского соглашения о репарационных платежах по плану Юнга при одновременном ухудшении отношений СССР и Германии (под воздействием первомайских событий в Берлине). Советский официоз повторял заверения в верности СССР сотрудничеству с Германией, критиковал оживившееся в мае 1929 г. стремление «части германского политического мира» «рассматривать политику Рапалло как объект для сделки» с Францией и на одном дыхании (и без всякой видимой связи с проблемами советско-немецких отношений) поминал неназванные «военно-политические соглашения» «буржуазных стран»[520]. Публикуя «документы» франко-польского союза (в которых к тому же акцентировалась трактовка Германии как основного противника), Москва напоминала Берлину о существовании их общих интересов перед лицом версальских держав.
23 мая 1929 г.
4. – О Литве (ПБ от 30.IV.29 г., пр. № 78, п. 28).
(тт. Литвинов, Стомоняков, Антонов-Овсеенко, Галанин).
Принять предложение т. Литвинова а) о подписании согласительной конвенции с Литвой на 7 лет и пролонгации договора о ненападении еще на 5 лет и б) о подтверждении «джентльменского соглашения» с Литвой о взаимной информации в отношении Польши и Прибалтики.
Выписки посланы: т. Литвинову.
Протокол № 81 (особый № 79) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 23.5.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 82.
По всей видимости, на заседании Политбюро удалось примирить разногласия в руководстве НКИД по поводу путей преодоления напряженности, возникшей в советско-литовских отношениях в ходе переговоров о Московском протоколе в начале 1929 г.[521] Поворот в сторону Каунаса был в первую очередь обусловлен тем, что политическое руководство СССР, недовольное уступчивостью НКИД, допущенной в переговорах о Московском протоколе, с середины апреля взяло курс на провоцирование напряженности в отношениях с Польше[522]. Еще до заседания, 14 мая Стомоняков провел опросом членов Коллегии постановление о вызове в Москву полпреда Антонова-Овсеенко, который, скорее всего, являлся сторонником подобных мер, хотя до истечения срока договора о ненападении оставалось еще около полутора лет. При вызове полпреду было предложено взять с собой все материалы и «мобилизовать всю аргументацию для защиты необходимости пойти навстречу литовским предложениям». Б.С. Стомоняков высказывал опасение, что отклонение литовских предложений может подтолкнуть Вольдемараса на уступки Польше[523].
Заключенный в 1926 г. советско-литовский договор о ненападении не содержал в себе статей, определяющих процедуру решения конфликтных вопросов двусторонних отношений; литовская сторона неоднократно указывала на необходимость заключения особой согласительной конвенции, в которой эта процедура была бы определена. Срок договора о ненападении истекал в 1931 г. В случае пролонгации договора на пять лет, срок его действия закончился бы в 1936 г. Этим обусловливался 7-летний срок, на который было бы необходимо заключить согласительную конвенцию.
Джентльменское соглашение, достигнутое между советским и литовским правительствами в 1926 г., предусматривало обмен информацией по международным проблемам, представляющим интерес для обеих сторон. Основой для этой устной договоренности явилось предложение о координации политики в отношении Польши, сделанное президентом Литвы А. Стулгинскисом и главой литовского МИД М. Рейнюсом во время визита в Каунас Г.В. Чичерина 23 декабря 1925 г.[524]. С конца 1927 г. джентльменское соглашение фактически не выполнялось.
Можно предположить, что инициатива НКИД и быстрое одобрение ее Политбюро в значительной степени явились реакцией на неудавшееся покушение на А. Вольдемараса в начале мая. В Москве считали (и не безосновательно) вполне вероятным, что за его устранением с политической сцены может последовать смягчение польско-литовских противоречий, и Каунас пойдет на значительные уступки в виленском вопросе, снимая тем самым одно из главных препятствий на пути создания большого балтийского блока под эгидой Польши. Такое развитие ситуации в Москве казалось тем более опасным, что, как признавали Литвинов и Стомоняков, СССР не располагал практическими возможностями воздействовать на внутриполитическую ситуацию в Литве. Данное решение Политбюро, так же как и предпринимавшиеся попытки улучшения латвийско-литовских отношений, должны были, по мнению руководства НКИД, упрочить международные позиции Литвы, а, следовательно, и положение премьера Вольдемараса.
Присутствие на заседании Политбюро торгпреда в Каунасе Галанина позволяет предположить, что первоначально рассматривался более широкий круг мероприятий, направленных на улучшение отношений с Литвой. Возможно, обдумывалась возможность увеличения закупок в Литве сельскохозяйственной продукции.
30 мая 1929 г.
6. – О Латвии (т. Литвинов).
Принять предложение НКИД о кандидатуре Весмана на должность латвийского посланника в СССР.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 82 (особый № 80) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.5.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 84.
Вопрос о кандидатуре нового латвийского посланника возник после того, как правительство Латвии было вынуждено отозвать своего посланника К.В. Озолса (окончательное решение об отзыве было принято Ригой в апреле 1929 г.). Озолс продемонстрировал отсутствие необходимых дипломату качеств, в результате чего его взаимоотношения с НКИД к осени 1928 г. оказались весьма натянутыми. В качестве официального повода для постановки вопроса об отозвании Озолса перед правительством Латвии советская сторона использовала неблаговидные поступки дипломата, которые можно было квалифицировать как покушение на контрабанду[525]. В латвийском МИДе уже в январе 1929 г. пришли к мнению о желательности его замены. Главным препятствием оказалось не столько нежелание Озолса добровольно уйти с этого поста, сколько трудность подыскания подходящей кандидатуры его преемника. Исходя из внутриполитических условий в правительственных кругах Латвии, рассматривались кандидатуры посланника в Стокгольме Зарина, посланника в Варшаве Нукши. Называлось и имя посланника в Лондоне Ф. Весмана. Кандидатура последнего не считалась вполне приемлемой для СССР, поскольку по своей партийной принадлежности он был социал-демократом. В беседах фигурировало и имя латвийского посланника в Таллине Сескиса, от которого официальные круги Эстонии стремились избавиться, так как он поддерживал исключительно дружеские отношения с советским полпредом Петровским (Сескис, в конце концов, занял пост посланника Латвии в Москве)[526].
В Москве считали желательным назначение посланником кого-либо из сторонников лидера Крестьянского союза К. Ульманиса. Полпред И.Л. Лоренц неоднократно беседовал на эту тему с Ульманисом, в марте 1929 г. он прямо заявил ему: «мы ждем еще той кандидатуры, которую назовет Крест[ьянский] Союз», и намекнул на кандидатуру Сескиса[527]. Консультации с Ульманисом были частью усилий Москвы завоевать симпатии Крестьянского Союза и включавших предоставление близким ему организациям кредитов и заказов, чтобы «дать заработать» партии Ульманиса. Полпред СССР в Латвии И.Л. Лоренц отмечал, что как реальный политик Ульманис понимает необходимость хороших отношений с СССР, но это противоречит его политическим установкам; в силу этого он не хотел ангажироваться в вопросе о назначении посланника в Москву[528].
Кандидатура Весмана была предложена полпреду Лоренцу видным деятелем латвийской социал-демократической партии Бушевицем в середине мая 1929 г. Бушевиц полагал, что отрицательное отношение многих членов ЦК к Весману может быть устранено известием, что в Москве к этой кандидатуре относятся положительно[529]. Бушевиц выразил готовность переговорить на эту тему с супругой Весмана и даже написать посланнику в Лондон. Эта идея возникла у Бушевица спонтанно (во время продолжительного пребывания Весмана в Риге в апреле с ним на эту тему не беседовали). Однако подобное предложение не было для полпреда неожиданным: еще в начале января 1929 г. он сам обращался с просьбой высказать мнение по поводу возможной кандидатуры посланника к ряду лидеров латвийской социал-демократии. Отсутствие иных кандидатур вынудило НКИД поставить этот вопрос на обсуждение Политбюро. НКИД требовалась санкция: предпринимать или нет какие-либо шаги в Риге по поводу возможного назначения Ф. Весмана. Однако в силу внутри– и межпартийных противоречий Весман так и не стал посланником в Москве.
Представляет интерес сам факт обсуждения на Политбюро кандидатуры главы миссии Латвии в СССР. За 1929–1934 гг. Политбюро рассматривало подобные вопросы лишь дважды[530]. В случае с Весманом НКИД, скорее всего, исходил не из оценки лояльности по отношению к Советской России возможного посланника, а из необходимости решения более важной задачи. В НКИД не раз выражали обеспокоенность тем, что у СССР нет сколько-нибудь прочной опоры в политических кругах Латвии. Многолетний флирт с Крестьянским союзом Ульманиса – одной из немногих крупных партий Латвии (оказание различных видов финансовой поддержки кооперативным предприятиям этой партии, часто попадавшим в затруднительные ситуации, лично Ульманису) должен был способствовать созданию такой опоры. Фактический отказ Ульманиса предложить кандидатуру посланника от своей партии (несмотря на сложную экономическую ситуацию в Латвии, сказывавшуюся на благополучии предприятий Крестьянского союза) свидетельствовал, что НКИД не добился в этом успеха. Москва была вынуждена сделать шаг назад и согласиться на кандидатуру представителя от социал-демократической партии, отношение к которой (за исключением отдельных представителей ее левого крыла) было настороженным.
17 июня 1929 г.
Решение Политбюро
31. – О ноте т. Карклина.
Объявить выговор представителю НКИД в Тифлисе т. Карклину за то, что он послал ноту польскому послу, без ведома НКИД.
Протокол № 85 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.6.29. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 745. Л. 5.
Начатая в связи с «делом Апанасевича» кампания в советской печати вызвала ужесточение тона польской прессы. В конце мая официальные лица Польши, включая начальника Восточного отдела МИД Т. Голувко, приняли участие в праздновании годовщины независимости Грузии (вечере воспоминаний, организованном грузинскими меньшевиками). В первой половине июня 1929 г. в Грузии и других закавказских советских республиках была проведена серия акций против поддержки Польшей грузинской политической эмиграции, причем Коллегия НКИД решила «не возражать» против предполагаемых протестов «грузинской общественности»[531]. Их кульминацией стали две десятитыс. ные «стихийные демонстрации протеста», главным лозунгом которых было «удаление польского консульства из Тифлиса». Дело дошло до оскорбления польского государственного герба на фасаде здания консульства. «В ответ на вызывающие провокационные выходки отдельных сотрудников польского консульства, провокационно хватавшихся за оружие, возбужденные демонстранты стали бросать в здание консульства тухлые яйца», выбивать стекла[532].
На официальный протест польского генконсула в Тифлисе представитель НКИД СССР при Совнаркоме ЗСФСР Карклин ответил нотой, в которой вся вина за происшедшие эксцессы возлагалась на политику правительства Польши и поведение сотрудников консульства. Она была направлена без согласования с НКИД и адресована генеральному консулу Польши в Тифлисе (а не «польскому послу», как зафиксировано в решении Политбюро)[533]. Содержание ноты установить не удалось (вероятно, в ней выдвигалось требование от отзыве из Тифлиса польского консула и его сотрудников).
Решение Политбюро об объявлении выговора Карклину отражает как борьбу союзного наркомата иностранных дел с вмешательством республиканских властей в сношения СССР с иностранными государствами, так и осознание необходимости умерить остроту антипольской кампании. 10 июня, в день проведения первой массовой демонстрации в Тифлисе при обсуждении этого вопроса на Коллегии НКИД Л.М. Карахан решился на формулирование «особого мнения» по поводу принятого постановления: «Я не согласен с тем, чтобы «взять курс на энергичное разоблачение [ «воинственных и авантюристических действий и замыслов нынешнего польского правительства»] в нашей прессе, ибо при и без того чрезмерном месте, уделяемом прессой Польше, такая директива превратится в бешеную кампанию против Польши, что считаю нецелесообразным»[534].
События в столице Грузии подтвердили оценки Карахана: эти эксцессы «принесли нам серьезный вред и улучшили тактическую позицию поляков», которые, признавал Стомоняков, получили «внешнюю возможность утверждать, что агрессивны мы, а не они». НКИД был вынужден «значительно изменить нашу линию». Исполняющий обязанности наркома Карахан в официальной форме выразил посланнику Патеку сожаления по поводу тифлисских происшествий. Одновременно представителю в ЗСФСР поручалось заявить, не дезавуируя содержания ноты польскому генконсулу, что «само собой, разумеется», «он, Карклин, осуждает подобные формы протестов и сожалеет, что они имели место»[535]. С середины июня анти польская пропагандистская волна в центральных и республиканских органа: печати начала спадать.
27 июня 1929 г.
4. – О процессе сотрудника латвийской миссии (т.т. Стомоняков, Ягода).
а) Принять предложение НКИД о постановке процесса латвийской миссии.
б) Поручить т. Янсону наблюсти за достаточно тщательной подготовкой и ведением этого процесса
Выписки посланы: т.т. Стомонякову, Янсону, Ягоде.
Протокол № 86 (особый № 84) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 27.6.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. On.162. Д. 7. Л. 93.
В течение 1928–1929 гг. латвийские граждане, в том числе и сотрудник латвийской миссии Москве, неоднократно обвинялись советскими властям в контрабанде (дипломатическим багажом провозились товары, продававшиеся затем на московских рынках), в скупке валюты и других операция с валютой. Как правило, посланник Озолс брал своих коллег под защиту даже в случае доказанности их незаконных действий, что вызывало брезгливо-презрительное отношение к нему со стороны НКИД. Ранее в CCCР состоялось несколько судебных процессов над латвийскими гражданам (коммерческий советник Блюменталь, Канек, др.).
Новый судебный процесс был проведен в августе 1929 г. Главным действующими лицами на нем были граждане Латвии Мауринш и Ашман (сотрудник Торгового бюро Латвии в Москве)[536]. Поскольку к тому времен покровительствовавший им Озолс покинул СССР, в июне 1929 г. у советских властей, по всей вероятности, возникли сомнения в политической целесообразности «постановки процесса». По следам решения Политбюро Б.С. Стомоняков поручил полпредству в Берлине устроить публикацию в немецкой печати документальных данных, разоблачающих «контрабанду и спекуляцию латышей», обеспечив соблюдение в секрете того факта, что документы переданы советской стороной[537], тогда как обеспокоенный полпред в Риге, признавая незнание материалов дела, настаивал на желательности скорого освобождения обвиняемых[538].
В результате завершившегося в конце августа судебного процесса Мауринш был осужден на полтора года, постановление по делу другого обвиняемого в печати не упоминалось.
12 августа 1929 г. Решение Политбюро
29. – Предложение т. Антонова-Овсеенко.
а) Не возражать против предложения НКИД о том, чтобы т. Антонов-Овсеенко в частном порядке попытался воздействовать на Вольдемараса с целью отмены смертного приговора над двумя литовскими коммунистами.
б) Вопрос о прилете литовской эскадрильи отложить и решить после решения Вольдемараса о двух литовских коммунистах.
Выписки посланы: т.т. Стомонякову, Уншлихту.
Протокол № 93 (особый № 91) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.8.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 133.
9 августа 1929 г. в Литве закончилось слушание дела о нелегальной коммунистической типографии. По приговору суда были осуждены пять человек, из которых двое были приговорены к смертной казни. Предложение советского полпреда в Литве В.А. Антонова-Овсеенко (он находился тогда в Москве), поддержанное в НКИД, заключалось в том, чтобы в неофициальной беседе затронуть вопрос о помиловании приговоренных к смертной казни. Глава литовского правительства Вольдемарас вплоть до своей отставки в сентябре 1929 г. стремился уйти от принятия решения, ссылаясь на формальные причины (отсутствие обращения осужденных к президенту с просьбой о помиловании).
Правда, в конечном итоге приговор так и не был приведен в исполнение. Приговор коммунистам был вынесен литовскими властями в преддверии визита в Мемель советских эскадренных миноносцев (инициатива была проявлена советской стороной, вероятно – НКВМ; постановления Политбюро по этому вопросу выявить не удалось). Вероятно, тем самым правительство Вольдемараса стремилось продемонстрировать «равноправие» Литвы в отношении Советского Союза.
С визитом советских военных судов оказалось связано и предложение о прилете литовской военной эскадрильи в Москву. В середине июля полпред Антонов-Овсеенко получил поручение НКИД «запросить официально согласие лит[овского] пра[вительства]» на посещение Мемеля «около 20 августа» 2–4 эскадренными миноносцами, «которые предполагают остаться там от 3 до 5 суток»[539]. В ответ Вольдемарас выдвинул предложение о сопровождении советских кораблей несколькими гидропланами и о последующем ответном визите литовских самолетов в СССР. Вольдемарас сразу сообщил о предложении Москвы президенту Сметоне и высшему военному руководству[540]. 7 августа, т. е. еще до вынесения смертного приговора коммунистам, Стомоняков сообщал поверенному в делах СССР в Каунасе, что Коллегия НКИД высказалась против «сопровождения наших крейсеров [sic] при их заходе в Мемельский порт советскими гидропланами, а также против осуществления идеи Вольдемараса об ответном визите». Это решение объяснялось нежеланием поддерживать создаваемое Вольдемарасом в Европе представление об особо тесных отношениях между СССР и Литвой («чуть ли не о военном союзе») и вносить «новые моменты раздражения и волнения в советско-польские отношения»[541]. Заинтересованность Вольдемараса в прилете советских самолетов, по мнению исполнявшего обязанности начальника 1 Западного отдела Боркусевича, объяснялась тем, что за неимением своего собственного флота, Литва не могла должным образом ответить на этот визит. Действительно, Литва, получив приглашение на торжества по случаю 10-летия военно-морского флота Латвии (июнь 1929 г.), не прислала ни одного судна.
Приведенные НКИД аргументы, вероятно, оказались не единственным фактором, учитывавшимся Политбюро при вынесении решения. Требование смертного приговора литовским коммунистам означало нечто большее, чем репрессии против товарищей по борьбе. Исход процесса (вынесение смертных приговоров накануне визита Балтфлота в литовский порт) мог стать ударом по советскому престижу. Возможно, по этой причине, 8 августа Политбюро постановило «отложить» окончательное решение, а 12 августа обусловило возвращение к обсуждению этого вопроса помилованием литовских коммунистов. Тем не менее, предложение о визите литовской эскадрильи оказалось внесено в повестку дня двух последующих заседаний Политбюро (15 и 22 августа)[542]. Остается неясным, было ли это вызвано договоренностью о постоянном слежении за выполнением решения от 12 августа или настойчивостью НКВМ, заинтересованным в проведении плановых учений военных судов. Отношение НКИД к прилету литовской эскадрильи оставалось отрицательным. Руководитель 1 Западного отдела отмечал, что несогласованность предполагаемого визита с ведомствами и угрозу приведения в исполнение смертного приговора рассматриваются как препятствия к решению этого вопроса[543].
Смещение Вольдемараса в сентябре 1929 г. вызвало в Москве подозрения о возможных изменениях во внешнеполитической ориентации Литвы и похоронило выдвинутый им проект дополнительной демонстрации дружественных отношений СССР и Литвы. К вопросу о ней Политбюро более не возвращалось, состоявшийся в середине августа заход судов Балтийского флота в Мемель явился повторением ежегодных «заграничных учебных походов» советских военных судов.
5 января 1930 г.
Опросом членов Политбюро
64. – О Польше.
Принять предложение НКИД.
Протокол № 112 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.1.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 771. Л. 11.
Вероятно, голосование опросом было проведено при проведении заседания Политбюро 5 января 1930 г., в котором принимали участие Ворошилов, Куйбышев, Рудзутак, Рыков, Сталин, Томский. Содержание решения установить не удалось. Возможно, оно было связано с обстоятельствами выезда в Варшаву Антонова-Овсеенко и определяло линию поведения в случае ответных мер со стороны польского правительства на высылку двух сотрудников консульства в Киеве[544].
25 января 1930 г.
7. – Об Эстонии (ПБ от 15.1.-30 г., пр. № 113, п. 24) (т.т. Литвинов, Каганович).
а) Разрешить коллегии НКИД пригласить в Москву эстонского министра иностранных дел Латтика.
б) Назначить полпредом в Эстонии т. Раскольникова.
Выписки посланы: т. Литвинову – все, т.т. Горбунову, Москвину, Бубнову – б.
Протокол № 115 (особый № 113) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.1.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. On. 162. Д. 8. Л. 52.
Решение о приглашении в Москву министра иностранных дел Эстонии Я. Латтика было вызвано беспокойством, которое породила в советских политических кругах активизация польско-эстонских отношений в конце 1929 – начале 1930 г. Избрание главой эстонского государства О. Штрандмана в НКИД встретили с настороженностью. Двумя годами ранее на Кузнецком мосту считали кандидатуру Штрандмана наиболее подходящей в качестве посланника Эстонии в СССР. Однако за годы работы в Варшаве посланник Штрандман проявил себя последовательным сторонником развития отношений с Польшей[545]. После своего избрания О. Штрандман выразил намерение нанести в феврале 1930 г. государственный визит в Варшаву (главной целью визита считал укрепление военных связей с Польшей[546]).
Сообщение о предстоящих переговорах в Варшаве было воспринято Москвой, как попытка воскресить идею создания Большого Прибалтийского блока (Польша, Латвия, Эстония и Финляндия). 21 января 1930 г. Стомоняков пригласил к себе эстонского посланника Ю. Сельямаа и заявил ему, что советской стороне приходится сожалеть об «опрометчивом» решении эстонского правительства, «которое набрасывает новую тень» на отношения Ревеля и Москвы. Посланнику было буквально заявлено следующее: «Мы никогда не требовали от Эстонии, чтобы она ориентировалась на нас, или чтобы она вела нашу политику. Мы не только искренне примирились с независимостью Эстонии и Латвии, мы постепенно пришли к непоколебимому убеждению, что в наших интересах, чтобы наши транзитные пути на запад находились в руках действительно самостоятельных и ни от кого не зависимых Прибалтийских государств. Эстонцы не должны забывать, в какое положение они попадут, если они будут связаны с Польшей, в то время, когда Польша полезет воевать с нами»[547].
Не имея возможности помешать государственному визиту Штрандмана, советское руководство попыталось ослабить его значение и побудить Эстонию продемонстрировать понимание необходимости считаться с восточным соседом. Руководителя МИД Эстонии Я. Латтика советские дипломаты воспринимали как новую фигуру на сцене иностранной политики, который ничего нового в эту политику не внесет, но которого «давняя и реализовавшаяся теперь мечта стать мининделом заставит чутко прислушиваться к настроениям общественного мнения»[548]. Понимая, что шансы добиться его приезда в СССР невелики, НКИД не желал придавать факту приглашения Латтика широкой огласки. Когда в феврале 1930 г. занявший пост полпреда в Ковно А.М. Петровский в порядке джентльменского соглашения о «взаимоинформировании» упомянул о факте приглашения Латтика, то получил выговор из Москвы. Б.С. Стомоняков потребовал от него сообщить министру иностранных дел Литвы Д. Зауниусу, что идея с приглашением принадлежала именно ему, Петровскому, но Москвой одобрена не была из-за вылившейся в «яркую демонстрацию близости» Эстонии и Польши подготовку визита Штрандмана в Варшаву[549].
Действительно, Таллин уклонился от этого приглашения, и визит эстонского министра в Москву не состоялся. Покидая Ревель (во время приезда из Москвы для сдачи дел преемнику 31 января 1930 г.), Петровский нанес визит Пятсу – единственному видному политическому деятелю Эстонии, на поддержку которого могли рассчитывать в Москве. При проводах Петровского Я. Латтик отсутствовал (якобы из-за болезни жены; как сообщила советскому дипломату супруга Лайдонера, глава МИДа просто уехал на охоту с ее мужем)[550].
Содержание постановления Политбюро позволяет считать, что советские руководители не питали больших иллюзий относительно своей способности помешать эстонско-польскому сближению, поскольку дружественный жест (приглашение Латтика) сочетался с демонстрацией пренебрежения и раздражительности (назначением полпредом Раскольникова – persona ingrata для Таллина[551]). Неудача попыток воздействовать на эстонскую внешнюю политику путем применения психологического кнута и предложения пряника политического гостеприимства усугубили ощущение международной изоляции СССР в начале 1930 г.[552] На варшавский визит Штрандмана Москва откликнулась нападками в прессе и предложением отложить визит эстонской экономической делегации в СССР[553].
25 января 1930 г.
13. – О Польше (т. Литвинов).
а) Предложить т. Антонову-Овсеенко немедленно пойти к министру и вручить ему верительные грамоты.
б) Принять предложение НКИД в связи с требованием польского правительства об отзыве 4-х сотрудников полпредства.
в) Указать т. Антонову-Овсеенко, что в своих действиях он должен руководствоваться не чувствами обиды или соображениями престижа, а политическим расчетом, который состоит в том, что мы не заинтересованы в данный момент в обострении отношений с поляками.
Выписки посланы: т. Литвинову.
Протокол № 115 (особый № 113) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.1.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 8. Л. 53.
В.А. Антонов-Овсеенко был назначен полпредом СССР в Польше 25 декабря 1929 г.[554] и уже через три недели прибыл в Варшаву. Его приезд был ускорен по настоянию руководства НКИД в связи с возникшим в середине декабря конфликтом из-за обвинения двух сотрудников консульства Польши в Киеве в военном шпионаже. Официальное требование об их высылке из СССР на основании ст. 4 Консульской конвенции было предъявлено польской миссии в Москве 17 января 1930 г. В Наркоминделе не сомневались, что польская сторона предпримет ответные действия против представительства СССР в Варшаве. Антонову-Овсеенко поручалось поскорее предстать перед официальными польскими лицами, которые, следуя правилам вежливости и не желая с самого начала обострять взаимоотношения с новым посланником, будут вынуждены ограничить «намечающуюся контракцию». Стомоняков рекомендовал «немедля по приезде повидать Залеского и убедить его отказаться от подобных намерений». Если же «поляки потребуют без [объяснения. – Авт.] мотивов высылки наших сотрудников, мы ответим тем же», инструктировал полпреда Стомоняков[555].
Этот план не удался. Новый советский посланник не был встречен на вокзале представителями МИД Польши, что он расценил как «демонстрацию пренебрежения». Основанием для поведения МИД служило введение порядка, согласно которому МИД Польши не принимает участия во встрече посланников. Конфликтная ситуация в связи с арестами в Киеве не благоприятствовала тому, чтобы сделать для советского посланника исключение (как то было предпринято Варшавой в отношении новых посланников Эстонии и Румынии). Однако, по мнению Антонова-Овсеенко, существо дела состояло в попытке поставить его «в исключительно унизительное положение, подрывая его политический вес», и тем самым помешать ему исполнять обязанности представителя СССР. Антонов-Овсеенко предложил НКИД действовать следующим образом: «Коцюбинский потребует объяснений и лично передо мной извинений, заявив, что иначе я выезжаю в Берлин, где и буду выжидать, когда Мининдел принесет свое извинение и т. д.». «Минимальнейшим решением» он считал «воздержание от официальных визитов до принесения мне извинения»[556]. 23 января заместитель министра иностранных дел А. Высоцкий потребовал выезда из Польши четырех сотрудников полпредства и торгпредства. Польские власти располагали материалами о проводимом этими сотрудниками шпионаже, но, не желая «раздувать дела», намеревались выслать их без огласки и без указания причин[557]. В соответствии с предшествующими установками Центра на жесткое противостояние полякам, Антонов-Овсеенко предлагал не соглашаться с намеченной МИД процедурой и потребовать объяснений.
Коллегия НКИД отказалась одобрить эту линию поведения, но ввиду проявленной полпредом настойчивости, «внесла в экстренном порядке на Сессию вопрос о формах нашего реагирования» на действия МИД Польши и передала в Политбюро копии телеграмм и письма Антонова-Овсеенко. Политбюро согласилось с позицией НКИД, исходя «из того основного положения, что осуществление предложенных Вами [Антоновым-Овсеенко. – Авт.] мер привело бы к неминуемому серьезному обострению наших отношений с Польшей и что, в данный момент, при нынешней международной ситуации, мы абсолютно не заинтересованы в таком обострении. Сессия допускала при этом, что поляки сознательно провоцируют конфликт, и полагала, что в случае невыполнения нами требования о немедленном отъезде наших сотрудников и Вашего отъезда из Варшавы, поляки пойдут на дальнейшее обострение этих инцидентов, в результате чего получился бы серьезный политический конфликт»[558]. По всей вероятности, Политбюро учитывало как стремительное ухудшение германо-советских отношений в начале 1930 г., так и обострение социально-политической обстановки на Советской Украине[559]. Политбюро и руководство НКИД соглашались с полпредом, что поведение поляков являлось «грубым и провокационным и заслуживающим резкого отпора с нашей стороны», но сочли, что «мы должны выбрать более выгодный момент и более выгодные формы для нашего реагирования, целью которого должно быть исключительно заставить поляков осознать непригодность для них самих прибегать к подобным оскорбительным и провокационным выходкам». «С этой целью соответствующим органам даны указания о спешной постановке в Киеве 2-х процессов при открытых дверях, каковые процессы должны выявить преступную деятельность ряда сотрудников польского консульства в Киеве», пояснял Стомоняков логику решения Политбюро[560].
Антонов-Овсеенко принял к исполнению указания Политбюро (немедленно нанес визит Залескому, а 30 января вручил верительные грамоты Президенту Мосцицкому), однако продолжал доказывать обоснованность своей прежней позиции. Он был уязвлен последним пунктом постановления и заявил руководителям НКИД и Политбюро, что в своих рекомендациях «исходил отнюдь не из чувства личной обиды и чисто престижных соображений, а именно из велений рассудка и холодного политического расчета»[561]. Окончательное объяснение полпреда с руководством состоялось в середине февраля в Москве, куда Антонов-Овсеенко был вызван по его требованию. 18 февраля он был принят Сталиным и три четверти часа беседовал с ним наедине[562].
25 марта 1930 г.
14. – О Польше (т.т. Литвинов, Стомоняков, Карахан). Отложить вопрос об обмене послами с Польшей.
Выписки посланы: т. Литвинову.
Протокол № 121 (особый № 119) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.3.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 8. Л. 118.
В середине марта 1930 г. в связи с общей напряженностью в отношениях СССР с Францией, Германией и Польшей, НКИД разрабатывал (вероятно, как по собственной инициативе, так и по заданию руководства Политбюро) предложения по улучшению советско-польских отношений. В связи с этим, предполагалось «в ближайшем будущем войти в Сессию с докладом о состоянии польско-советских отношений»[563]. Сведений о представлении такого доклада и конкретных предложений по стимулированию добрососедских отношений с Варшавой не обнаружено. Вопрос о возобновлении переговоров о советско-польском договоре ненападения и другие сюжеты, разрабатывавшиеся в НКИД, не стали предметом постановлений Политбюро. Единственным следом таких намерений в протоколах Политбюро является вопрос о придании соответствующим дипломатическим миссиям Польши и СССР статуса посольств.
Инициатива в постановке этого вопроса неизменно принадлежала польской дипломатии (прежде всего, С. Патеку). Советский дипломатический протокол не делал различий между дипломатическими миссиями, возглавляемыми посланниками и послами, тогда как Польша, стремясь к повышению своего международного статуса, искала возможность придания своим представительствам в Лондоне, Берлине, Анкаре и Москве ранга амбасад. По той же причине советская дипломатия старалась этому помешать, опираясь на договоренности с Турцией и Германией о координации позиции в отношении делавшихся им соответствующих предложений Польше. В период пребывания Литвинова в Женеве в апреле-мае 1929 г. министр иностранных дел Турции Рушди-бей предложил дать Польше согласие обеих стран на обмен с нею посольствами. Коллегия сочла такое решение, к которому, вероятно, склонялся и сам Литвинов, «абсолютно неприемлемым»[564]. В результате консультаций в Женеве и Анкаре, Рушди-бей обещал полпреду Сурицу не обмениваться с Польшей посольствами ранее 1930 г.[565]. В ноябре 1929 г., в связи с отозванием Д.В. Богомолова, посланник С. Патек и советник миссии А. Зелезинский возобновили разговоры с представителями НКИД «о большом значении возведения нашего полпреда в Варшаве и польского посланника в Москве в ранг послов». При этом Патек выразил мнение, что первым советским послом в Польше мог бы стать Стомоняков (сам Стомоняков расценил выдвижение его кандидатуры как попытку сделать его «ходатаем по получению согласия Сов[етского] пра[вительства] на обмен послами между СССР и Польшей»). Полпред Богомолов направил в НКИД запрос, о том, «какова наша позиция в данный момент», поскольку, как ему передал вернувшийся из Москвы советник полпредства, после зондажных бесед польских представителей «т. Литвинов считает необходимым этот вопрос вновь обсудить»[566]. Стомоняков переслал этот фрагмент из письма полпреда Ворошилову и Сталину и, вероятно, после консультаций с ними дезавуировал Литвинова: «Само собой разумеется, мы относимся отрицательно ко всей этой затее и будем проваливать ее»[567].
Наркоминдел заручился также заявлением МИД Германии о том, что оно готово поддерживать с советской стороной «по этому делу полный контакт» и выступает против обмена СССР и Германией посольствами с Польшей. «Несмотря на полную удовлетворительность этого ответа, я отношусь к нему скептически и думаю, что если немцам удастся заключить с Польшей выгодный для Германии торговый договор, то вопрос об обмене посольствами может стать актуальным, несмотря на все эти заверения», – отмечал Стомоняков[568]. 13 марта немецко-польский торговый договор был подписан, причем в обстановке кризиса в взаимоотношениях СССР и Германии. Вероятно, в силу новой политической ситуации в треугольнике Берлин-Варшава-Москва, в руководстве НКИД усилилась тенденция уступить Польше и согласиться на обмен с нею послами. Во всяком случае, свидетельствовал Антонов-Овсеенко, «почин в оживлении в положительном смысле этого вопроса» в марте 1930 г. принадлежал Москве[569].
Выжидательно-отрицательное решение Политбюро объяснялось, по всей вероятности, тем, что к концу марта 1930 г. массовые выступления в приграничных с Польшей районах УССР были подавлены, Варшава выступила с успокоительными заявлениями, и «военная тревога» в Москве пошла на убыль[570]. Согласие на придание миссиям обеих стран статуса посольств было дано Политбюро четырьмя годами позднее[571].
5 апреля 1930 г.
11. – О посещении СССР литовской военной эскадрильи (т.т. Стомоняков, Ворошилов).
Разрешить прилет военной литовской эскадрильи в СССР при том обязательном условии, чтобы эскадрилья по пути в СССР остановилась в Латвии.
Протокол № 122 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.4.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 781. Л. 3.
Предложение о визите в Москву литовской военной эскадрильи было инициировано главой правительства Литвы А. Вольдемарасом в июле 1929 г. Его рассмотрение четырежды вносилось в повестку заседаний Политбюро в августе 1929 г., а принятие окончательного решение отложено на неопределенный срок[572].
В марте 1930 г. командующий литовской авиацией в беседе с военным атташе Курдюмовым вновь поднял этот вопрос, который немедленно был передан на решение Коллегии НКИД[573]. В 1 Западном отделе отмечали, что в случае официального обращения правительства Литвы Коллегия НКИД его поддержит, так как с лета 1929 г. обстановка в Литве существенно изменилась и демонстрация сближения с нею не приобретет оттенка антипольской провокации[574]. По всей вероятности, такой запрос от литовского правительства поступил, и нашел немедленный положительный отклик в НКИД и Политбюро, испытывавших весной 1930 г. особую заинтересованность в расширении связей с лояльными в отношении СССР зарубежными кругами. В контексте решений Политбюро о советской политике в отношении Польши в первой половине 1930 г. представляется также вероятным, что выдвижение условия об обязательной предварительной остановке литовских летчиков в Латвии было вызвано стремлением смягчить эффект, который могла вызвать в Варшаве демонстрация политического сотрудничества и военных связей СССР и Литвы.
Переговоры с Каунасом в апреле-мае 1930 г. об организации визита эскадрильи проходили в обстановке несколько улучшившихся взаимоотношений СССР и Польши. Вместе с возрастанием уверенности в своих силах к Москве вернулось желание демонстрировать их путем культивирования отношений с Литвой, теперь желательность осуществления визита литовских летчиков обусловливалась главным образом «состоянием наших отношений с Польшей»[575].
Литовская эскадрилья отбыла 18 августа, совершила промежуточную посадку в Латвии и в тот же день приземлилась в СССР. В Каунас она возвратилась 23 августа 1930 г.
27 апреля 1930 г.
Опросом членов Политбюро
14. – Об издании журнала в Риге (ПБ от 10.VI.-29, пр. № 84, п. 34) (т.т. Микоян, Литвинов, Стомоняков, Свидерский).
Ассигновать на издание газеты в Риге 30.000 р., с тем, чтобы эта газета имела распространение по всей Прибалтике.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Брюханову.
Протокол № 125 (особый № 123) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.5.1930 – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 8. Л. 144.
Вопрос об издании в Латвии экономического журнала, который бы освещал как советско-латвийские отношения в этой области, так и строительство социализма в СССР, возник в 1928 г.: вскоре стало задумываться издание, которое освещало бы проблемы экономики Финляндии, Эстонии и Латвии, а также различные аспекты торговых отношений этих стран с СССР. Уже в середине февраля 1928 г. полпред Петровский сообщал Стомонякову, что во время посещения Риги вместе с торгпредом Смирновым и эстонским коммерсантом и консультантом советского торгпредства в Таллине Рейнингом он детально обсудил план издания с полпредом И.Л. Лоренцем, торгпредом И.В. Шевцовым и бухгалтером торгпредства А.В. Пешехоновым (в прошлом одним из редакторов «Русского богатства», издателем «Сына Отечества»). К этому времени была подготовлена смета в размере 10 тыс. долларов на год. Петровский считал, что приступить к изданию можно сразу же по поступлении необходимых средств. Считалось, что данное предприятие может принести в год около 2000 долларов[576]. Финансовая сторона проекта заставляла Москву не спешить с окончательным решением. Смета расходов должна была быть рассмотрена на заседании в Наркомторге под председательством Микояна в начале июня[577]. К этому времени о намерении Москвы заполучить печатный орган стало известно в Риге довольно широким кругам; Крестьянский союз К. Ульманиса предложил купить газету у него, но от этого предложения отказались[578]. В середине декабря 1928 г. Петровский вновь приехал в Ригу. Было условлено, что главным редактором журнала станет Пешехонов, но в каждой из стран будет кроме этого свой редактор – в Риге – социал-демократ К. Лоренс, в Таллине – Рейнинг. Уже в феврале 1929 г. предполагалось выпустить сдвоенный номер (со статьей Пешехонова «Система советского хозяйства», статьей неназванного эстонского политического деятеля о финансах Эстонии или аграрной реформе, а также монография о финляндской бумажной промышленности) и торгпредства в Таллине и Риге получили около половины необходимой для издания суммы[579]. Остальные деньги на эти цели должны были поступить также от Наркомторга, разрешение вопроса зависело от А.И. Микояна. Несмотря на напоминания рижского торгпредства в конце 1928 – начале 1929 г., НКТорг средств не отпустил[580].
Относительно того, почему идея издания журнала трансформировалась к маю 1930 г. в идею издания газеты, можно высказать только предположения. Издание узкоспециализированного журнала могло считаться уместным, когда развитие торговых отношений – и, прежде всего, с Латвией (после заключения торгового договора 1927 г.) – происходило довольно успешно. К весне 1930 г. ситуация изменилась. В Латвии стали высказываться все более резкие претензии к выполнению договора со стороны СССР (особенно в отношении размещения советских заказов). Заключенный в 1929 г. торговый договор с Эстонией свел советско-эстонскую торговлю до мизерных масштабов. Торговля с Финляндией также переживала не лучшие времена. В таких условиях пропаганда выгодности развития торговых отношений с СССР становилась не вполне уместной. С другой стороны, для Москвы актуальной стала задача создания благоприятного общественного мнения в Прибалтике с целью противодействия усилившемуся влиянию Польши. Для такой цели более подходило издание газеты, нежели серьезного журнала.
Издание русскоязычной газеты («новое/русское предприятие») при помощи российских эмигрантов в планах НКИД, находилось в связи с решением дополнительной задачи – финансовой поддержкой одной из латвийских газет ради получения возможности оказания влияния на ее редакционную политику («старое предприятие»). Несмотря на принятие Политбюро постановления, финансовые средства не были выделены. «Неназываемый» деятель (выражение А.И. Свидерского; вероятно, им являлся Б.А. Ройзенман), входивший вместе с М.М. Литвиновым в комиссию по «особым кредитам» и «звонивший на самый верх»[581], тормозил дело. Литвинов и Свидерский неоднократно, но безрезультатно обсуждали с ним возникшее положение. По настоянию полпреда Литвинов в июле 1930 г. направил дело в «инстанцию», минуя комиссию об особых кредитах[582]. В протоколах Политбюро нет упоминаний о рассмотрении этого вопроса. Скорее всего, он не был включен в повестку дня, в последующей дипломатической переписке сведения об этом отсутствуют).
Несмотря на нехватку средств, полпред июнь и июль 1930 г. полностью посвятил организации «нового предприятия». К августу почти все было готово. «Мы, разумеется, – писал Свидерский в Москву, – ни в каких договорах, ни в каком виде не фигурируем». К тому времени полпред получил на «новое предприятие» 10 тыс. рублей в валюте, но и к концу ноября они не были потрачены[583]. Полпред ожидал остальных 20 тыс. и кредитов на «старое предприятие». Во время своего отпуска в августе-сентябре (в Германии) Свидерский встречался с «неназываемым», который заверял, что дело благополучно разрешится. В октябре 1930 г. Стомоняков обращался за получением 20 000 рублей для Риги, но дано было только 5000 рублей, которые Управление делами НКИД потратило на другие цели[584].
В начале октября, извещая Стомонякова о состоянии дела, полпред писал: «Завтра делаются последние формальные шаги. Вам известно, что для дела отпущено все необходимое. Однако я могу сделать только первые шаги». Денег не было. Стомоняков переадресовал письмо со своими пометами Крестинскому[585]. Ответ последнего в Риге получили через месяц. Крестинский сообщал, что деньги НКИД были получены, из них 10 000 пересланы в Ригу, а остальные «не были своевременно израсходованы и поступили в доход казны»[586].
В начале декабря Крестинский в ответ на настойчивые призывы Свидерского сообщил ему, что на днях обратится в «инстанцию» с просьбой о выделении на русское предприятие 10 000 рублей на особый квартал 1930 г. и такой же суммы на 1931 г.[587]. В создавшейся ситуации полпред винил финансовые органы НКИД: поскольку переписка «по особым кредитам ведется в особом порядке, не всегда регистрируется и часто заменяется устными переговорами», то дело, по его мнению, «выпало из поля зрения» финорганов НКИД[588]. В письме Стомонякову полпред выплеснул свои эмоции: «русское предприятие» «пока совсем не удалось», на него «даже противно смотреть и прикасаться к нему». Угнетенное состояние полпреда усугублялось двусмысленным положением, в котором он оказался: «Если с иностранным предприятием вначале было тяжело, то с русским оказывается вдвойне тяжело. Иностранец, в силу того, что он иностранец, легче поддается переработке и приспособлению. Русский, даже соединенный с иностранцем, требует громадных усилий в смысле воздействия. Трудность положения обусловливается необходимостью действовать через посредствующие звенья. Был момент, когда я готов был в отчаянии наложить руку на предприятие. Приставленный к русскому предприятию руководитель иностранного предприятия убедил выждать время. Сейчас производим чистку и реорганизацию, имеющие своей целью несколько сократить количество посредствующих звеньев». Реорганизация, однако, не снимала проблемы «российских поврежденных голов»[589].
Несмотря на все усилия со стороны НКИД деньги так и не были получены, и постановление Политбюро осталось невыполненным. Исход борьбы вокруг инициативы НКИД по созданию зарубежного печатного органа не только обозначал положение НКИД в иерархии советских властных институтов, но и способность деятелей советского политического Олимпа действовать по собственному усмотрению, не прибегая к распространенной практике официального «опротестования в ЦК».
Осенью 1933 г., когда проблема укрепления советского влияния в странах Балтии приобрела особую актуальность, в советском руководстве были предприняты попытки вернуться к проектам трехлетней давности[590].
27 апреля 1930 г.
Опросом членов Политбюро
49. – О Польше (т. Стомоняков).
Принять с поправками предложенный НКИД проект ноты польскому правительству (см. приложение № 1) и опубликовать ее после вручения т. Антоновым-Овсеенко.
Выписки посланы: [рассылка не указана]
Протокол № 125 (особый № 123) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.5.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 8. Л. 147.
26 апреля 1930 г. в здании полпредства СССР в Варшаве была обнаружена бомба с часовым механизмом, взрыв которой мог привести к большим жертвам среди сотрудников полпредства. Представленный НКИД проект ноты по поводу этого инцидента не обнаружен; характер и авторство поправок, внесенных в проект ноты, установить не удалось. Текст утвержденной ноты Правительства СССР Правительству Польши приложен к протоколу заседания Политбюро[591]. 28 апреля полпред Антонов-Овсеенко вручил эту ноту министру иностранных дел Польши Залескому, на следующий день она была опубликована в «Известиях ЦИК СССР».
Террористическая акция против советской миссии расценивалась как «попытка вызвать серьезные и далеко идущие осложнения во взаимоотношениях между Советским Союзом и Польшей», которая «могла иметь место только в условиях, создавшихся благодаря усилению за последнее время антисоветской деятельности определенных кругов в Польше и связанной с ними части польской прессы». Намекая на существовавшую в первой половине весны 1930 г. взаимную озабоченность возможностью военного конфликта, нота Союзного правительства определяла такую деятельность как «величайшую опасность не только для взаимоотношений между СССР и Польшей, но и для всеобщего мира», а «событие 26 апреля» – «как элемент широко задуманной акции, направленной к провокации конфликта между Советским Союзом и Польшей». Нота перечисляла покушения на представителей и учреждения СССР в Польше в 1927–1930 гг. и возлагала на польское правительство «ответственность за принятие действительных мер к ликвидации той опасной обстановки, в условиях которой то и дело возникают акции, провоцирующие нападение на СССР».
Таким образом, советская нота от 28 апреля являлась по преимуществу политико-пропагандистским актом; обычных требований о скорейшем проведении следствия и наказании виновных в ней не содержалось (возможно, эти требования были исключены из проекта ноты при ее редактировании руководителями Политбюро). Содержание и общая тональность ноты продолжали проводимую с начала 1930 г. линию на поддержание добрососедских отношений с Польшей[592].
10 мая 1930 г.
Решение Политбюро
43. – О Польше.
Передать на разрешение совещания замов.
Протокол № 126 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.5.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 785. Л. 9.
Совещание председателя СНК и СТО СССР с его заместителями (совещание замов) в январе 1926 – декабре 1930 г. являлось механизмом выработки планов работы Совнаркома и Совета труда и обороны на ближайшую неделю и оперативного разрешения отдельных вопросов, которые не включались в повестку заседаний этих органов. Состав совещания устанавливался личными распоряжениями А.И. Рыкова или его заместителями. В него входили некоторые члены Политбюро, однако их участие в работах совещания было, как правило, номинальным[593].
О содержании вынесенного на обсуждение Политбюро вопроса прямых свидетельств не обнаружено. Предположительно, он являлся частью пакета предложений подготавливавшихся НКИД в марте-апреле для внесения в Политбюро[594] и состоял в возможности договоренности с Польшей, по которой в обмен на снижение железнодорожных тарифов на перевозки советских товаров ей был бы предоставлен транзит посылок в Персию. Во второй половине марта эта схема получила принципиальное одобрение Коллегии НКИД, одновременно с аналогичным запросом к полпреду в Варшаве обратился заместитель министра иностранных дел А. Высоцкий[595]. В середине апреля возможность такого разрешения беспокоящих каждую из сторон проблем обсуждалась М.А. Карским в беседе с советником польской миссии А. Зелезинским; член Коллегии нашел его «вполне приемлемым»[596]. По невыясненным причинам (возможно, в силу отрицательного заключения совещания замов) соглашение с Польшей о заключении посылочной конвенции в обмен на материальные компенсации с ее стороны достигнуто не было.
30 мая 1930 г.
Решение Политбюро
22. – О Польше (т. Стомоняков).
а) Принять с поправками предложенный НКИД проект ноты, поручив НКИД сегодня отправить ее в Варшаву, не опубликовывая пока в печати.
б) Снять немедленно с работы консула во Львове т. Лапчинского.
Выписки посланы: т. Стомонякову.
Протокол № 128 (особый № 126) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.6.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 8. Л. 161.
Проект ноты, представленный в Политбюро Б.С. Стомоняковым, не обнаружен. Ее окончательный текст включен в протокол Политбюро[597].
В ноте, официально датированной 31 мая, вновь отмечалась «серьезность положения», создавшегося в результате покушения на взрыв здания полпредства СССР в Польше и усилившегося при последующем развитии событий. Правительство СССР выражало обеспокоенность как отсутствием официальных свидетельств о принятии польскими властями всех необходимых мер к установлению и наказанию виновных, так и «совершенно недопустимыми выпадами польской прессы», «распространением инсинуаций со стороны злонамеренных элементов». При этом в первую очередь имелось в виду заявление газеты «Kurier Illustrowany Codzienny», связанной со II отделом Главного Штаба, что попытка взрыва здания полпредства могла быть инсценирована советскими спецслужбами. К ноте была приложена «Памятная записка», в которой устанавливались факты переговоров сотрудников миссии СССР с польскими властями и невыполнение последними обещания министра юстиции о представлении протоколов следственных действий. Нота была передана заместителю министра иностранных дел А. Высоцкому. В ответной ноте Правительства Польши, переданной полпредству 5 июня, напоминалось о том, что взрывное устройство было обнаружено польскими органами безопасности, и судебные власти ведут следствие «со всем усердием». О допуске советских представителей к следственным материалам нота не упоминала. Вместо обещаний опровергнуть сообщения о причастности коммунистов к попытке взрыва полпредства, в ноте отмечалось, что следствие наталкивается «на целый ряд чрезвычайно трудных для разрешения загадок»[598]. Тем самым польские власти намекали на наличие у них информации о том, что главный подозреваемый (Я.Полянский) в начале 1920-х гг. состоял в коммунистической партии и являлся сотрудником советской миссии в Вене. Таким образом, польский ответ не удовлетворял ни одно из двух основных требований ноты от 31 мая.
В НКИД, впрочем, понимали, что в польском официальном документе не может содержаться обещания оказать нажим на прессу. Поэтому на основании решения Политбюро член Коллегии НКИД Стомоняков дал полпреду дополнительное указание заявить протест министру иностранных дел Польши Залескому по поводу инсинуаций в печати и потребовать их опровержения. Однако в течение 5–7 июня Антонов-Овсеенко не смог увидеть Залеского (вначале из-за его болезни, затем из-за праздника Троицы и приезда в Варшаву министра иностранных дел Италии Гранди). В связи с этим в Москве (не позднее 7 июня) было решено опубликовать Ноту Правительства СССР от 31 мая[599], что мотивировалось необходимостью «скорее разоблачить публично это выступление [в «Kurier Illustrowany Codzienny». – Авт.] ввиду возможности продолжения провокации с польской стороны»[600]. Полпред, однако, придерживался мнения, что «с опубликованием следовало погодить до выяснения результатов» предписанного НКИД демарша[601].
Действительно, «выпады» по этому поводу в польской прессе прекратились сразу после вручения советской ноты от 31 мая, до ее опубликования и устного протеста полпредства в МИД Польши. Вслед за этим польские власти публично опровергли предположения о провокационном характере покушения 26 апреля[602], Стомоняков, однако, не согласился с предложением полпреда прекратить кампанию в советской прессе и лишь сожалел, что из-за проходящего XVI съезда ВКП(б), НКИД не удается «заставить нашу печать уделять должное внимание этому вопросу»[603].
К середине июля виновник покушения был идентифицирован, разыскан и по польскому обращению арестован югославскими властями, которые передали его Польше. В апреле 1931 г. в Варшаве состоялся судебный процесс, признавший Яна Полянского виновным в инкриминируемом ему преступлении.
Вторая часть решения Политбюро, согласно докладывавшему на его заседании Б.С. Стомонякову, «явилась результатом появления в газете «Дiло» [орган ЦК Украинского Национально-Демократического Объединения. – Авт.] письма тов. Лапчинского, которое он на бланке консульства разослал западно-украинским деятелям в связи с процессом Ефремова[604]. Рассылка подобного письма без разрешения НКИД и даже без уведомления и разрешения полпреда и украинского советника является не только нарушением элементарной служебной дисциплины, но и проявлением такого отсутствия политического такта и выдержки, которого мы не предполагали у тов. Лапчинского. Излишне говорить, что вред от такого самочинного действия особенно велик в настоящее время, при особо напряженном состоянии наших отношений с Польшей». Полпреду поручалось немедленного откомандировать экс-консула и предложить «представить в НКИД объяснения своих действий»[605]. Письмо Лапчинского было опубликовано западно-украинской печатью 20 мая.
2 июня полпредство передало МИД Польши ноту об отозвании Лапчинского в расчете на то, что «наше быстрое и отчетливое реагирование на недопустимую акцию нашего консула произведет должное впечатление, как доказательство нашей полной лояльности в отношении Польши»[606]. Наряду с политико-дипломатической подоплекой решения Политбюро, в нем проявилось стремление НКИД взять реванш за поражение, которое потерпела его попытка упразднить представительство УССР в Польше и подчинить центральному аппарату НКИД СССР всех советских политических работников за рубежом[607]. Ради этого представитель НКИД несколько драматизировал степень напряженности отношений с Польшей и преувеличил связанные с этим опасения. На деле они не помешали развертыванию, при поощрении НКИД, новой кампании в советской печати.
15 сентября 1930 г.
18. – О Литве (т. Стомоняков).
Разрешить НКИД обмен нотами с Литвой по вопросу о возобновлении жел. дор. сообщения по линии Ландворово – Кошедары.
Выписки посланы: т. Стомонякову.
Протокол № 8 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.9.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 29.
14 декабря 1928 г. Лига Наций приняла резолюцию, поручавшую Транспортно-транзитной комиссии представить Совету Лиги доклад о реализации международных соглашений (Базельская и Мемельская конвенции) в отношении транзита между Польшей и Литвой. Доклад комиссии был выдержан в благоприятном для Польши духе. Правительство Сметоны-Тубялиса, не желавшее отказываться от своих прав на оккупированную Польшей Виленщину и рассматривавшее вопрос о транзите по литовским железным дорогам как один из инструментов давления на Варшаву, обратилось за поддержкой к Москве. Оно предложило обменяться нотами, в которых был бы подтвержден факт незаинтересованности СССР в открытии транзитного движения, что позволяло опровергнуть заявления Варшавы в потребности соседних стран в этом транзите. Поскольку обсуждение упомянутого доклада в Совете Лиги Наций было перенесено (вначале на осень 1929 г., затем еще на год), Москва отложила принятие решения об обмене нотами.
11 сентября 1930 г. литовский посланник Ю.К. Балтрушайтис от имени министра иностранных дел Д. Зауниуса вновь обратился в НКИД с предложением об обмене нотами о железнодорожном сообщении[608]. (Как оказалось, обсуждение в Женеве вопроса о литовском транзите в сентябре 1930 г. было вновь отсрочено – до января 1931 г.). Получив это предложение, Стомоняков немедленно довел его до сведения ЦК ВКП(б) и уже 12 сентября мог сообщить Петровскому, что тот получит решение Москвы не ранее 16-го, и оно будет положительным. Вероятно, Стомоняков получил заверение, что этот пункт включен в повестку дня очередного заседания Политбюро[609]. Руководство НКИД намеревалось также доложить «инстанции» о просьбе Литвы назначить нейтрального советского эксперта в согласительную германо-литовскую комиссию (НКИД предлагал отклонить это предложение, поскольку такое посредничество могло лишь осложнить отношения и с Каунасом, и с Берлином).
Немедленное согласие Политбюро с предложением об обмене нот означали фактическую поддержку литовского правительства в его нежелании идти на ослабление напряженности в отношениях с Польшей. Наряду с общими установками в отношении польско-литовского конфликта и польского влияния в Прибалтике, решение Москвы об обмене нотами было вызвано серьезной обеспокоенностью возможностью компромисса Каунаса с Варшавой после отставки Вольдемараса в сентябре 1929 г. Новый министр иностранных дел Литвы Довас Заунис в середине июля 1930 г. сообщил временному поверенному в делах СССР в Литве А.А. Фехнеру о том, что в январе и июне польские дипломаты передавали через литовского посланника в Берлине Сидзискауса предложение его правительству направить свое доверенное лицо для переговоров с Пилсудским. При этом начальник Восточного отдела МИД Польши Т. Голувко якобы дал согласие обсуждать возможность установления дипломатических отношений с упоминанием о наличии территориального спора между двумя странами. В конце июня литовское правительство решило послать на переговоры директора Банка Литвы Сташинского, и 17 июля он выехал в Варшаву для выяснения возможной базы переговоров. Требование Литвы состояло в признании Виленской области спорной территорией. Стомоняков расценил информацию Зауниуса как подтверждение опасений НКИД «о назревании в Литве готовности примириться с Польшей». Он считал «несомненным, что литовцы пойдут на соглашение с поляками на значительно худших условиях, чем те, которые выдвинул Заунис в своей беседе с тов. Фехнером»[610]. Через несколько дней обнаружилась неудача переговоров Сташинского с Пилсудским, но одновременно произведенный в Каунасе арест Вольдемараса и интервью бывшего президента Литовской республики Гриниуса, как представлялось НКИД, «развязывали в значительной степени руки правительству Сметоны-Тубялиса и давали ему довольно широкую свободу действий в ближайшие месяцы, когда, в связи с рассмотрением транзитного вопроса в Женеве, вопрос о польско-литовских отношениях, несомненно, встанет в порядок дня». К тому же в международных кругах вновь оживились разговоры «об одновременном разрешении вопросов о польско-литовских отношениях и о Данцигском коридоре». «Все это требует величайшей бдительности с нашей стороны», – заключал член Коллегии НКИД[611]. Если в предшествующие годы советское руководство беспокоила скорее «провокационная политика Литвы по отношению к Польше», то в 1930 г. – «намечающийся в Литве перелом» к примирению с нею. Советская дипломатия настойчиво «указывала литовцам, что международное и внутреннее положение Польши настолько ухудшилось, что она не может в ближайшее время рисковать войной». В ответе на июльское сообщение Зауниуса Наркоминдел «подчеркнул вновь эту оценку, предложив лит[овскому] пра[вительству] задуматься над тем, не проиграет ли оно от торопливости в переговорах с Польшей»[612].
Отдавая должное внушениям и пропаганде, руководство НКИД понимало, что «укрепить тенденцию сопротивления против польских зазываний можно не столько разоблачением соглашательских тенденций, сколько подкреплением и улучшением международного положения Литвы вообще и в отношении Польши, в частности». «В результате предпринятых нами шагов, – сообщал Стомоняков в варшавское полпредство в середине августа, – Германия дала согласие на безоговорочную поддержку Литвы в ее транзитном конфликте с Польшей, имеющем в настоящее время наиболее актуальный и наиболее опасный для Литвы характер. Одновременно мы добиваемся от Германии уступок в пользу Литвы в экономической области, а от Литвы – некоторых уступок в пользу Германии по мемельскому вопросу»[613]. К разочарованию НКИД, литовское правительство продолжало «чрезвычайно неуступчивую политику в отношении немцев, провоцируя ряд совершенно ненужных и вредных для Литвы конфликтов[614]. Тем большее значение для создания выгодной СССР политической конфигурации в Северо-Восточной Европе приобретали его усилия в области советско-литовских отношений.
Докладывая Политбюро вопрос об обмене нотами с Литвой по поводу сообщения «Ландворово – Кошедары», Стомоняков, надо полагать, изложил приведенные выше аргументы и политическую позицию, позитивное решение «инстанции» по существу санкционировало ее. Другим направлением реализации этого подхода летом-осенью 1930 г стали продолжительные переговоры о поставках советского леса в Мемель. Этот шаг предпринимался исключительно в политических целях. Деловые круги Мемеля настойчиво стремились к улучшению польско-литовских отношений, поскольку отсутствие сплава по Неману подрывало экономику города (из этих кругов часто исходили предложения литовским властям посреднических услуг в налаживании связей с Варшавой). Летом 1930 г. НКИД предпринял серьезные усилия для того, чтобы сломить сопротивление «Экспортлеса» и заставить его вступить в переговоры о поставках леса синдикату мемельских хозяев лесопилок, что должно было ослабить его заинтересованность в поставках леса из Польши. 15 сентября, когда Политбюро обсуждало вопрос об обмене нот, в Москву выехала мемельская делегация. В результате трудных переговоров было достигнуто «провизорное соглашение» о поставках леса из СССР. Это соглашение, отмечал Б.С. Стомоняков, «имеет очень большое значение, т. к. загружает всю мемельскую деревообрабатывающую промышленность и ослабляет для мемельцев и литовцев заинтересованность в сплаве по Неману. С другой стороны, сделка укрепляет положение Литвы в Мемеле и чрезвычайно поднимает наше значение как политического и экономического фактора в восточной Европе»[615]. Однако на протяжении нескольких недель Наркомторг и «Экспортлес» затягивали его вступление в силу, фактически это произошло лишь 11 октября, когда торгпред Ангарский, так и не получивший четких инструкций от своего руководства, на свой страх и риск подписал соответствующий протокол[616].
20 сентября 1930 г.
Решение Политбюро
3/7. – О ноте Финляндии (т.т. Карахан, Молотов, Ворошилов).
а) Сообщение ТАСС о финской ноте – пока не печатать.
б) Предложить НКИД немедленно по получении полного текста финской ноты представить проект ответа и обсудить его на заседании ПБ 25.IХ.
в) На заседании ПБ 25.IX. обсудить вопрос о закрытии нашего консульства в Выборге и финского консульства в Ленинграде.
г) Сообщить Ленинградскому обкому об отсутствии возражений против желания финских рабочих в Ленинграде собраться для протеста против антисоветской фашистской кампании в Финляндии и насильственных перебросок на нашу территорию деятелей финского рабочего движения.
Поручить т.т. Постышеву и Чудову дать необходимые указания соответствующим органам.
Выписки посланы: т.т. Карахану – все; Светлову (ТАСС) – а; Чудову, Постышеву – г.
Протокол № 10 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.9.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 38.
С конца 1929 г. в Финляндии стала резко обостряться внутриполитическая ситуация. Своей кульминации она достигла летом 1930 г. Экс-премьер финского правительства В. Таннер в июне 1930 г. советовал жившему в Америке бывшему главе финского сената О. Токою отложить приезд на родину до прояснения ситуации, так как коммунисты за несколько лет раздражили общество до такой степени, что «этих дрожжей хватило для нынешнего крестьянского движения. Это происходит полностью в соответствии с финским обычаем лишь после того, как коммунизм уже более не опасен»[617]. В Москве разделили бы точку зрения Таннера на возможности коммунистического движения в Финляндии. В Польско-Прибалтийском лендерсекретариате ИККИ в качестве оценок деятельности финских коммунистов превалировали такие, как «пассивность», «бездеятельность», «желание платить взносы и ничего не делать». Полпред Майский неоднократно писал о «несомненном малодушии» финских коммунистов, о том, что в их партии большой разброд и растерянность. В беседе с финским посланником П. Артти Б.С. Стомоняков отмечал, что коммунистическое движение в Финляндии существовало давно «и никому не известно, чтобы за последнее время оно сделало внезапно крупные успехи, которые бы вызвали движение реакции со стороны частнособственнических элементов в стране»[618].
Меры, предпринимаемые в Финляндии против коммунистов не вызывали дипломатических демаршей с советской стороны. Однако летом 1930 г. события стали приобретать такой характер, который стал вызывать в Москве сильную озабоченность. Наиболее радикальные борцы с коммунизмом прибегли к необычному способу – они отвозили своих противников к государственной границе и заставляли их переходить на советскую сторону. Бывший шведский посланник в Москве Хейденстам рассказал финскому посланнику Артти, что когда он спросил у Литвинова, будет ли Москва протестовать против т. н. перебросок через границу коммунистов и сочувствующих, то нарком ответил: разумеется, да, так как «мы не можем бесконечно принимать к себе весь этот сброд»[619]. Стоит заметить, что в НКИД не находили рационального объяснения происходящим в Финляндии событиям. Однако резкое обострение обстановки в этой стране рассматривалось в Москве как крайне опасное для общей внешнеполитической ситуации на востоке Балтики; именно поэтому все советские полпреды в Прибалтике получили указания внимательно наблюдать за настроениями общественного мнения и фиксировать любые факты, свидетельствующие о влиянии лапуаского движения. Большинство буржуазных партий в Финляндии, в том числе и крупнейшая из них – Аграрный союз, были крайне обеспокоены резким ростом антипарламентских настроений. Вместе с тем, правые политические круги были обеспокоены возможностью резкого ухудшения отношений с СССР в результате подъема лапуаского движения и оживления сторонников присоединения к Финляндии Восточной Карелии. В середине апреля 1930 г. один из виднейших представителей активизма Ялмари Финне делился мыслями со своим старым знакомым – начальником Центральной сыскной полиции Эско Риекки: «Если сейчас по весне напасть на Россию, то рухнет вся империя. Начнись война сейчас, когда нужно сеять хлеб, то природа уже затем позаботится о смерти рюсся. Будет удивительно, если эти мысли не придут людям в голову». Успеху будет содействовать и неизбежное восстание на Украине и война России с Польшей и Эстонией. Финне считал вполне возможным развитие событий по следующему сценарию: конфликты на советско-финляндской границе, падение правительства и установление диктатуры в Финляндии, начало войны с Россией и как результат – Восточная Карелия в объятиях Финляндии, удвоение ее территории, получение необозримых лесных богатств, освоение которых позволит за несколько лет расплатиться с государственным долгом[620]. Подобные настроения не могли не вызывать тревоги даже у политиков, находившихся на крайне правом фланге. Бывший премьер-министр Финляндии Лаури Ингман (в то время он оказался в роли своего рода политического советника премьера П. Э. Свинхувуда) был вынужден в июле направить одному из лидеров лапуаского движения – К. Каресу – несколько писем с предупреждением. «У меня есть причины считать, что те, кто желал бы более решительной, если не сказать агрессивной политики в отношении России, пришли или, во всяком случае, придут в движение. «Восточные карелы» будут, разумеется, признательны, если заполучат в качестве опоры для своих устремлений мощное народное движение. Полагаю, что Вы одного со мной мнения, что худшим, что могло бы случиться в этой стадии дела, – внешнеполитические инциденты. Россия, разумеется, навострит уши. Но и другие страны, особенно те из них, которые предоставляют нам займы, а впрочем, и весь круг Лиги Наций будут сильно опасаться и искры в нынешнем политическом пылу. О том ущербе, который был бы нанесен такой деятельностью, который дал бы России повод вмешаться в наши дела, лучше и не говорить». Нажим, оказанный на Кареса, был настолько силен, что он публично был вынужден заявить, что у движения нет внешнеполитических целей[621]. Ситуация в Финляндии и состояние советско-финляндских отношений беспокоили посланника в Москве П. Артти. В июне 1930 г. он обратился к главному редактору «Helsingin Sanomat» Эльясу Эркко с просьбой воздержаться от публикации впечатлений о поездке по югу России журналиста Ауэра, что неизбежно вызвало бы сильную негативную реакцию Москвы[622]. Просьба была выполнена: когда спустя полгода полпред Майский поинтересовался у Эркко, когда будут напечатаны статьи Ауэра, тот, оценив поездку журналиста как удачную и интересную, уклонился от ответа[623].
В Москве были встревожены волной «перебросок» через советско-финляндскую границу коммунистов и заподозренных в левых взглядах политических и общественных деятелей. Не реагировать на происходящее в Москве не могли, хотя сознавали, что в случае протестов придется выслушать немало претензий по поводу незаконных переходов границы с советской территории. В НКИД понимали, что более благожелательного к СССР правительства, чем правительство П. Э. Свинхувуда, в котором пост министра иностранных дел занимал осторожный Ялмар Прокопе, ожидать в обозримом будущем не следует. Впрочем, в Хельсинки осознавали, что советская сторона не пойдет далее гневных нот.
Ноту протеста правительству Финляндии (датированную 16 июля 1930 г.) полпред И.М. Майский передал в МИД через курьера. Прокопе, особо отмечая этот момент, полагал, что спешить с ответом не следует. Когда Майский пришел к нему 19 июля, министр напомнил ему, что финские власти располагают большим материалом о незаконных переходах границы с территории СССР[624]. МИД Финляндии, извещая свои европейские миссии о советской ноте протеста, констатировало: «Наше отношение к этому делу совершенно спокойное»[625]. Полпред, несомненно, преувеличивал, утверждая, что советская нота произвела сильное впечатление на правительство и вызвала целую сенсацию в финских политических кругах. Более реалистичной была рекомендация Майского (в значительной степени принятая Москвой) «в течение ближайших двух-трех месяцев» «взять в отношении Финляндии весьма твердый и даже жесткий темп», поскольку «в целях тактических и педагогических нам нужно сейчас Финляндию несколько попугать». «Никаких вредных последствий от этого не получится, ибо финны нас страшно боятся – наоборот, наше настороженное недружелюбие заставит их только более усиленно доказывать нам на деле неосновательность наших опасений и подозрений». Майский предполагал, что до парламентских выборов Свинхувуд не рискнет пойти на какие-либо резкие выступления в сфере внешней политики, а осенью СССР «может всерьез поставить вопрос об урегулировании наших отношений с Финляндией»[626]. Затягивание финской стороной официального ответа продолжалось, и 12 сентября Майский вручил исполняющему обязанности главы МИДа Солитандеру новую ноту (о чем было сообщено в печати). Повторный демарш Москвы побудил финскую сторону поторопиться с ответом. Советская пресса не скрывала, что маневры Балтийского флота в Финском заливе (16–19 сентября) призваны повлиять на позицию финского правительства в отношении Советского Союза. Ответ финского правительства последовал 16 сентября – за две недели до назначенных на 1–2 октября 1930 г. парламентских выборов, после которых предполагалось принятие законов, ограничивающих политические свободы, на что не решился предыдущий состав эдускунты (буржуазным партиям требовалось для этого получение не менее 2/3 мест). Эти обстоятельства сказались на содержании ответной ноты. 15 сентября ее проект обсуждался на заседании комиссии по иностранным делам государственного совета, президент Финляндии Реландер внес в него некоторые изменения[627]. В ноте МИД Финляндии отводились советские упреки в непринятии мер для пресечения незаконных переходов советско-финской границы, и указывалось, что, как хорошо известно, правительству СССР, большая протяженности границы и характер местности не позволяют исключить, несмотря на бдительность властей, попытки ее перехода. Несмотря на то, что численность пограничной стражи у СССР значительно больше, чем у Финляндии, это не мешает беженцам с Соловецких островов и с лесных работ в Восточной Карелии переходить границу; к тому же с советской стороны происходят переброски людей с секретными заданиями (в ноте приводился список лиц, задержанных финскими пограничниками в последнее время).
20 сентября, через несколько часов после решения Политбюро (и не дожидаясь дополнительного обсуждения проблемы на заседании 25 сентября) полпред вручил МИД Финляндии ноту по поводу «беспримерной кампании лжи и клеветы» против советского правительства, дипломатических и торговых органов СССР. В качестве примера приводилась публикация в «Uusi Suomi» заявлений бывшего советника полпредства во Франции Г.С. Беседовского. О вручении советской ноты было сообщено в «Известиях» 22 сентября. У Политбюро, однако, были основания для сомнений в целесообразности публикации своего ответа. Аргументация, приведенная в ноте МИД Финляндии, делала невыгодной для СССР публичную полемику по затронутым в ней вопросам.
25 сентября 1930 г.
1. – О Финляндии (ПБ от 20.IX.30 г., пр. № 10, п. 3/7) (т.т. Карахан, Литвинов, Куйбышев, Ворошилов).
а) обязать т. Литвинова ускорить составление ноты финляндскому правительству с таким расчетом, чтобы 27.IX. вечером она была представлена на голосование опросом членов ПБ, a 28.IX. – опубликована в печати;
б) для редактирования текста ноты создать комиссию в составе: т.т. Рыков (пред.), Ворошилов, Каганович и Литвинов.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Рыкову, Ворошилову, Кагановичу.
Протокол № 10 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.9.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 35.
При обсуждении 20 сентября вопроса об ответной ноте Финляндии на Политбюро из всего руководства НКИД в Москве находился только исполняющий обязанности наркома Карахан. Литвинов вернулся в Москву 23-го, Крестинский находился в отпуске, Стомоняков болел. В начале сентября неожиданно скончался начальник 1 Западного отдела НКИД С. Боркусевич, исполнявший обязанности начальника отдела Карский был болен. Карахан, насколько можно судить по его письмам в Хельсинки, не разбирался в проблематике взаимоотношений с Финляндией (что отмечалось и финским посланником П. Артти в одном из его рапортов)[628]. Финский посланник считал, что в то время в НКИД дела, касающиеся его страны, были запущены[629]. Возможно, именно этим объясняется то, что принятое 20 сентября решение, обязывавшее НКИД представить 25-го проект ноты, не было выполнено. Вместе с тем, о невыполнении решения Политбюро следует говорить с некоторой оговоркой. Скорее всего, какой-то проект был все же подготовлен в аппарате НКИД. В противном случае трудно объяснить ту быстроту, с которой созданная Политбюро 25 сентября комиссия под председательством А.И. Рыкова в тот же день отредактировала текст, который сразу был утвержден Политбюро[630].
Вполне понятно принятое 20 сентября на Политбюро решение не сообщать о полученной финской ноте в печати. Содержание и тон финской ноты были таковы, что требовали развернутого официального комментария (что и было сделано в печати позднее – 30 сентября). Оставить ноту Солитандера без ответа было невозможно. Для подготовки общественного мнения Ленинградскому обкому было предложено организовать собрания финских рабочих, на которых был бы выражен протест против политики правительства Финляндии. Насколько можно судить по ленинградской прессе[631] такие собрания действительно прошли, однако широкого общественного резонанса не получили. Скорее всего, именно такой результат был более приемлем для советских властей. На всем протяжении этого конфликта с Финляндией (формально закончившегося 26 января 1931 г. обоюдными заявлениями сторон, что они считают его исчерпанным[632]) было очевидным желание Москвы избежать дальнейшего осложнения ситуации.
Этим объясняется и отклонение такой меры, как закрытие советского консульства в Выборге. Насколько можно судить по беседе Б.С. Стомонякова с посланником Понтусом Артти, Политбюро, хотя и не приняло 25 сентября специального решения по этому вопросу, однако сочло все же возможным использование угрозы о закрытии консульств в Выборге и Ленинграде «в случае продолжения нынешней финляндской политики в отношении СССР»[633]. (Имелось в виду дело Сурена Эрзинкяна, торгпреда СССР в Гельсингфорсе. Обвиненный в выдаче фальшивых векселей, он решил не рисковать и пополнил ряды перебежчиков, сделав в финской прессе ряд скандальных разоблачений о работе советских торгпредства и полпредства. К этому делу большой интерес был проявлен со стороны лидеров лапуаского движения, оказавших сильный нажим на суд). Однако когда глава МИД Финляндии Я. Прокопе 10 октября принял советского посланника Майского и выслушал информацию последнего о консульстве в Выборге, то у него осталось впечатление, что до поры до времени эта угроза более похожа на блеф, чем на правду[634].
Ответная советская нота была опубликована в «Известиях» не 28-го, как было предусмотрено в данном решении Политбюро, а 30 сентября; публикация была предварена пространной редакционной статьей «Совершенно неудовлетворительный ответ». В статье и в ноте Литвинова обращалось внимание на то, что в финской ноте главное внимание уделяется не поставленному Москвой вопросу – необходимость предотвращения со стороны финских властей «перебросок» через границу, – а теме переходов границы с советской стороны, в том числе беглецами с Соловецких островов и «командируемыми» в Финляндию для коммунистической работы. «Да, у нас существуют на Соловецких островах помещения для уголовных элементов, которым больше нравятся прогулы с финским ножом по широкому миру, нежели тяжелая трудовая жизнь, которая должна их исправить», – с вызовом отвечали «Известия».
Растянувшийся почти на полторы недели процесс подготовки текста ответа на финскую ноту говорит об уязвимости позиции советской стороны. В конечном счете, сам ответ был написан так, что его можно было использовать исключительно в целях внутриполитической пропаганды, поэтому его публикация одновременно с нотой А. Солитандера в этом отношении была довольно успешным ходом. Фактически каждая сторона признала обвинения оппонента. Но в глазах советского коммуниста или сторонника массового антикоммунистического движения в Финляндии ничего предосудительного в тех действиях, в которых обвинялись их правительства, не было. Тональность ноты Солитандера была предопределена не только его симпатиями к лапуаскому движению и отсутствием дипломатического опыта (и дебют его в качестве исполняющего обязанности главы МИДа в связи с отъездом в Женеву на пять недель Прокопе не был удачным), но и его тесными связями с кругами лесопромышленников.
Публикация ответной ноты накануне проведения парламентских выборов в Финляндии едва ли могла оказать какое-либо влияние на их исход. Ситуация в самой Финляндии оценивалась полпредом Майским как крайне неблагоприятная для советско-финляндских отношений: с одной стороны, «правительство Свинхувуда продолжает как будто бы укрепляться», утверждал он, а с другой, «стена враждебности и русофобии все больше возрастает». В отместку за публикацию антисоветских карикатур в финской прессе Майский рекомендовал «мигнуть» карикатуристам из «Правды» и «Известий», чтобы появились карикатуры на Реландера и Свинхувуда, которые следовало бы выставить в людных местах Москвы[635].
Уже через две недели после выборов в эдускунту, полпред Майский в беседе с министром иностранных дел Прокопе высказал пожелание, чтобы на открытии сессии парламента президент Реландер произнес несколько слов об отношениях с СССР. Когда Прокопе согласился с тем, что эта идея может оказаться не чуждой президенту, Майский заявил о желательности, чтобы «министр торговли при случае публично заявил, что мы стремимся к деловым хозяйственным отношениям с Россией и что «торговля есть торговля»[636]. Обращение Майского было вызвано развернувшейся тогда в Финляндии кампанией по бойкоту советских товаров. Его беседа с Прокопе состоялась в знаменательный день – десятилетнюю годовщину Тартуского мирного договора. К этой дате радикальные круги в Финляндии приурочили похищение первого президента Республики – К. Столберга, выступившего в 1920 г. за заключение этого договора (сложись обстоятельства несколько иначе, экс-президент мог пополнить список «переброшенных», о которых шла речь в советской ноте). Однако складывающееся от писем Прокопе впечатление, что советская сторона пошла на попятную, обманчиво. По существу, трудно не согласиться с выводом Майского: «наши ноты произвели в Финляндии сильное впечатление и имели очень хороший эффект. Они отрезвили финнов и напомнили им о пределах их возможностей. Наш нажим опустил финнов с неба на землю и заставил их несколько одуматься»[637]. Конфликтная ситуация, вызванная «перебросками», была разрешена лишь подписанием советско-финляндского коммюнике 28 января 1931 г.
15 ноября 1930 г.
6. – О пребывании т. Литвинова в Женеве (т. Крестинский).
[…]
в) Считать нецелесообразным проезд т. Литвинова на обратном пути через Литву.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 15 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.11.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 68.
В очередной раз[638] предложение о кратком визите Литвинова в Каунас возникло в ходе советско-литовских консультаций об урегулировании положения немецкого населения в Мемеле. При рассмотрении этого вопроса в Совете Лиги Наций в сентябре 1930 г. германская дипломатия добилась принятия постановления о создании Директории для управления Мемелем с участием представителей мемельских немцев. В начале октября германское правительство поставило Москву в известность о том, что «определенное давление», оказываемое литовскими властями при проведении выборов в Мемельский сейм, может вызвать непризнание Германией этих выборов и ее новое обращение в Лигу Наций[639]. С другой стороны, уступки, сделанные Зауниусом в Женеве вызвали сильное возмущение в литовском общественном мнении и затруднения в формировании Директории, вследствие чего литовско-немецкие отношения продолжали оставаться напряженными. Следуя традиционной линии на культивирование сотрудничества в треугольнике Москва-Каунас-Берлин, советская дипломатия призывала немецких партнеров учитывать настроения литовского общества и предпринять со своей стороны шаги по разрядке напряженности (отзыв генконсула из Мемеля и др.), одновременно убеждая литовское правительство проявить умеренность и добрую волю в разрешении этого конфликта[640].
Правительство Литвы проявило заинтересованность в том, чтобы расширить участие СССР в урегулировании мемельского спора и непосредственно вовлечь его в литовско-немецкую дискуссию о составе Директории. 11 ноября 1930 г. при свидании с исполнявшим обязанности наркома Крестинским посланник Литвы Ю. Балтрушайтис передал ему просьбу о советском посредничестве. Посланник просил Литвинова, который в конце ноября, по возвращении из Женевы, намеревался сделать остановку в Берлине, детально обсудить создавшееся положение с министром иностранных дел Германии Ю. Курциусом и статс-секретарем МИД Б. Бюловым. Завершая свое обращение, Балтрушайтис вернулся к старому вопросу о кратком посещении наркомом по иностранным делам столицы Литвы. «Сейчас, после женевского поражения Литвы по мемельскому вопросу, в широких кругах литовского населения, не только у оппозиции, но и у сторонников правительства, появилось некоторое разочарование в Германии, зато усилились симпатии к СССР, который все время бескорыстно поддерживал Литву, – заявил посланник. – Такое отношение масс литовского населения к СССР обеспечивает М[аксиму] М[аксимовичу] дружественный прием». Визит Литвинова в Каунас вслед за ходатайствами в МИД Германии по литовским делам сулил существенно укрепить как международные позиции Литвы, так и привести к частичному реваншу за «женевское поражение». Балтрушайтис также выразил уверенность в том, что беседы Литвинова с Зауниусом в Каунасе послужат «исходным моментом для полного восстановления прежних дружественных отношений и для дальнейшего их развития». В случае положительного ответа на этот зондаж, литовский посланник был готов передать официальное приглашение посетить Каунас[641].
Мнение Литвинова, запрошенного НКИД по поводу обращения литовского правительства, установить не удалось. Крестинский, ориентированный на восстановление и укрепление советско-немецко-литовского согласия, считал достижение прочной разрядки в советско-польских отношениях химерой и потому склонялся к позитивному ответу на приглашение Литвы[642]. Направление мыслей Сталина в ноябре 1930 г. было противоположным, он стремился изыскать пути для того, чтобы компенсировать эскалацию напряженности в отношениях СССР с Францией осенью 1930 г. 19 ноября полпред в Анкаре Я.З. Суриц сообщил в Москву о беседах с польским коллегой, который предложил сообща возбудить вопрос о заключении между СССР и Польшей пакта о нейтралитете. Несмотря на то, что возможность такого пакта никогда в Москве не обсуждалась, Сталин немедленно и лично телеграфировал Сурицу: «Предложение польского посла заслуживает внимания. Продолжайте с ним беседу и заявите, что Вы могли бы взять на себя постановку вопроса перед Советским правительством о двустороннем пакте нейтралитета, если…польское правительство действительно готово пойти на такой шаг»[643]. По всей вероятности, опасения, что визит главы советской дипломатии в Каунас сорвет возможность политической нормализации в советско-польских отношениях и подтолкнет Варшаву к открытой солидаризации с Парижем, взяли верх при обсуждении поставленного Крестинский вопроса и обусловили вывод о нецелесообразности «проезда» наркома через Литву.
20 ноября 1930 г.
Решение Политбюро
20/33. – О т. Фехнере (т.т. Крестинский, Менжинский).
Разрешить т. Фехнеру выезд в Ковно.
Протокол № 16 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.11.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 805. Л. 9.
К тому времени, когда этот вопрос был поставлен перед Политбюро, решение о переводе полпреда Петровского и назначении полномочным представителем СССР в Каунасе М.А. Карского уже было принято[644]. Его выезд задерживался из-за необходимости передачи дел новому руководителю 1 Западного отдела. В полпредстве в Литве был необходим человек, искушенный в проблематике советско-литовских и советско-польских отношений. А.В. Фехнер, продолжительное время работавший в 1 Западном отделе НКИД, удовлетворял этому требованию. Однако осенью 1930 г. в эмигрантской печати появились разоблачительные материалы В. Бурцева о Фехнере, (он обвинялся в причастности к похищению генерала Кутепова в январе 1930 г.). Трудно судить, насколько достоверна была информация Бурцева; поверенный в делах Англии в Эстонии Джером выражал возмущение ею и указывал на несоответствие некоторых приводимых в печати деталей фактическим обстоятельствам[645].
В ОГПУ сложилось мнение, что под влиянием публикаций Бурцева, белоэмигранты попытаются совершить в отношении Фехнера акт мести, и настаивали на отмене поездки в Ковно. Коллегия НКИД не согласилась с этим и внесла вопрос «в инстанцию». Через два дня после решения Политбюро и «завершения лечения» Фехнер отбыл в Каунас[646].
30 ноября 1930 г.
Решение Политбюро
12/20. – О концессиях «Ян Серковский» и «Жесть-Вестен» (т.т. Шверник, Каменев, Ганецкий).
а) Признать целесообразным ликвидировать концессию «Ян Серковский».
б) Поручить Главконцесскому добиться минимальной суммы компенсации (не свыше одного миллиона рублей) за оборудование и капитальные вложения.
в) Предложить ЦК металлистов свои действия по отношению к концессии «Ян Серковский» согласовать с т. Каменевым.
[…]
Выписки посланы: т.т. Каменеву, Швернику, Булату.
Протокол № 17 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.12.1930. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 806. Л. 12.
Десятью днями раньше вопрос о польской концессии «Ян Серковский» был поставлен в числе других «вопросов ВЦСПС» его новым председателем Н.М. Шверником. «В связи с трудовым конфликтом на концессионном заводе “Ян Серковский”» Политбюро поручило комиссии Оргбюро (Шверник, Крестинский, Булат, Лебедев, Лобов) «определить, какие убытки мы можем понести в случае ликвидации концессии»[647].
Вероятно, привлечение начальника Главконцесскома Л. Б. Каменева и члена Коллегии НКТ Я.С. Ганецкого к рассмотрению этого вопроса в Политбюро обусловливалось заключением комиссии Оргбюро в пользу ликвидации концессии.
15 января 1931 г.
2. – О Румынии и Турции (т. Литвинов).
Поручить рассмотреть вопрос комиссии в составе т.т. Молотова, Литвинова, Ворошилова и Сталина. Созыв комиссии за т. Молотовым.
Выписки посланы: т.т. Молотову, Литвинову, Ворошилову, Сталину.
Протокол № 23 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.1.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 116.
9 января 1931 г. посол Турции в Москве Х. Рагиб-бей передал наркому по иностранным делам предложение о возможном посредничестве Турции в нормализации советско-румынских отношений. Согласно сообщению посла, министр иностранных дел Т. Рюштю, получив приглашение посетить Бухарест в начале 1931 г., обусловил свой визит возможностью достижения практических сдвигов в урегулировании отношений Румынии с СССР и Венгрией. По мнению министра, главным мотивом этого приглашения явилось «желание Румынии зондировать его насчет возможности советско-румынского соглашения», и потому он поручил послу в Москве выяснить советские соображения на этот счет. Литвинов выразил скептицизм относительно серьезности намерений Бухареста, однако «обещал подумать и дать ответ Рюштю через несколько дней»[648].
Вероятно именно по этому поводу 15 января Литвинов представил свои соображения на усмотрение Политбюро. Нарком и его коллеги не могли не учитывать, что инициатива турецкой дипломатии являлась одним из проявлений общей тенденции к поискам разрешения бессарабской проблемы на рубеже 1930–1931 гг.
17 декабря состоялась важная дискуссия между министром иностранных дел ЧСР Э. Бенешем и полпредом А.Я. Аросевым. Чехословацкий министр резко отозвался о процессе «Промпартии», продемонстрировавшем Европе, что не только из Рима, но и из Москвы исходит «угроза миру», так что стало «достаточно какого-либо незначительного повода, чтобы началось столкновение Европы с СССР». В заключение беседы Бенеш заявил о своем стремлении установить с СССР «такие же отношения как с Францией» и принялся уверять Аросева, в том, «какие были бы благие последствия, если бы СССР не отвергал его, Бенеша, посреднических услуг в деле улаживания бессарабского конфликта»[649]. В конце 1930 г. посланник Польши в Анкаре К. Ольшовский в доверительных беседах с полпредом Сурицем предлагал СССР приступить к нормализации советско-румынских отношений на основе признания вопроса о Бессарабии открытым[650]. 9 января 1931 г., одновременно с посещением Литвинова Рагиб-беем, член Коллегии НКИД Б.С. Стомоняков нанес визит новому послу Италии в СССР Б. Аттолико, который высказал убеждение, что СССР совершает ошибку, «не обращая должного внимания на румынскую проблему», тогда как «Румыния является наиболее слабым звеном в цепи послевоенных союзов, созданных Францией» – она не граничит с Германией и находится в конфликте с Венгрией, Болгарией и Россией. «Ввиду этого, – заявил Аттолико, – Румынию легче, чем других союзников Франции можно было бы оторвать от последней. В этом заинтересована Италия и заинтересован Советский Союз, не только вследствие враждебности нам Франции, но прежде всего вследствие союза между Румынией и Польшей. Главным препятствием является, однако, страх Румынии перед СССР, удерживающий Румынию в орбите Франции». Аттолико напомнил Стомонякову о том, что и он, и министр иностранных дел Италии Д. Гранди недавно обсуждали эту тему с Литвиновым. Несмотря на различие мотивации, совет итальянского посла относительно путей выхода из бессарабского тупика совпадал с рекомендацией К. Ольшевского. «Единственное, в чем и вы и Румыния согласны в этом вопросе, – сказал А[ттолико], – это то, что вы оба не можете договориться по этому вопросу. Это именно и надо зафиксировать в будущем соглашении между вами и Румынией». Стомоняков в ответ заявил, что «это был бы странный договор»[651], (вероятно, он был далек от предвидения, что спустя год ему придется отстаивать необходимость такого соглашения с Румынией)[652].
Таким образом, советскому руководству приходилось считаться с настойчивыми предложениями как ближайших партнеров СССР (Турции и Италии), так и его «вероятных противников» (Польши и ЧСР) приступить к нормализации отношений с Румынией. Ситуацию дополнительно усложняли слухи об усилившихся разногласиях Бухареста и Варшавы накануне продления ими союзного договора и огласка, которую получили беседы В.А. Антонова-Овсеенко с Ю. Беком и А. Залесским относительно возобновления переговоров о пакте ненападения между СССР и Польшей. В начале января по указанию Литвинова ТАСС опроверг сообщение «румынской фашистской газеты “Лупта”» о том, что, что для срыва польско-румынских переговоров СССР предложил Польше заключить договор, который включал бы взаимные обязательства неучастия во враждебных соглашениях[653]. В беседе с послом Турции Литвинов высказал мнение, что «нам нужно быть теперь особенно осторожными ввиду каких-то интриг, с одной стороны Польши, с другой стороны – Румынии для взаимного шантажа»[654].
Отражением этой «особой осторожности», вероятно, и явилось постановление о создании комиссии авторитетных членов Политбюро, в которой подчеркнуто важная роль отводилась председателю СНК СССР – едва ли не главному оппоненту Литвинова. Результаты работы комиссии в точности неизвестны. Вероятно, сильное воздействие на исход дискуссий в высшем руководстве СССР оказало заключение 15 января 1931 г. гарантийного договора между Польшей и Румынией, заменившего ранее действовавшее союзное соглашение 1926 г. Судя по материалам НКИД (и его новому обращению в Политбюро в марте 1931 г.)[655], комиссия Молотова пришла к выводу о целесообразности воздерживаться от инициативы в налаживании контактов с Бухарестом и ограничиться ответом, данным Литвиновым Рюштю через турецкого посла в Москве. На вопрос румынского посланника в Ангоре о том, намерен ли он предложить свое содействие в урегулировании советско-румынских отношений, Т. Рюштю заявил, что возобновление союзного договора между Польшей и Румынией делает такое посредничество невозможным[656].
15 января 1931 г.
7. – О торговле с Польшей (т.т. Розенгольц, Литвинов).
а) Независимо от хода переговоров с польским правительством немедленно приступить к реализации заказов на металл.
б) Утвердить с поправками следующие предложения Наркомвнешторга:
1. Разрешить НКИД и НКВТ вступить в переговоры с польским правительством о возможности размещения в Польше заказов черных металлов на сумму 20–25 млн. руб. при условии получения от польского правительства соответствующих компенсаций.
2. Компенсации должны быть представлены в форме:
а) разрешения свободного ввоза либо предоставления СССР контингентов на ввоз в Польшу пшеницы, рыбы, пушнины, живой птицы, костяного клея, кишек;
б) освобождения от ввозной пошлины ячменя и овса;
в) заключения табачной монополией договора о поставке в 1931 г. табаков на сумму 6–7 млн. руб.;
г) обеспечения преимущественных закупок государственными и муниципальными органами наших товаров (в частности, автошин);
д) оказания через банки воздействия на крупнейшие польские фирмы по заключению с нами длительных договоров на покупку наших товаров (руда железная и марганцевая, костяной клей);
е) обмена нотами о наибольшем благоприятствовании.
3. Переговоры вести одновременно полпреду и торгпреду в Польше с польским правительством и предправления Цветметимпорта в Берлине с руководителями польской промышленности.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Литвинову.
Протокол № 23 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.1.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 117.
Постановление Политбюро явилось наиболее масштабным из решений высших органов СССР в области экономического сотрудничества с Польшей в конце 20-х – начале 30-х гг. Наряду с хозяйственным кризисом в Польше, вызвавшим усиление протекционизма, главным препятствием к поддержанию и расширению такого сотрудничества являлось отсутствие торгового договора между двумя странами. Намечавшиеся в 1928 г. переговоры о его заключении были сорваны вследствие несогласованности действий польской миссии в Москве и МИД Польши и поведения советских властей («дело Скальского»). На рубеже 1930–1931 гг. в переговорах с Министерством промышленности и торговли Польши советские представители предприняли попытку вновь поднять вопрос о торговом договоре. При этом в качестве образца выдвигались договоры, охватывавшие широкий круг позиций (например, советско-эстонский). Убедившись в «сдержанности польской стороны», Москва выдвинула «концепцию более узкого договора»[657]. В отличие от советских предложений 1928 г., в программе января 1931 г., не затрагивались общие проблемы кредитного обеспечения советских закупок, транзита, железнодорожных и таможенных тарифов (за исключением пошлин на вывозимые в Польшу ячмень и овес). Однако главные элементы новых директив Политбюро – введение режима наибольшего благоприятствования, определение контингентов и преференций – сближали намечаемое ими соглашение с торговым договором.
Первая часть («а») постановления Политбюро отражала заинтересованность НКВТ и НКТП в продолжении сотрудничества с польскими горными концернами. 1 апреля истекало соглашение, заключенное 17 июня 1930 г. на поставку в СССР 151 тыс. тонн железа. Однако советские хозяйственные ведомства нуждались в больших объемах поставок, и к 1 апреля им было фактически отгружено 169 тыс. тонн железа и стального проката[658]. Потребности СССР в импорте черных металлов из Польши к началу 1931 г. возросли (общий импорт черных металлов в 1931 г. достиг рекордного уровня – 1624 тыс. тонн[659]). Однако для Польши, по оценке полпредства, закупка Советским Союзом железа стала «менее интересна, чем в прошлые годы» в силу ухудшения условий кредитования польского экспорта и ожидания крупных заказов на достройку (благодаря французскому займу) железнодорожной линии Верхняя Силезия – Гдыня[660]. Эти обстоятельства ставили под сомнение основную посылку второй части («б») постановления – тезис о достижимости существенных уступок польского правительства в случае размещения крупных советских заказов на металл, тем более, что Политбюро распорядилось о немедленной выдачи таких заказов «независимо от хода переговоров».
Импорт животноводческих продуктов в Польшу затруднялся необходимостью получать на каждый ввозимый контингент специальное разрешение Министерства земледелия, которое обладало правом отказать во ввозе, несмотря на наличие ветеринарных, санитарных и иных удостоверений[661]. Поэтому принятые тремя годами ранее директивы Политбюро к переговорам с Польшей о торгдоговоре предусматривали в качестве необходимого его условия одновременное заключение «ветеринарной конвенции, обеспечивающей экспорт в Польшу и транзит через Польшу продуктов животноводства из СССР»[662]. Новое постановление Политбюро по существу предлагало отказаться от попыток закрепления прав советских экспортеров в форме ветеринарной конвенции и взамен этого добиваться эксклюзивных гарантий министерства земледелия. В отличие от железной и марганцевой руды, костяного клея и табаков, относительно ввоза которых из СССР мог быть достигнут компромисс (несмотря на ухудшение их качества, отмечавшееся представителями Министерства промышленности и торговли Польши), расчеты на экспорт в Польшу зерновых были некомпетентны. Они не учитывали ни сельскохозяйственного баланса Польши, ни озабоченности правительства падением производства из-за снижения хлебных цен (в 1930 г. потери земледельцев составили около полумиллиарда злотых). Ссылаясь, в частности, на выступления в Сейме министра земледелия, в котором тот отметил влияние на польскую деревню «советского демпинга» пшеницы и ячменя, полпред предупреждал, что «разговоры с поляками» об импорте пшеницы, ячменя и овса на указанных условиях являются «в высшей степени несерьезными», и «выдвижение таких несуразных требований будет дискредитировать все переговоры»[663]. «Мы не запретили ввоза, не повышали пошлин на зерно. Если будем нуждаться в хлебе, пожалуйста, ввозите. Но допустить беспошлинный ввоз немыслимо» – заявил Антонову-Овсеенко и Климохину министр торговли А. Пристор в ответ на изложение ими программы Политбюро.
Последний пункт(«е») этого раздела постановления еще более затруднял поставленную в нем задачу. Из предшествующих сообщений варшавского полпредства Москве было известны решительные возражения польского союза промышленников «Левиафан» и правительственных кругов против предоставления СССР прав наибольшего благоприятствования в торговле. Антонов-Овсеенко полагал, что внесение этого условия в перечень запрашиваемых СССР компенсаций имеет практической целью получение гарантий на неизменность условий ввоза определенных товарных контингентов. На нелогичность выдвижения такого требования в общем ряду указал 31 января 1931 г. при рассмотрении советских предложений министр торговли А. Пристор. Поскольку обмен нотами о наибольшем благоприятствовании неотъемлем от заключения общего торгового договора, он предложил советской стороне внести соответствующее предложение[664].
Установленные Политбюро приоритеты и порядок ведения торговых переговоров предрешали их провал. Следуя первому пункту решения Политбюро, представитель НКВТ Жуковский в конце января провел переговоры с генеральным директором Катовицких заводов («Бисмарк Хютте») Шерфом и 5 февраля, «ввиду неотложности нужд нашей металлургии», выдал двухмесячный заказ на продукцию концерна в обмен на обязательство «держать в тайне от поль[ского] пра[вительства] состоявшуюся сделку» и «нажимать на Пристора» в интересах общего урегулирования на желаемых СССР условиях. Антонову-Овсеенко и торгпреду Климохину пришлось указать на немыслимость сохранения сделки в тайне от правительства, «ибо и банки, и жел[езно] дор[ожное] управление и т. д. должны быть соответственно подготовлены». За сделкой 5 февраля на поставку 70 тыс. тонн проката вскоре (29 марта и 7 апреля) последовали соглашения о дополнительных поставках в общей сложности 186 тыс. тонн железа и стали[665]. Независимо от коммерческого успеха в отношениях с горными концернами, переговоры «можно считать собственно сорванными», – резюмировал полпред через две недели после решения Политбюро об их начале[666]. Стимулирование советского экспорта без обусловливания его новыми заказами было, в условиях нараставшего в Польше экономического кризиса, бесперспективным. В результате вывоз советской продукции и сырья (в частности, апатитов) снизился с 14,1 млн. рублей в 1930 г. до 7,5 млн. рублей в 1931 г. Примерно на ту же сумму сократился и импорт польских товаров, который в 1931 г. тем не менее оказался вчетверо выше советского экспорта в Польшу (31,2 млн. рублей). Отрицательное сальдо в торговле с Польшей достигло 8 % общего отрицательного сальдо внешней торговли СССР, тогда как объем польско-советской торговли составил всего 2 % от его общего товарооборота[667].
Краткий анализ решения Политбюро позволяет установить, что оно было подготовлено без согласования ведомствами (НКВТ и НКИД) общей торговой политики в отношении Польши, чего настойчиво добивалось руководство Наркоминдела (прежде всего, Стомоняков). При определении приоритетов ведения переговоров предпочтение было отдано текущим потребностям советской металлургии и машиностроения, и наркомат внешней торговли согласовывал закупочную политику не с НКИД, а с НКТП. Политические причины, вызвавшие согласие Политбюро (и, возможно, НКИД) с односторонними и непродуманными предложениями НКВТ, состояли в необходимости активизировать отношения с Польшей в области делового сотрудничества и компенсировать, таким образом, ущерб, вызванный опровержениями советской стороной факта переговоров с Варшавой в конце 1930 г.[668] Изменение тактической линии Москвы (которое не только не рассматривалось Политбюро, но и, судя по имеющимся материалам, не было отчетливо сформулировано и Наркоминделом) заключалось в том, чтобы избегать обсуждения общих проблем – заключения между СССР и Польшей гарантийного пакта и торгового договора, но при этом сохранить достигнутое к лету 1930 г. смягчение двухсторонних отношений. В ответ на предложение вице-министра по иностранным делам Ю. Бека о специальной встрече представителей СССР и Польши для обсуждения комплекса торговых отношений Антонов-Овсеенко, «стремясь избегнуть возвращения к принципиальным вопросам и сообразно линии, как будто ныне взятой», заявил: «Мы уже пытались провести такое совещание […] Ныне речь идет о конкретных вещах»[669]. Как показывают пометы Стомонякова, Антонов-Овсеенко излишне резко сформулировал позицию Москвы, которая стремилась найти средний путь между переговорами с Польшей о заключении крупных соглашений и сведением польско-советских отношений к частным политическим или торговым вопросам. Решение Политбюро от 15 января, вероятно, было призвано как подкрепить эту внешнеполитическую линию, так и удовлетворить соответствующие потребности хозяйственных ведомств.
20 января 1931 г.
Решение Политбюро
4/11. – О соглашении с финнами и шведами по лесоэкспорту (т.т. Розенгольц, Данишевский, Литвинов).
а) Принять предложение Наркомвнешторга о вступлении в переговоры с шведскими и финскими лесопромышленниками о соглашении по лесоэкспорту на основе предложенной HКВТ схемы.
б) Поручить т. Розенгольцу согласовать с т. Молотовым цифры компенсации за нерасширение экспорта.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Литвинову, Молотову.
Протокол M 24 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.1.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. On. 162. Д. 9. Л. 122.
В результате экономического кризиса на европейских рынках резко упали цены на лес. Испытывавший крайнюю нужду в валюте, Советский Союз был вынужден поставлять продукцию лесной промышленности по низким ценам, тем более, что качество советских лесоматериалов нередко было низким. В соседней Финляндии работодатели смогли добиться повышения эффективности лесной отрасли и снизить себестоимость продукции при сохранении ее высокого качества. В итоге, несмотря на сокращение абсолютных размеров финского лесного экспорта, его позиции на европейском рынке укрепились[670]. Положение СССР усугубляли обвинения в демпинге, призывы к срыву замыслов Москвы по подрыву европейской экономики. В начале 1931 г. министр иностранных дел Финляндии Я. Прокопе в ходе женевских встреч убеждал своих коллег в необходимости борьбы с советским демпингом, ссылаясь на применение в СССР принудительного труда на лесозаготовках[671]. Заключение соглашения с финскими и шведскими лесоэкспортерами имело поэтому важное значение не только для закрепления за СССР достигнутого высокого уровня (квоты) в лесном экспорте, но и для срыва усилий по расширению экономических санкций против СССР (осенью 1930 г. введенных Францией). Неофициальные контакты представителей советских, шведских и финских лесоэкпортеров поддерживались на протяжении 1929–1930 гг., но каких-либо результатов не приносили.
Конкретными причинами постановки этого вопроса на Политбюро явились, во-первых, продолжавшееся падение цен на товары лесоэкспортирующих фирм на европейском рынке и, во-вторых, занятая финскими и шведскими лесоэкспортерами позиция выжидания в вопросе о заключении трехстороннего соглашения по лесоэкспорту, фактический отказ их сформулировать собственные предложения об основе возможных переговоров. НКВТ была необходима санкция высшего политического руководства страны на ведение подобных переговоров. Судя по всему, когда в 1929 г. СССР резко увеличил поставки лесоматериалов по низким ценам на европейский рынок, возникновения подобной ситуации в Москве не предвидели. Согласно «Внутреннему бюллетеню» «Экспортлеса» СССР в 1929 г. предложил на рынок 752 тыс. стандартов лесоматериалов, тогда как в предшествующем году было всего 197 тыс. стандартов, по другим данным – 896 тыс. стандартов в 1929 и 465 тыс. в 1928 г.[672]. Это, с учетом разразившегося мирового кризиса, повлекшего за собой сокращение объемов лесного рынка, вызвало тревогу у шведских и особенно финских экспортеров леса (сама проблема советского лесного экспорта возникла еще в 1925 г., когда впервые шведские экспортеры оказались серьезно озабоченными советскими поставками на европейский рынок. Тогда в Скандинавию выезжала специальная комиссия во главе с Ф. Я. Рабиновичем, переговоры которой с западными лесоэкспортерами ни к чему не привели: шведская сторона просто не выдвинула своих предложений, поскольку выяснилось, что первые тревоги были не слишком обоснованы). Экспорт лесоматериалов составлял более половины всего экспорта Финляндии, его сокращение болезненно отзывалось на благосостоянии весьма широких слоев населения. Одним из первых, кто с ноября 1929 г. стал настойчиво ставить перед советскими властями вопрос о необходимости компромисса в разделе рынка, был глава Банка Финляндии Ристо Рюти. К началу 1930 г. роль «советской составляющей» учитывалась широкими кругами политиков и предпринимателей. События декабря 1929 г. в Лапуа, положившие начало быстро набравшему силу массовому антикоммунистическому движению в Финляндии, в Москве имели основания связывать с сокращением финского экспорта. Военная разведка оценивала опасения финской буржуазии, связанные с советской конкуренцией, как один из главных факторов, способствующих росту у нее агрессивных намерений[673]. В свою очередь, полпред Майский в «Справке по вопросу о финско-советских отношениях за 1930 г.» отмечал, что из-за возвращения СССР на мировой лесной рынок «сильно увеличилась безработица, сильно упали доходы крестьянства, ибо свыше половины всех лесозаготовок происходит на крестьянских землях», результатом чего стали организация лапуасцами бойкота советских товаров, хулиганские выходки против магазинов «Резинотреста» и базовой станции «Нефтесиндиката»[674]. Однако в 1930 г. и для СССР лесной экспорт превратился в важнейший источник поступления валютных средств (особенно на фоне сокращения хлебного экспорта), необходимых для ускоренной индустриализации. Этим объясняется указание Политбюро А.П. Розенгольцу согласовать вопрос о компенсации за нерасширение лесного экспорта с председателем СНК В.М. Молотовым.
О значении, которое придавало лесному экспорту советское руководство, свидетельствует прием Л.М. Кагановичем и И.А. Акуловым, заместителя руководителя Группы рационализации промышленности НК РКИ СССР К.И. Альбрехта[675] перед его выездом в Финляндию, Швецию, Норвегию и Германию в июле 1930 г. для ознакомления с состоянием лесного дела. Беседа вращалась вокруг необходимости выяснить отношение лесопромышленников Финляндии и Скандинавии к «совместной работе по лесоэкспорту». По своем возвращении К.И. Альбрехт отметил, что методы работы «Экспортлеса» вызывают возмущение финских лесопромышленников (оно достигло наивысшего предела, когда по неизвестным причинам оказались сорванными встречи в Берлине и Гамбурге представителей финских лесоэкспортеров с председателем правления «Экспортлеса» Данишевским). Он предлагал как можно скорее добиться договоренности о совместных действиях лесоэкспортеров и создать международную организацию во главе с Данишевским. Соглашение могло быть ограничено тремя годами, с тем, чтобы за это время модернизировать советскую лесоперерабатывающую промышленность, снизить себестоимость и повысить качество продукции. В будущем это позволило бы действовать самостоятельно на рынках Европы без оглядки на Скандинавию[676].
СССР претендовал почти на половину экспорта трех стран. Кроме этого, сложность в поисках компромисса, например со шведскими лесоэкспортерами, вызывал их отказ гарантировать соблюдение соглашения всеми шведскими фирмами. Неторопливость шведских и финских лесоэкспортеров, вероятно, объяснялась не только расчетом на существенное урезание запросов Москвы, но и тем, что объемы советского экспорта еще далеко не достигли довоенного уровня. Правительственные круги Финляндии держались индифферентно (глава МИД Я. Прокопе даже высказывал сомнения, что переговоры финских лесоэкспортеров с СССР вообще имели место)[677]. Нараставшая на Западе кампания против закупок русского леса, который добывается «бесплатным трудом каторжников», вызывала в Москве тревогу и подстегивала ее в желании ускорить достижение компромисса.
Переговорный процесс направлялся НКВТ. Судя по всему, в октябре-ноябре 1930 г. НКИД в лице Н.Н. Крестинского безуспешно пытался договориться с внешнеторговым ведомством о совместной работе по проблеме лесоэкспорта. Руководство Наркомторга выступило тогда категорически против временного соглашения с финнами и шведами. В середине ноября Крестинский собирался поставить этот вопрос «в разных инстанциях». Осведомленность НКИД в проблемах лесного рынка в Европе и возможностей советского экспорта основывалась преимущественно на материалах прессы[678], что объясняет нередкие ссылки в дипломатической переписке на нежелательность обсуждения разногласий с НКВТ в Совнаркоме: перенося дискуссию в Политбюро, НКИД мог уверенно оперировать международно-политическими соображениями, вместо того, чтобы втягиваться в дискуссию по более сложным для этого ведомства экономико-политическим проблемам. Формулировки решения Политбюро подчеркивают, что в этой сфере внешнеполитическое ведомство занимало невысокое место среди других наркоматов. Его роль в подготовке рассматриваемого постановления была ограничена «визированием» предложений НКВТ – 3 января 1931 г. Коллегия НКИД признала соглашение с лесоэкспортерами Финляндии и Швеции желательным «при условии его хозяйственной приемлемости для нас»[679]. Примерно в то же время в НКВТ состоялось совещание под председательством Данишевского, в нем приняли участие полпреды И.М. Майский и А.М. Коллонтай. Предложение (вероятно, исходившее от торгпреда в Польше С.К. Климохина) о включении в число потенциальных партнеров Польши и сама такая возможность «были категорически отвергнуты даже и для кампании 1932 года»[680].
В середине января нарком А.П. Розенгольц направил Генеральному секретарю записку «О соглашении с финскими и шведскими промышленниками об ограничении экспорта пиломатериалов». В ней давалась краткая характеристика лесного экспорта Швеции, Финляндии и СССР и указывалось, что НКВТ неоднократно, в том числе от английских брокерских фирм, получал предложения заключить соглашение по экспорту пиломатериалов, основным пунктом которого стало бы предоставление СССР кредита в обмен на сокращение экспорта. В НКВТ полагали, что на таких переговорах СССР окажется в выгодном положении, поскольку, в отличие от конкурентов способен выдержать установившиеся на рынке низкие цены. К записке прилагался проект постановления Политбюро, которым НКВТ поручалось вести переговоры «на основании следующей схемы»:
– СССР ограничивает продажи пиломатериалов на рынках Англии, Германии, Голландии, Бельгии, Дании и Южной Африки (всего – 950 тыс. стандартов в 1931 г., вместо намеченных 1100 тыс.; и 1150 тыс. в 1932 г.); взамен шведские и финские партнеры устанавливают верхний предел своего общего экспорта на 1931 г. – 1300 тыс., на 1932 г. – 1150 тыс. стандартов;
– на остальных рынках стороны обладают полной свободой действий;
– в качестве компенсации СССР получает пятилетние кредиты: 25 млн. рублей в 1931 г. (стоимость «недовывезенных пиломатериалов» равнялась 10 млн., 30 млн. руб. – в 1932 г.;
– вслед за подписанием соглашения стороны устанавливают цены запродаж на весь 1931 г.;
– стороны обязуются ежемесячно предоставлять друг другу информацию о совершенных сделках;
– условием соглашения является получение СССР реальных гарантий, что оно «будет распространяться действительно на весь экспорт Швеции и Финляндии».
Руководство НКВТ предлагало возложить ведение переговоров на члена Коллегии наркомата Данишевского, и не просило подкреплять их дипломатическими акциями со стороны представителей НКИД[681]. Намеченные условия отличались сравнительным реализмом, в особенности при определении советской квоты на начавшийся 1931 г. Одной из главных причин снижения уровня советских притязаний явилось понимание невозможности выполнить намечавшиеся планы по поставкам за границу из-за неудовлетворенности нужд внутреннего рынка, дефицита рабочей силы, скверного состояния портовых мощностей и железнодорожного транспорта. Вместе с тем, предложения НКВТ не учитывали возможностей конкурентов изменить в свою пользу ситуацию на лесном рынке и без достижения соглашения с СССР. Первоначальная реакция финских фирм-лесоэкспортеров на предложение советской стороны о переговорах была негативной, тем не менее, в июне 1931 г. в Берлине состоялся первый раунд переговоров. Финскую сторону представляли Гуннар Яатинен, Аксель Солитандер, Э.Ф. Вреде; советскую – глава «Экспортлеса» Данишевский. Неожиданно для финнов Данишевский поставил вопрос о кредитовании советского экспорта. На это он получил отрицательный ответ[682].
20 января 1931 г.
Решение Политбюро
8/15. – О хлебоэкспорте в Эстонию (т.т. Розенгольц, Литвинов).
Разрешить НКВТ договориться с эстонским правительством о закупке Эстонией всего количества потребных хлебопродуктов в СССР с тем, что СССР покупает в Эстонии продовольственных с.-х. продуктов на сумму, равную до 70 % стоимости излишка советского хлебного экспорта в Эстонию в 1931 г. по сравнению с 1929/30 г., но не свыше, чем на 500 тыс. рублей.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Литвинову.
Протокол № 24 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.1.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 122.
Незадолго до принятия этого решения нарком А. П. Розенгольц вызвал временного поверенного в делах Эстонии в СССР Эпика для сообщения, что, «приняв руководство новым комиссариатом (НКВТ), он заинтересовался возможностями расширения торговых отношений с Эстонией и после изучения вопроса пришел к мысли о возможности завоза молочных продуктов из Эстонии в Ленинград при условии расширения нашего хлебоэкспорта». Если Эстония обяжется покрыть свою потребность в пшенице у СССР, то часть «перевыручки» (по сравнению с предыдущим годом) Москва готова употребить на покупку молочных продуктов[683]. Интерес руководителя внешнеторгового ведомства к развитию связей с Эстонией был необычен. Торгпред СССР в Таллине И.А. Смирнов, на совещании в Наркомторге в 1929 г. имел основания утверждать: «Торгпредство в Эстонии не входит даже в расчет во всей системе нашей внешнеторговой политики Союза… Торгпредства в Париже, Берлине, Аркос, Амтрог берутся как крупные единицы, на которых базируется и строится весь наш внешнеторговый оборот, мы же являемся пасынками, мы сидим и ждем здесь, когда нашим комитентам заблагорассудится отдать лишний кусок и нам… Что такое эстонский рынок? Это не рынок, а слезы»[684].
Вопрос о закупке в Эстонии молочных продуктов для Ленинграда и Ленинградской области был поднят летом 1930 г. после поездки в СССР делегации эстонских хозяйственных кругов. Тогда руководство 1 Западного отдела НКИД было сильно раздосадовано тем, что ленинградские хозяйственники оказались не в меру разговорчивыми и обнадежили эстонцев возможностью закупок у них молочных продуктов[685]. В конце июля министр народного хозяйства Циммерман в беседе с торгпредом А.А. Дедя вернулся к этой теме, предлагая взамен понизить пошлины на советские резиновые и электроизделия[686]. В Москве понимали, что от заключенного в 1929 г. торгового договора (проводить утверждение которого через парламент помогал неофициальный юрисконсульт торгпредства К. Пятс, ставший в феврале 1931 г. главой государства) Таллин ничего не выиграл: советский экспорт сильно возрос, тогда как советский ввоз из Эстонии резко снизился. Н.Н. Крестинский, обращая внимание внешнеторгового ведомства на то, что «неудовлетворительное положение наших торговых отношений с Эстонией приносит нам большой вред» и «в политическом отношении мы дискредитируем нашу торгово-договорную политику», настаивал на увеличении импортного плана для Эстонии, усилении транзита, закупках скота, а также молочных продуктов для Ленинграда[687]. Избрание К. Пятса на высший государственный пост предоставляло СССР возможность ослабить пропольскую ориентацию эстонской внешней политики, используя экономические рычаги и представляя свое скромное предложение как уступку Эстонии. В НКИД были склонны истолковывать инициативы Таллина по продвижению сельскохозяйственной продукции на советский рынок[688] как проявление общей политико-экономической заинтересованности Эстонии в улучшении отношений с СССР.
Советско-эстонские контакты по поводу одобренного Политбюро предложения были обнадеживающими. На предложение СССР эстонское правительство отозвалось внесением законопроекта о запретительных пошлинах на американскую пшеничную муку, чтобы, как объяснил К. Пятс полпреду в конце января, «очистить рынок для нашей немолотой пшеницы»[689]. Однако к концу марта 1931 г. обсуждение намеченной договоренности зашло в тупик. На советские запросы Таллин перестал реагировать: мизерная уступка СССР в деле закупки эстонских сельхозпродуктов была, по существу, несоизмерима с его требованием о получении монополии на поставки зерна. Терпение НКВТ иссякло к началу июля; когда торгпред Г.К. Клингер получил указание А.П. Розенгольца заявить «подлежащим эстонским властям», что сделанное им предложение утратило силу[690].
20 февраля 1931 г.
Решение Политбюро
1/17 – О соглашении с Финнами и шведами по лесоэкспорту (ПБ от 20.1.31 г., пр. № 24, п. 4/11) (т. Сталин).
а) Констатировать, что постановление Политбюро от 20.1.31 г. о соглашении с финнами и шведами по лесоэкспорту Наркомвнешторгом ни в какой степени не выполнено.
б) Поручить СНК СССР принять меры к тому, чтобы Наркомвнешторгом было выполнено постановление Политбюро от 20.1.31 г. о соглашении с финнами и шведами по лесоэкспорту.
Выписки посланы: т.т. Молотову, Розенгольцу.
Протокол № 27 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.2.1931 – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 138.
За месяц, истекший со времени предшествующего решения Политбюро[691] НКВТ не удалось достичь никаких результатов в этом направлении. Новое постановление не привело к решительным переменам. В середине марта полпред в Швеции А.М. Коллонтай констатировала: «На очереди актуальная задача экономико-политическая: лесное соглашение со Швецией и Финляндией, основными экспортерами леса на мировой рынок… наши конкуренты подняли гвалт, что мы сбиваем цены». Полпред пригрозила министру иностранных дел Рамелю сокращением советских заказов, если кампания за бойкот советского леса будет продолжаться[692]. В начале апреля шведская печать сообщила о возможности достижения договоренности между шведскими лесоэкспортерами и «Экспортлесом», что вызвало обеспокоенность МИД Финляндии. Для выяснения фактического положения дел посланник в Стокгольме Р. Эрих срочно встретился с видным банкиром Оскаром Рюдбеком. Рюдбек объяснил, что ранее шведами рассматривалась возможность достижения соглашения с СССР, по которому он вместо продажи леса непосредственно в Англию и другие европейские страны использовал бы торговые фирмы северных стран, которые стали бы приобретать русский лес и на свой страх и риск заниматься его транспортировкой и продажей. Рюдбек позитивно оценивал появившуюся в печати информацию о возможном соглашении, в котором бы фиксировались контингента и цены, и считал, что в нем могла бы участвовать, помимо Швеции и Финляндии Норвегия. Одним из главных сторонников подобного соглашения Рюдбек назвал Акселя Валленберга, их основным оппонентом являлся глава объединения шведских лесоэкспортеров Вильхельм Экман[693].
В Финляндии новый торгпред М.Л. Стаковский продолжил попытки своего предшественника З. Давыдова вступить в переговоры с представителем финских лесоэкспортеров А. Солитандером, и в апреле-мае они провели несколько встреч. К концу апреля в советских правительственных кругах «значительно вырос интерес к заключению экспортного соглашения», в результате чего, сообщал Б.С. Стомоняков, в Москве было вынесено «новое решение» и посланы соответствующие телеграммы полпреду и торгпреду. С конца апреля Майский принял непосредственное участие в переговорах Стаковского-Солитандера. В качестве повода для их активизации советская сторона использовала предложение финнов о визите в Москву А. Хакцеля. «Экспортлес» ответил согласием, о чем Майский сообщил министру иностранных дел Юрье-Коскинену[694]. В середине мая директор Банка Финляндии Р. Рюти довел до сведения Майского новое предложение финской стороны – провести переговоры в Берлине в начале июня. Со своей стороны, 23 мая А. Солитандер направил письмо М.Л. Стаковскому, содержавшее намек на желательность приглашения СССР представителей шведских лесоэкспортеров; он вновь предлагал сообщить советские предложения[695].
По косвенным данным можно сделать предположение, что цифры утвержденной в январе 1931 г. на Политбюро схемы переговоров не были доведены до сведения шведской и финской сторон вплоть до берлинской встречи. Возможно, для руководства НКВТ и «Экспортлеса» стала очевидной явная завышенность собственных требований. Между тем, у конкурентов «Экспортлеса» росла уверенность в том, что время работает против русских, которые довели свой экспорт до такой абсурдной ситуации, когда он скоро не станет даже покрывать издержки на транспортировку[696]. А.Я. Прокопе в беседе с Майским в начале марта дал понять, что нежелание финских деловых кругов активизировать переговорный процесс объясняется неверием в стабильное выполнение Советской Россией эвентуального соглашения. Такая вера, считал Прокопе, может возникнуть только при проявлении советской стороной действительного желания реорганизовать собственную лесоперерабатывающую промышленность и лесную торговлю[697].
Трехсторонние переговоры состоялись 9 июня в Берлине и завершились безрезультатно. «Экспортлес» на переговорах представляли, в соответствии с постановлением Политбюро[698], К.Х. Данишевский, его заместитель Э. Пор и И.В. Боев (финскую сторону – Солитандер, Юлин и Вреде, шведскую – Прютц и В. Экман). Одно из главных выявившихся расхождений заключалось в том, что советская делегация настаивала на регулировании продаж только пиломатериалов, а не всех видов лесных товаров[699]. Кроме того, «в отношении цен мы настаивали на установлении определенных базисных цен. Финны предпочитали ограничиться совместным обсуждением цен. В отношении контроля за соблюдением квот, финны и шведы отказались от контроля за дикими экспортерами, но в случае превышения квот соглашались на снижение квот организованных экспортеров. В отношении кредита… [они – Авт.] отказались взять на себя какие-либо обязательства финансового характера. Финны плелись в хвосте у шведов»[700]. Информация о проходивших в полном секрете переговорах в прессе была крайне скупа, лишь в сентябре 1931 г. она стала достоянием довольно широких кругов, оценивавших, по словам Майского, возможность соглашения весьма оптимистически. Появились даже сообщения о наличии договоренности советской стороны с финнами по вопросам цен[701]. Одновременно в беседе со шведским посланником в Москве Гюлленшерной Стомоняков особо отметил, что плохая организованность шведских лесоэкспортеров (в отличие от финских) не может служить гарантией выполнения возможного соглашения[702].
На Варшавской конференции по лесу, созванной польско-балтийско-скандинавской торговой палатой 25–27 июня 1931 г., советская сторона была представлена участником берлинских переговоров заместителем председателя правления «Экспортлеса» Э. Пором[703]. Однако, судя по всему, проблемы взаимодействия «Экспортлеса» с финскими и шведскими экспортерами в Варшаве не обсуждались. Трехсторонние переговоры были продолжены 28–29 июня в Копенгагене. Противоречия выявились в объемах квот («Экспортлес» требовал 40 % общего сбыта), в вопросах финансирования и длительности соглашения (советская сторона предлагала соглашение только на 1932 г., финны и шведы – на три года). Единственным достижением явилась договоренность о созыве очередной конференции в 1932 г. в Лондоне. Среди финских деловых кругов не было единства по вопросу о необходимости заключения соглашения с «Экспортлесом», однако, большинство высказывалось за достижение договоренности. Правительство Финляндии сформировало делегацию для трехсторонних переговоров во главе с Гуннаром Яатиненом. В нее также вошли горный советник Якоб фон Юлин, доктор Вильгельм Розенлев, консул Аугуст Снелльман, генеральный консул Аксель Солитандер и исполнительный директор Э.Ф. Вреде. Согласно инструкциям, делегация, в крайнем случае, могла согласиться на 35 % долю для «Экспортлеса», однако, такой подход не встретил отклика шведской стороны[704].
Экономический кризис вынуждал Москву искать любых, даже самых незначительных источников поступления валюты. По словам Б.С. Стомонякова, понятие «второстепенного экспорта» (ягоды, грибы, раки, муравьиные яйца, обрезки кожи и т. д. и т. п. утратило смысл, все стало «первостепенным». Сторонникам сближения СССР со Швецией и Финляндией оставалось сетовать на то, что в Москве к лесной проблеме подходят только с точки зрения выгод нашего экспорта, забывая, что хорошие отношения с финскими и шведскими лесоэкспортерами – база для советской политики на Севере Европы[705]. Осенью 1931 г. при обсуждении (по инициативе А.П. Розенгольца и Данишевского) вопроса о переговорах со шведскими лесоэкспортерами[706] на Политбюро было решено требовать предоставления кредита на шесть лет в размере 15 млн. долларов, если советская квота составит 48 %, или 20 млн., если квота будет не ниже 40 % (без учета продаж леса на Дальнем Востоке). Новая переговорная позиция также не привела к соглашению с финскими и шведскими экспортерами. Желание заставить конкурентов быть более покладистыми, побудило А.П. Розенгольца предложить в декабре 1932 г. Политбюро следующую тактику: затягивать переговоры, не идя на их срыв, при этом одновременно форсировать продажу советского леса на европейском рынке, не останавливаясь перед некоторым снижением цен. Политбюро согласилось с предложением А.П. Розенгольца[707].
Отзвуком безрезультатных переговоров о временном соглашении по лесному экспорту явилось заявление эстонского правительства, в мае 1931 г. вспомнившего том, что Тартуским мирным договором за Эстонией было признано право получения в России лесной концессии в размере 1 млн. десятин. Посланник Ю. Сельямаа вручил Б.С. Стомонякову 18 мая меморандум о предоставлении Эстонии лесной концессии в Восточной Карелии (200–300 тыс. десятин)[708]. Практических последствий демарш Таллина не возымел.
11 марта 1931 г.
Опросом членов Политбюро
60/38. – О Румынии.
Принять предложение НКИД.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 29 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.3.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 166.
В середине февраля 1931 г. советник румынской миссии в Лондоне и участник переговоров с СССР в 1920–1924 гг. Чиотори возобновил усилия по установлению контакта с советским полпредством. Используя посредничество известного журналиста и специалиста по Восточной Европе У. Стида, Чиотори сообщил советнику полпредства, что «имеет полномочия отправиться в Москву для переговоров об урегулировании советско-румынских отношений». В случае если советское руководство не пожелает ограничиться зондажными беседами на этот счет, Чиотори обещал «получить необходимые полномочия для того, чтобы сделать в Москве совершенно определенные предложения»[709].
В соответствии с предложением НКИД и решением Политбюро, 20 марта 1931 г. советник полпредства в Великобритании Д.В. Богомолов сообщил румынскому коллеге о том, что, согласно полученным из Москвы директивам, он «не уполномочен вести никаких переговоров с Чиотори, но что если у него, Чиотори, имеются предложения румынского правительства Союзному правительству, я могу передать их в Москву». Румынский советник заявил о предпочтительности его поездки в Москву в качестве «делегата румынского правительства по какому-либо второстепенному вопросу, например, об архивах бывшего румынского посольства в Петербурге»; в этом случае он мог бы располагать полномочиями на ведение переговоров «по всем вопросам»[710]. Реагируя на это полуофициальное предложение М.М. Литвинов рекомендовал Д.В. Богомолову не отклоняться от директивы и «разрешить Чиотори поездку лишь в том случае, если он заявит, что едет совершенно официально, по поручению своего правительства, с официальным предложением»[711].
20 марта 1931 г.
Решение Политбюро
46/59. – О договоре с Эстонией.
Снять вопрос.
Протокол № 30 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.3.1931 – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 817. Л. 1.
О каком договоре идет речь, почему этот вопрос был внесен в Политбюро, а затем «снят», установить не удалось. Вероятнее всего, предполагалось обсуждение в Политбюро хозяйственного соглашения с Эстонией, развитие отношений с которой было призвано воспрепятствовать усилившейся активности польской дипломатии по созданию Прибалтийского блока. Избрание в середине февраля 1931 г. главой государства К. Пятса позволяло рассчитывать, что новое правительство Эстонии «во всяком случае: выправит нарушенное О. Штрандманом равновесие». В НКИД и Таллинском полпредстве полагали, что активизация советской политики в отношении Эстонии «возможна, прежде всего, путем усиления наших экономических связей»[712]. В начале весны 1931 г. под этим понимались ввоз эстонских молочных продуктов в Ленинград в обмен на увеличение советского хлебного экспорта, размещение в Эстонии заказов на поставки свиней и строительство судов. Возможно, проект одного из соглашений по «основным экономическим вопросам, которые сейчас являются наиболее болезненными» и которые в те дни были темой бесед с Пятсом полпреда Раскольникова, экс-торгпреда А.А. Деди и торгпреда Г.К. Клингера, и был обозначен в протоколе Политбюро как «договор с Эстонией»[713].
Начало новой фазы польско-советского соперничества в Прибалтике обострило интерес Варшавы к намерениям СССР. В конце марта 1931 г. польский военный атташе в Эстонии и Латвии подполковник Ст. Кара докладывал, что ему удалось уточнить существо «направленной против нас российской акции», о начале которой он сообщал в январе. Действия советской дипломатии, по сведениям Кары, состояли в тайной инспирации «возможности заключения договоров о нейтралитете», которые предоставили бы балтийским государствам гарантии их независимого существования и таким образом «исключили бы влияния Польши». «Балтийские государства после гарантирования их неприкосновенности со стороны России и Германии решительно выступят за разоружение, тогда как Польша не будет иметь основания выступать как гарант независимости и защитница [государств Балтии. – Авт.]»[714]. Советских документов, которые бы подтверждали наличие у Москвы весной 1931 г. планов заключения с балтийскими странами договоров о нейтралитете, не обнаружено. По крайней мере, до апреля 1931 г. полпред в беседах с Пятсом не затрагивал «основных политических вопросов»[715].
20 марта 1931 г.
Решение Политбюро
7/18. – О договоре с Литвой (т.т. Стомоняков, Литвинов).
Принять предложения НКИД:
а) о переговорах с литовцами о продлении срока договора 1926-го года на пять лет;
б) о подписании специального протокола о ненападении и нейтралитете;
в) о приглашении в Москву литовского министра иностранных дел.
Выписки посланы: т. Литвинову.
Протокол № 30 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.3.1931 – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 172.
Вопрос был внесен в повестку дня Политбюро по инициативе Коллегии НКИД, которая, рассмотрев предложение президента Литвы А. Сметоны о продлении договора 1926 г., сделанное 13 февраля в разговоре с полпредом М.А. Карским, сочла «возможной и политически желательной такую форму продления», которая «ни к чему новому не обязывала бы». В записке Б.С. Стомонякова от имени НКИД запрашивалась санкция Политбюро на вступление в переговоры по этому вопросу, подписание специального протокола и приглашение в Москву министра иностранных дел Литвы[716].
Вопрос о возобновлении джентльменского соглашения 1926 г. в записке НКИД не затрагивался. Вопрос о пролонгации заключенного между СССР и Литвой в 1926 г. договора о ненападении неоднократно поднимался литовским правительством и до обращения Сметоны к Карскому. Стремление доказать, что Литва не находится в состоянии международной изоляции, несмотря на напряженность в отношениях с Германией, и желание усилить свои позиции в конфликте с Польшей, побуждали Каунас время от времени возобновлять свое предложение. В 1931 г. истекал пятилетний срок, предусмотренный договором, после чего он мог быть автоматически продлен на год. Подготовка к обсуждению на ПБ была начата руководством НКИД в конце февраля 1931 г., когда Коллегия НКИД приняла решение о целесообразности пролонгации на 5 лет «путем подписания особого договора». Вместе с тем, и это видно из вышеупомянутого письма Стомонякова, Коллегия не сочла желательным визит М.М. Литвинова в Каунас и предложила «высшей инстанции» пригласить в Москву для подписания протокола литовского министра иностранных дел Д. Зауниуса[717]. Политбюро с предложениями НКИД согласилось[718]. Стомоняков придерживался по этому вопросу иной точки зрения. В конце февраля, сообщая Карскому о подготовке заседания Коллегии по вопросу о пролонгации договора, он особо подчеркивал желательность «особой торжественности», которая была бы достигнута, если М.М. Литвинов, при проезде через Ковно, подписал подобный акт[719]. Однако уже 1 марта, сразу после заседания Коллегии, Стомоняков извещал поверенного в делах Фехнера (Карский находился в Москве) о решении Коллегии пригласить в Москву Зауниуса ради того, чтобы избежать приезда Литвинова в литовскую столицу[720].
Получив предложение советской стороны, литовское правительство не торопилось с окончательным ответом и в очередной раз выдвинуло предложение об углублении отношений. Д. Зауниус в беседе с Фехнером в начале марта особо подчеркнул, что «автоматическое молчаливое продление договора еще на один год не достигнет цели»[721]. Правительство Тубялиса, как прежде Вольдемарас, исходило в своих отношениях с Москвой из особой заинтересованности СССР в Литве. Отказ от подписания протокола в Каунасе и в визите М.М. Литвинова были расценены как некорректный жест, который может иметь для Литвы далеко идущие последствия (поскольку тем самым подчеркивалось ее незавидное внешнеполитическое положение), наносящий удар по престижу правительства как в самой Литве, так и в Европе. А.В. Фехнер уже через три дня после решения Политбюро писал, что Д. Зауниус не приедет именно по внутриполитическим причинам.
Отказ Зауниуса приехать в Москву был обусловлен, пожалуй, и более серьезной причиной. Неизменное подчеркивание им желательности «углубления» характера договора подразумевало фиксацию военно-политических обязательств СССР в случае вооруженного литовско-польского конфликта. Нежелание Москвы пойти на это вызывало у него нескрываемое раздражение. 11 марта, встретившись с Фехнером, министр заявил, что получил от литовского посланника в Москве Ю. Балтрушайтиса телеграмму, сообщавшую о намеченном на 13 марта заседании коллегии НКИД по вопросу о пролонгации, добавив, что никаких предложений через посланника не делал, и если речь идет о пролонгации договора 1926 г., то необходимо достичь «соответствующей трактовки проблемы безопасности в отношении Германии, Польши, Латвии, трех стран, которые в первую очередь обоюдно интересуют и Литву и СССР. Далее речь могла бы идти и о джентльменском соглашении»[722]. Помимо этого, литовский министр настойчиво повторял, что 1) обмен мнениями между руководителями внешнеполитических ведомств необходим для выяснения основных политических установок по вопросам, взаимно интересующим оба государства; 2) к протоколу о пролонгации договора должны быть приложены те же ноты, что и к договору 1926 г.[723] (эти ноты литовская сторона рассматривала как признание СССР прав Литвы на Виленщину). Из встреч с литовским руководством советский поверенный в делах вынес впечатление, что помимо прочего оно желает получить от СССР гарантию того, что «германские ревизионистские стремления не затронут Литвы»[724].
Женевский обмен мнениями Литвинова и Зауниуса не встретил возражений в Москве. Этого, однако, нельзя сказать о других предложениях Зауниуса: трактовке безопасности в отношении Германии, Польши и Латвии (Фехнеру было приказано вообще не касаться этой темы впредь[725]) и о приложении текста нот 1926 г. к протоколу о пролонгации договора[726]. Советское руководство предпочитало сохранять дистанцию в отношениях с Каунасом. Как позднее разъяснял Стомоняков полпреду Карскому, «мы должны подчинять интересы этих [советско-литовских – Авт.] отношений интересам нашего общего международного положения… мы, безусловно, не должны даже вызывать у литовцев убеждения в том, что мы окажем им вооруженную поддержку на случай нападения на них Польши»[727].
Отклонение Д. Зауниусом приглашения приехать в Москву не повлекло за собой вторичного рассмотрения вопроса на Политбюро. Препятствием на пути выполнения НКИД решения Политбюро оказалось достижение компромисса по вопросу о возобновлении т. н. джентльменского соглашения, заключенного в устной форме между Москвой и Каунасом в 1926 г., которое предусматривало взаимоинформирование по интересующим обе стороны вопросам внешней политики. Фактически с конца 1927 г. эта договоренность не соблюдалась. Литовская сторона желала не только продлить джентльменское соглашение, но в силу изменившейся внешнеполитической ситуации, «наполнить новым содержанием». 21 апреля 1931 г. посланник Ю.К. Балтрушайтис передал текст проекта нового варианта джентльменского соглашения, включавший три пункта: 1) оказание Москвой влияния в пользу Литвы на Германию, Италию, Персию и другие дружественные СССР государства; 2) минимум – поддержка Литвы в решении мемельских проблем при конфликтах с Германией; максимум – «последовательное, в пределах политических возможностей, воздействие на Германию в смысле отвлечения Германии от предполагаемых и возможных агрессивных тенденций как в настоящем, так. в особенности, и в будущем»; 3) периодическая всесторонняя информация[728]. Через несколько дней Коллегия НКИД рассмотрела этот проект и высказалась против упоминания в нем отдельных стран, «в отношении которых стороны принимают на себя обязательства оказания дипломатического воздействия». Пункт о «взаимоинформировании» на уровне руководителей внешнеполитических ведомств был одобрен. Компромисс, в целом, был достигнут: 6 мая в Москве Литвинов и Балтрушайтис подписали протокол о пролонгации договора 1926 г., после чего нарком обменялся телеграммами с Д. Зауниусом. Джентльменское соглашение было решено заключить во время встречи М.М. Литвинова с Д. Зауниусом в Женеве[729], что и произошло 18 мая. Руководитель МИД Литвы считал его главным результатом бесед с Литвиновым[730].
До конца 1933 г. литовская сторона не поднимала вопроса об изменении джентльменского соглашения. Одновременно с передачей предложений Коллегии в Политбюро в очередной раз были даны указания полпредам в Берлине и Ковно предпринять демарши перед руководителями МИД Германии и Литвы. Эта акция и содержание заявления Л.М. Хинчука статс-секретарю Б. Бюлову позволяют уточнить мотивы предложений об укреплении политических связей СССР с Литвой. В связи с предстоящим заседанием Совета Лиги Наций Москва просила немцев воздержаться от обсуждения на нем мемельской проблемы, поскольку «это будет полезно только Польше и оппозиционным литовским партиям и усилит их агитацию за сближение с Польшей». «Я обращаю Ваше внимание, сказал я [Хинчук – Авт.] Бюлову, на то, что теперешнее правительство Литвы имеет значительно меньшую силу сопротивления по сравнению с правительством Вольдемараса. Поэтому мы опасаемся, что под влиянием тех трудностей, которые оно имеет с Германией, оно может сделать серьезные шаги в направлении сближения с Польшей»[731].
20 апреля 1931 г.
Решение Политбюро
7/12. – О переговорах с финнами.
Отложить.
Протокол № 35 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.4.1931. —РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 822. Л. 8.
Обнаружить документы, раскрывающие существо поставленного в Политбюро вопроса, не удалось. Предположительно, рассматривалась возможность заключения двустороннего соглашения с Финляндией о лесном экспорте на европейские рынки (в отличие от принятого ранее варианта трехстороннего соглашения советских, финских и шведских экспортеров)[732]. В начале апреля финские экспортные фирмы были встревожены слухами о договоренности «Экспортлеса» со шведскими лесоэкспортерами.
Переговоры М.Л. Стаковского и И.М. Майского с представителем финских лесоэкспортеров совпали с обострением советско-финских отношений, спровоцированным коллективизацией в населенных ингерманландцами районах Ленинградской области[733]. Накануне рассматриваемого решения Политбюро М.М. Литвинов направил на утверждение Сталина проект официозного комментария к телеграмме ТАСС об антисоветской кампании в Финляндии[734]. Поскольку финские фирмы-«лесники» неизменно оказывали поддержку антикоммунистическому движению, активизация переговоров с ними на время потеряла актуальность. Возможно именно по этой причине, вопрос был «отложен». В начале двадцатых чисел апреля кампания в финской печати по поводу положения в Ингерманландии на несколько дней стихла, но затем вновь разгорелась с новой силой. «Переговоры с финнами» вторично оказались на повестке дня Политбюро, но 30 апреля его «решением» рассмотрение этого вопроса было отложено[735].
Окончательное решение по этому поводу – «Снять вопрос» – Политбюро вынесло 10 мая 1931 г.[736], когда стало очевидным, что правительство Финляндии намерено предпринять официальные дипломатические шаги в защиту притесняемого национального меньшинства, включая обращение в органы Лиги Наций.
20 апреля 1931 г.
Решение Политбюро
16/21. – О Чехо-Словакии.
Отложить до 30 апреля.
Протокол № 35 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.4.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 822. Л. 9.
8 апреля Литвинов внес в Политбюро предложение рассмотреть «на ближайшем заседании» вопрос «о пересмотре взаимоотношений» между СССР и Чехословакией. Причины, по которым решение по записке Литвинова было отсрочено до 20 апреля, а затем отложено еще на десять дней, выяснить не удалось. Вероятно, это было вызвано трудностями в оценке перспектив переговоров, начавшихся между полпредом В.С. Довгалевским и генеральным секретарем МИД Франции Ф. Бертело о пакте ненападения и нормализации торговых взаимоотношений (20 апреля Бертело посетил больного полпреда и передал ему новые предложения о возможном содержании и порядке ведения переговоров)[737] и необходимостью осмыслить последствия начавшегося поворота в советско-французских отношениях для политики СССР в Центральной Европе.
30 апреля «решением Политбюро» вопрос о Чехословакии было постановлено «отложить до 10 мая»[738], когда и было принято окончательное решение[739].
20 апреля 1931 г.
Решение Политбюро
19/24. – О Польше (т. Литвинов).
Передать проект ответа на ноту Польши от 30 марта в комиссию т. Ворошилова на предварительное рассмотрение.
Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Молотову, Калинину, Литвинову.
Протокол № 35 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.5.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 14.
С начала 1931 г. польская дипломатия с обеспокоенностью отмечала усиление советской пропагандистской кампании, эксплуатировавшей факты жестокого подавления («пацификации») антиправительственных выступлений в Малопольше летом-осенью 1930 г., и включавшей в себя как неприкрытые антипольские акции в СССР, так и тайную инспирацию леводемократических кругов за рубежом[740]. В середине марта польский консул в Харькове А. Стебловский обращал внимание советских представителей на то, что в кулуарах Съезда Советов Украины была развернута выставка о «пацификации» в Малопольше, а заместитель председателя СНК УССР галичанин Порайко заявил с его трибуны: «К сожалению, здесь нет представителей от нашей сестры Западной Украины. Но мы надеемся, что недалек день, когда она соединится со своей родной матерью»[741].
30 марта миссия Польши в Москве вручила НКИД ноту протеста против антипольских выступлений на XII Всеукраинском съезде Советов и X Белорусском съезде Советов (открывшихся соответственно 25 и 20 февраля 1931 г.) руководителей и членов СНК УССР и БССР Чубаря, Голодеда, Порайко, Скрыпника и Александровского, а также заявлений председателя правительства Белоруссии на VI Съезде Советов Союза ССР (февраль-март 1930 г.). «Рассмотрение на вышеупомянутых съездах вопросов, связанных с состоянием отношений, господствующих на территории Восточных Польских Воеводств и освещение их односторонним и не соответствующим образом, – говорилось в ней, – Польское Правительство должно рассматривать как проявление отсутствия доброй воли и относиться к этому как к недружественному акту». В ноте подчеркивалась неприемлемость употребления в официальных речах выражений «Западная Украина» и «Западная Белоруссия»; в список претензий было внесено и сравнение поляков с гуннами, сделанное в публичном выступлении секретаря ЦК КП(б)У и бывшего члена правительства УССР Любченко. Правительство Польши выражало сожаление, что существующие в Советском Союзе условия не позволяют ему каким-либо образом разъяснить свою позицию общественному мнению СССР, тем большая ответственность ложится на советских должностных лиц. Кульминацией документа был бесспорный вывод о заинтересованности Советского правительства «в поддержании недружелюбных по отношению к Польской Республике настроений»[742].
Таким образом, нота С. Патека затрагивала фундаментальные вопросы взаимоотношений СССР и Польши и отличалась необычной резкостью тона. В НКИД придали ей поэтому «серьезное значение». Цель польской акции усматривали «конечно, не в том, чтобы заявить протест по поводу тех или иных выступлений советских деятелей, а в том, чтобы создать документ, фиксирующий обвинение сов[етского] пра[вительства] в психологической подготовке войны против СССР», используя при этом «некоторые случайно совпавшие факты». Руководство НКИД решило без спешки подготовить продуманный ответ посланнику, в советской ноте предполагалось «доказать, на какой именно стороне лежит ответственность за неудовлетворительное состояние польско-советских отношений»[743].
Вероятно, эти обстоятельства привлекли повышенное внимание руководства Политбюро и обусловили его вовлеченность в подготовку текста ответной ноты. К тому же разногласия между Караханом и Литвиновым по проблемам взаимоотношений с Польшей[744] могли вновь выйти на поверхность в связи с рассмотрением в Коллегии трех проектов ответа на ноту Патека от 30 марта (один из них был подготовлен Н.Я. Райвидом, другой – его помощником И.М. Морштыном, автор третьего проекта неизвестен). Вечером 18 апреля Сталин принял Карахана и Молотова и беседовал с ними около часа, в середине встречи к ним присоединился (или был на нее вызван) Литвинов. После их ухода Сталин беседовал с Ворошиловым[745]. Вероятно, в ходе этих дискуссий была выработана позиция, зафиксированная «решением Политбюро» от 20 апреля (в день, отведенный для заседаний Оргбюро ЦК ВКП(б).
Состав, задачи и период существования комиссии Ворошилова установить не удалось. Судя по адресации выписок из протокола, в нее входили Ворошилов, Молотов (и, возможно, Калинин и Литвинов). 30 апреля 1931 г. Политбюро от имени Ворошилова, Молотова, Литвинова был представлен новый вариант ответной ноты. Политбюро постановило: «Поручить окончательную редакцию ответа Польше комиссии в составе т.т. Молотова, Сталина и Стомонякова. Созыв за т. Молотовым»[746]. Материалов о работе этой комиссии (либо о встречах входивших в нее лиц) также не обнаружено; возможно, она свелась представлению Стомоняковым новой редакции на утверждение Молотова и Сталина. В своем окончательном виде нота была датирована 10 мая 1931 г., это позволяет предположить, что она была утверждена на их встрече, состоявшейся в связи с заседанием Оргбюро.
В ответной ноте НКИД СССР польской миссии в Москве выражалось «изумление» по поводу обвинений в адрес СССР и предъявлялся встречный счет польской стороне[747]. Отрывочные сведения о поэтапной подготовке советской ноты и ее содержании позволяют предполагать, что первоначальный полемический запал был несколько ослаблен и тональность ноты смягчена. Вероятно также, что длительная редакционная работа НКИД и Политбюро была связана не только с определением тактической линии в отношении претензий Польши, но и с размышлениями о том, как советско-польские отношения отзовутся на процессе нормализации политических и торговых связей Москвы с Парижем[748].
30 апреля 1931 г.
Решение Политбюро
23/25. – О приезде делегаций промышленников из Австрии, Швеции. Чехословакии (т. Розенгольц).
Не возражать против приезда делегаций промышленников из Австрии, Швеции, Чехословакии.
Выписка послана: т. Розенгольцу
Протокол № 36 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.5.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 29.
Постановка вопроса о приезде делегации промышленников из Чехословакии была связана с ростом заинтересованности НКВТ в импорте чехословацкого оборудования и металлопродукции. В первой половине 1931 г. он превысил свыше 9 млн. рублей (экспорт из СССР в Чехословакию составил 1,5 млн. рублей)[749]. Весной – в начале лета 1931 г. чехословацкие промышленники и советские внешнеторговые органы ожидали улучшения условий экспорта в СССР в связи с подготовкой законопроекта о государственных гарантиях его кредитования. Согласно закону, одобренному Национальным собранием 16 июля 1931 г., государство принимало на себя гарантирование до 65 % торговых кредитов на ввоз промышленной продукции в СССР.
Важнейшими партнерами хозяйственных советских организаций в ЧСР являлись возглавляемые О. Федерером «Витковицкие металлургические и горнодобывающие предприятия» и заводы «Шкода». В ноябре 1931 г. директора Витковицких заводов совершили поездку в Москву для ведения переговоров о новых советских заказах[750]. Иных сведений о посещении чехословацкими промышленниками СССР в 1931 г. не обнаружено.
10 мая 1931 г.
Решение Политбюро
2/15. – О морском празднестве в Латвии (т.т. Ворошилов, Литвинов).
а) по линии дипломатической – ограничиться принятыми НКИД мерами;
б) поручить т. Литвинову организовать выступление в нашей печати.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 37 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.5.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. On.162. Д. 10. Л. 33.
11-12 июня 1931 г. в порту Лиепаи должны были состояться торжества по случаю 10-летней годовщины создания военно-морского флота Латвии, на которые были приглашены представители военно-морских сил балтийских государств, Англии и Франции. Под влиянием позиции командующего латвийским флотом адмирала Арчибальда Кайзерлинга руководителям ВМС РККА такого приглашения направлено не было.
МИД Латвии попытался сгладить негативное впечатление от этой акции: полпред в Риге наравне со всеми представителями дипломатического корпуса получил приглашение принять участие в торжествах в Лиепае. Однако советский представитель, несомненно, по указанию НКИД, от участия отказался[751]. Сведений о каких-либо иных «принятых НКИД мерах» обнаружить не удалось.
Первая публикация в советской прессе с осуждением лиепайских празднеств как демонстрации антисоветских намерений Латвии появилась накануне обсуждения вопроса на Политбюро[752]. Вследствие решения Политбюро «Известия» 11 мая поместили пространную статью «Флотский праздник в Риге». В ней отмечалось, что политика правительства Латвии «выявила за последнее время со всей отчетливостью отсутствие у руководителей латвийского государства серьезных стремлений к поддержанию добрососедских отношений».
В целом советская реакция оказалась сравнительно сдержанной. Отчасти на это повлияло рассмотрение Сеймом проблемы гарантий на советские заказы в Латвии, в ходе которого бывший министр иностранных дел Целенс выступил с заявлением в пользу развития экономических отношений с СССР. (19 мая закон о государственной гарантии для кредитования экспорта в СССР был принят, и министерство финансов получило право выдавать фирмам гарантийные письма на общую сумму в 10 млн. лат)[753]. Однако «демонстрация латвийских адмиралов» в дальнейшем оставалась одним из аргументов советских обвинений по адресу латвийского правительства в том, что его политика направлена на ухудшение двусторонних отношений.
В конце мая 1931 г. в PBC СССР возник замысел организации дружественного визита в Мемель советских подводных лодок[754], что, возможно, было связано с недавним инцидентом в советско-латвийских отношениях.
10 мая 1931 г.
Решение Политбюро.
10/23. – О Чехо-Словакии (ПБ от 20.IV.-31 г., пр. № 35, п. 16/21) (т. Литвинов).
Вопрос снять.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 37 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.5.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 34.
8 апреля Сталину и другим членам Политбюро была направлена записка наркома М.М. Литвинова «О взаимоотношениях с Чехословакией». Она открывалась указанием на то, что «наш полпред в Праге т. Аросев уже почти в течение года настаивает перед НКИД на пересмотре наших взаимоотношений с Чехословакией».
Идея «активизация» советской политики в отношении ЧСР была выдвинута Литвиновым в октябре 1929 г., когда обозначились перспективы скорой нормализации отношений СССР с Англией, а в Чехословакии состоялись парламентские выборы, частично изменившие расстановку политических сил. Подхватив мысль Литвинова, новый полпред в Праге А.Я. Аросев придал ей форму «предъявления Чехословакии ультимативного предложения о полной нормализации ею отношений с СССР» (руководитель НКИД предпочитал говорить не об «ультиматуме», а о возможности поставить чехословацкое правительство перед «альтернативой»). После взвешивания «шансов благоприятного для нас выбора Чехословакией той или иной части альтернативы» Литвинов пришел к выводу, что для этого «момент, по-видимому, еще не созрел»[755].
В начале 1930 г. этот вопрос был актуализирован Аросевым, тяжело переживавшим неполноценность своего положения в пражском дипломатическом корпусе. Однако весной 1930 г. Москва была слишком озабочена возможностью перерастания напряженности в отношениях с Германией, Францией и ее союзниками в прямое военно-политическое вмешательство в дела переживающего социальную ломку Советского Союза[756], чтобы воспринять аргументы полпреда в Праге вне широкого европейского контекста советской дипломатии.
Руководство НКИД не только не прислушалось к идее Аросева о предъявлении ультиматума правительству ЧСР, но и предложило полпреду «произвести зондаж о готовности чехословаков вступить с нами в переговоры о торговом договоре»[757]. В начале апреля 1930 г. нарком прекратил полемику с Аросевым заявлением, что «на вопросе об ультимативных требованиях чехословацкому правительству останавливаться больше не стоит хотя бы потому, что соответствующее предложение не имеет никаких шансов получить санкцию [Политбюро. – Авт.]»[758].
Спустя год руководство НКИД и полпред пришли к согласию относительно своевременности оказания нажима на правительство ЧСР для активизации советско-чехословацких отношений. В обращении к Политбюро Литвинов сочувственно суммировал аргументы в пользу преодоления существующего положения, при котором Чехословакия, «имея с нами фактические отношения, в течение 9 лет продолжает поддерживать фикцию ««непризнания» СССР», что предоставляет ей значительные преимущества. В то время как полпред СССР ставится в «неравноправное» («а иногда даже в унизительное») положение, чехословацкое представительство «имеет возможность: 1) вести в СССР разведывательную работу для всей Малой Антанты, 2) устанавливать и поддерживать связи между известными кругами белой эмиграции, пользующейся официальным покровительством чешского правительства, 3) заниматься при помощи дип[ломатических] вализ [багажа – Авт.] валютной и товарной спекуляцией и 4) защищать интересы чехословаков в СССР». В общеполитическом контексте, Бенеш использует существующее положение «в шантажистских целях: добиваясь уступок от Франции, Румынии, Югославии и Польши, Бенеш угрожает признанием СССР». Для Советского Союза польза от отношений с ЧСР в их нынешней форме, напротив, «ничтожна». Литвинов заявлял, что эти «исходные положения т. Аросева вполне правильны» и тот «даже преувеличивает значение нашего полпредства в Праге, если он полагает, что оно информирует нас о положении в Малой Антанте и контролирует польский тыл. На самом деле мы никакой полезной информации о балканских странах из Праги не получаем, а что касается «контролирования польского тыла», то это одна словесность, ибо никакого такого контроля у нас в Праге нет. Необходимо признать, что фактически мы никаких дипломатических сношений с Чехословакией не имеем». Редкие встречи чехословацкого представителя в Москве с руководителями НКИД неизменно ограничиваются ходатайствами «в пользу чешских граждан»; дипломатические беседы с полпредом в Праге ведутся министром Э. Бенешем «исключительно с целью дезинформации и дезориентации», в отношении советских представителей «его лживость достигает геркулесовых столбов».
Наряду с фактическим состоянием отношений между Москвой и Прагой на оценки Литвинова, несомненно, повлияла «холодная война» между руководством НКИД и Аросевым. На Кузнецком мосту считали Аросева недостаточно компетентным дипломатом и винили его в склоках внутри пражского полпредства; полпред упрекал Литвинова в политической «правизне», а Крестинского – в троцкистском прошлом и ставил под сомнение их право контролировать его работу[759]. Руководители НКИД вынуждены были считаться с прямыми контактами между Аросевым и его однокашником Молотовым и товарищем по ссылке Ворошиловым. Уже по этим причинам Литвинов и Крестинский вряд ли могли оставить без последствий настояния Аросева, возобновленные им в феврале 1931 г., ультимативно потребовать от чехословацкого правительства установления нормальных дипломатических отношений с СССР. К началу апреля в результате австро-германского таможенного соглашения внешнеполитические позиции Чехословакии ослабли, и Литвинов был склонен согласиться с полпредом, что «именно теперь момент был бы наиболее подходящий для активизации вопроса о наших отношениях с Чехословакией», которая может быть заинтересована «хотя бы демонстративно сделать жест в сторону СССР, чтобы наказать и Румынию и Польшу и выявить свое неудовольствие по адресу Франции»[760]. Публицистический темперамент Аросева требовал сыграть ва-банк. «Предъявление нами ультиматума ЧСР о пересмотре договора 1922 г. в сторону большей нормализации отношений имело бы большой политический эффект, но лишь в том случае, если бы мы могли поддержать свой ультиматум отозванием не только полпредства, но и консульства и торгпредства, перенеся заключенные договора, быть может, на берлинское Торгпредство, – писал Аросев в НКИД, прося довести это мнение до сведения «инстанции», – …даже в случае неуспеха полный и только полный разрыв отношений с ЧСР давал бы для нас полезный политический эффект в складывающейся теперь боевой международной обстановке»[761].
«НКИД не может согласиться с предложением т. Аросева о предъявлении ультиматума, – сообщал Литвинов членам Политбюро. – Нет никаких оснований думать, что Чехословакия испугается нашего ультиматума и удовлетворит наши требования. Если даже допустить, что она предпочтет установление нормальных отношений разрыву нынешних отношений, то она не сможет этого сделать под давлением ультиматума, хотя бы в силу престижных соображений». Разрыв отношений по инициативе Москвы поставил бы ее в крайне невыгодное положение и породил бы «ряд практических затруднений ввиду центрального положения Чехословакии». Нарком предлагал заявить правительству ЧСР о желании советского правительства «ликвидировать самостоятельное полпредство в Праге и назначить нашим представителем при чехословацком правительстве нашего полпреда в Вене – по совместительству», что повлекло бы за собой и ликвидацию чехословацкой миссии в Москве. В столицах обеих стран остались бы лишь консульские учреждения, не пользующиеся дипломатическим иммунитетом (вопрос о сохранении торгпредства Литвинов выражал готовность предоставить на усмотрение НКВТ).
В записке рассматривались три варианта возможной реакции чехословацкого руководства на такую акцию: а) Прага «принимает, наконец, определенное решение» и соглашается на установление полных дипломатических отношений; б) она отклоняет предложение СССР и, ссылаясь на договор 1922 г., настаивает на сохранении полпредства в Праге и миссии в Москве, что показало бы «всему миру» заинтересованность Чехословакии в отношениях с СССР; в) «Чехословакия принимает наше предложение и соглашается на ликвидацию в Праге и в Москве полномочных представительств. Даже при таком исходе мы ровно ничего не теряем в политическом отношении, сберегаем валюту, расходуемую ныне на полпредство, и избавляемся от явно зловредной чехословацкой миссии в Москве». Дополнительным мотивом в пользу такого демарша Литвинов называл возможность продемонстрировать «нашу готовность к объединению заграничных представительств», что облегчило бы установление дипломатических отношений с теми странами, которые, подобно Венгрии, воздерживаются от этого из опасений коммунистического проникновения и пропаганды.
Внесенный НКИД проект постановления предлагал «одобрить записку т. Литвинова от 8 апреля касательно взаимоотношений с Чехословакией и другими странами»[762]. По всей вероятности, причины отклонения Политбюро этой инициативы были связаны с его решением принять предложение Франции «о немедленном вступлении в переговоры о заключении пакта о ненападении… и временного торгового соглашения»[763]. Обострение отношений СССР с Чехословакией – самой близкой и лояльной союзницей Франции оказывалось в новых обстоятельствах неуместным, а предложение Литвинова месячной давности – утратившим актуальность.
17 мая 1931 г.
Опросом членов Политбюро
40/2. – О Финляндии.
Принять предложение НКИД.
а) о посылке финляндскому правительству ноты (см. приложение), содержащей категорический протест против действий финляндского правительства, не только не оказывающего сопротивления провокационным попыткам активистов, но и фактически оказывающего поддержку антисоветской кампании. Ноту опубликовать в печати.
б) Кроме того, послать финляндскому правительству отдельную краткую ноту с перечислением имеющихся у нас сведений о произведенных Финляндией вооружениях на прилегающих ей островах и побережье Финского залива, которые по мирному договору должны быть нейтрализованы, и с требованием дать разъяснения по поводу этих вооружений (см. приложение). В случае отказа финпра дать нам ответ или в случае простого отрицания им факта вооружений в нейтрализованных зонах, послать финпра ноту протеста с опубликованием в печати.
в) Предложение о закрытии нами Выборгского консульства и о закрытии финляндского консульства в Ленинграде отклонить.
Выписка послана: т. Стомонякову.
Протокол № 39 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.5.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 47.
Причиной обсуждения проблем отношений с Финляндией на заседаниях Политбюро 17 и 24 мая 1931 г. явилась развернутая в апреле 1931 г. кампания протеста против жестокостей коллективизации в Ингерманландии[764]. Протестов с финской стороны по поводу событий в Ингерманландии в Москве ждали. В течение зимы-весны 1931 г. временный поверенный в делах Вестерлунд неоднократно поднимал эту тему беседах с руководящими работниками НКИД (в одной из них он объяснял происходящее в Ингрии террором красных финских эмигрантов). 19 апреля 1931 г. нарком М.М. Литвинов обратился к И.В. Сталину со срочным запросом по поводу развернувшейся в Финляндии антисоветской кампании. Литвинов просил генерального секретаря ознакомиться с прилагаемым комментарием к телеграмме ТАСС об ингерманландской кампании в Финляндии, опубликованной накануне в некоторых советских газетах, внести, если потребуется, свои дополнения и передать окончательный вариант Поскребышеву для немедленной публикации в «Известиях»[765]. Судя по письму, в НКИД негативно отнеслись к публикации телеграммы ТАСС, что, пожалуй, было обусловлено нежеланием публичной дискуссии по данному вопросу. На следующий день в «Известиях» появилась публикация под названием «Новая антисоветская провокация в Финляндии. Успех коллективизации советской Ингерманландии не дает покоя финляндским фашистам». «Несколько десятков высланных кулаков превращены финской прессой, – писала газета, – в «десятки тыс.» ингерманландцев, которых, якобы, советское правительство выселяет в массовом порядке». Через несколько дней в «Известиях» появились другие публикации о состоянии советско-финляндских отношений.
В середине апреля комиссия по иностранным делам эдускунты заслушала специальный доклад министра иностранных дел Финляндии. Правительство к тому времени оказалось под сильнейшим давлением различных общественных организаций. В апреле в Турку, Тампере и Выборге прошли собрания, участники которых потребовали срочного вмешательства финского правительства в происходящие в Ингрии события, в том числе и через институты Лиги Наций[766]. Финское правительство 11 и 13 апреля обсуждало ингерманландский вопрос, тем не менее, до середины мая оно фактически не предпринимало шагов, способных обострить и без того сложные отношения с Советским Союзом. В Москве также стремились избежать такого обострения. Возможно, что полученные в конце месяца поверенным в делах Финляндии в Москве Э. Вестерлундом сведения о ходе коллективизации в Ингерманландии были переданы ему не без ведома советских инстанций. Информатор сообщил, что «досадное внимание» финской стороны к раскулачиванию в Ингрии стало для советских властей неожиданностью, поскольку они не могли представить себе, что у этого дела может быть какое-то другое значение, кроме аграрно-политического. В центральных инстанциях якобы просто «забыли» о наличии в Ленинградской области ингерманландцев, о которых в Москве не имелось никаких статистических данных[767].
В подобную забывчивость в Хельсинки верить отказывались, и имели на это серьезные основания. Исполком Ленинградской области уже в апреле 1930 г. сообщал во ВЦИК, что с декабря 1929 г. среди национальных меньшинств в области начали развиваться эмиграционные настроения, вызванные плановым выселением социально опасных элементов[768]. Возможно, в Хельсинки не знали о начавшейся с осени 1928 г. по инициативе Ленгорисполкома разработке мер по разрешению «затяжного кризиса», переживаемого сельским хозяйством в приграничных территориях, вызванного крайней измельченностью крестьянского землепользования (к данной работе в начале 1929 г. подключился наркомат земледелия РСФСР, уже в конце апреля 1929 г. направивший свои рекомендации в СНК РСФСР. Они были рассмотрены на заседании Малого СНК РСФСР в конце сентября того же года)[769]. Однако финские власти были хорошо осведомлены о практике выполнения решения советских органов власти о «разгрузке от социально опасного элемента» «особо нуждающихся» в этом Кингисеппском, Гдовском районах и районе г. Сестрорецка.
В Финляндии ухудшение отношений с СССР, в результате коллективизации на заселенных ингерманландцами территориях, было секретом полишинеля и вызвало распространение слухов о возможности вооруженного конфликта. Полпред И.М. Майский докладывал, что резкое усиление в середине апреля кампании в финской прессе против событий в Ингерманландии, являлось не «проявлением стихийного возмущения финского народа большевистскими зверствами, а представляло собой вполне организованное и из одного центра дирижируемое выступление», толчком к которому послужило, якобы, состоявшееся секретное совещание представителей генерального штаба, штаба шюцкора, МВД, МИД и соплеменных организаций 11 апреля (по сведениям Майского, на этом совещании начальник генерального штаба генерал К.Л. Эш сетовал на то, что в результате коллективизации в Ленинградской области сокращаются возможности для осуществления шпионской работы, а финская армия утрачивает необходимые в случае войны опорные пункты; но, вместе с тем, предостерег начальника штаба шюцкоров В. Палоярви от «бряцания оружием»)[770].
Сложившаяся ситуация побудила Стомонякова сделать вывод, что характерная для советско-финляндских отношений неустойчивость не позволяет возлагать какие-либо надежды на факт занятия А. Юрье-Коскиненом поста главы МИД Финляндии (при этом за ним был сохранен пост посланника в СССР). В Москве осознавали, что Коскинен должен считаться с почти полным единодушием политических кругов Финляндии в отношении событий в Ингерманландии, но понимали и то, что возможностей для компромисса нет. Едва ли сам Коскинен мог рассчитывать на серьезное рассмотрение таких своих предложений, как прием в колхозы всех ингерманландцев без учета их классовой принадлежности или обязательств советских властей ограничить высылки пределами Ингрии. Можно предположить, что в Москве было решено продемонстрировать финским властям всю тщету их усилий вмешаться в эти события. В конце апреля 1 Западный отдел НКИД предложил Коллегии не только направить правительству Финляндии соответствующую ноту, но и изучить вопрос об «эвентуальных репрессиях» (в отношении финского судоходства на Неве, закрытие консульств в Выборге и Ленинграде, установление более строгого пограничного режима)[771]. 13 мая Коллегия НКИД приняла решение обратиться в Политбюро для получения согласия на меры, «имеющие целью заставить финляндское правительство и руководящие круги Финляндии оказать сопротивление крайним элементам, толкающим Финляндию на путь авантюр».
16 мая Б.С. Стомоняков направил И.В. Сталину записку с приложением проекта ноты (14–15 мая в НКИД были подготовлены несколько вариантов, окончательный был выработан Стомоняковым вместе с Н.Я. Райвидом[772]). В записке обращалось особое внимание на то, что антисоветское движение в Финляндии получило мощные стимулы со стороны лесопромышленников, ведущих конкурентную борьбу с советским лесным экспортом. Вместе с тем, Стомоняков считал неправильным рассматривать антисоветские выходки последнего времени, «как изолированные временные явления, а лапуаское движение только как локальное движение финского активизма против СССР». Все происходившее в Финляндии он рассматривал как яркое проявление непрерывного процесса организации антисоветских сил для будущей войны с СССР. Из всех членов Коллегии НКИД Стомоняков занял самую жесткую позицию. Он поставил Генерального Секретаря в известность, что Коллегия не согласилась с его предложением о закрытии советского консульства в Выборге из боязни произвести впечатление агрессивности. Для НКИД было желательным полное устранение самой возможности возникновения «ингерманландской темы» в советско-финляндских отношениях. Такую возможность советской стороне предоставляла трудное экономическое положение Финляндии. Стомоняков считал, что публичной демонстрацией конфликтности отношений между СССР и Финляндией можно будет нанести удар по ее кредиту на международном финансовом рынке, что должно оказать воздействие и на правительство, и на финские буржуазные круги, расколоть единый антисоветский фронт в Финляндии, сложившийся «на почве ингерманландской кампании»[773].
Отклонение предложения Стомонякова о закрытии советского консульства в Выборге и финского консульства в Ленинграде (обсуждавшегося Политбюро еще в сентябре 1930 г.)[774], а также другой рекомендованной НКИД меры – демонстративной проверки советско-финской границы[775], свидетельствует, что Политбюро более скептически, нежели руководство НКИД, относилось к применению жестких конфронтационных методов воздействия на Хельсинки и предпочитало ограничить их пропагандистско-дипломатическими акциями. Неясно, было ли это сравнительное миролюбие продиктовано более глубоким пониманием внутреннего положения в Финляндии или нежеланием принять на себя инициативу враждебных акций в отношении соседнего государства в то время, как в Женеве и Париже советская дипломатия пыталась вывести СССР из состояния полуизоляции.
Принимая решение о направлении финляндскому правительству двух советских нот, советское руководство уже знало о предстоящем вручении ему ноты Финляндии по ингерманландскому вопросу (об этом Вестерлунд неожиданно для заведующего 1 Западным отделом НКИД Н.Я. Райвидом заявил в беседе с ним 16 мая)[776].
Согласно официальному советскому сообщению, Н.Н. Крестинский вручил одобренную Политбюро ноту финскому поверенному в делах уже 17 мая[777], в действительности это произошло на следующий день. Нота состояла из пяти пунктов, в ней (1) констатировалось усиление вражды и ненависти к Советскому Союзу в Финляндии; (2) в качестве примера антисоветской пропаганды указывалось на использование тезиса о преследовании в СССР «ингерманландского племени»; (3) заявлялось о недопустимости обвинений судебных органов Финляндии в том, что полпред СССР оказывал финансовую помощь одному из обвиняемых в коммунистической пропаганде; (4) финская сторона обвинялась в непринятии мер в отношении лиц, виновных в «перебросках»; (5) выражался протест против кампании бойкота советского экспорта в Финляндии.
Эти преданные огласке заявления были усилены вербальной нотой с обвинениями в осуществлении вооружений на островах и побережье Финского залива, нарушающими положения мирного договора:
«Вербальная нота Финляндскому правительству. 17.5.1931.
По имеющимся в распоряжении Правительства Союза Советских Социалистических Республик сведениям, Военным ведомством Финляндии
а) построены бетонные платформы для тяжелой артиллерии на северной части острова Гогланда;
б) сооружены на островах Сескар, Лавенсаари и Пениссари базы для военных гидросамолетов;
в) сооружены на островах Сескар и Лавенсаари военно-наблюдательные посты;
г) установлены в районе бывшего форта Ино батареи с сектором обстрела, простирающимся за пределы финляндских территориальных вод.
Поскольку наличие такого рода сооружений и вооружений представляет весьма серьезное нарушение ст. ст. 13, 14 и 15 Мирного договора между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Финляндией, заключенного 14 октября 1920 г., полномочное представительство Союза Советских Социалистических Республик просит дать разъяснения по поводу указанных мероприятий финляндского военного ведомства»[778].
После получения этих нот Вестерлунд отправился в миссию и через 40 минут, вернувшись в НКИД, вручил финскую ноту по «ингерманландскому вопросу», присланную из Хельсинки еще 14 мая[779]. Через несколько дней финское правительство дало официальный ответ на советскую вербальную ноту от 17 мая[780].
В ходе беседы, состоявшейся 19 мая в Женеве на фоне начатой «нотной войны», министр иностранных дел А. Юрье-Коскинен заверил М.М. Литвинова в мирных намерениях Финляндии и предложил заключить торговый договор и пакт о ненападении. Нарком заключил из этого, что финское правительство осознает слабость своих позиций[781].
24 мая 1931 г.
Опросом членов Политбюро
64/11. – О Финляндии.
а) утвердить проект ноты НКИД с поправками (см. приложение);
б) ноту опубликовать в печати.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 40 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.5.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 62.
Обсуждавшаяся Политбюро нота являлась ответом на демарш правительства Финляндии по поводу нарушения прав населения Ингерманландии[782]. Договоренности о защите прав ингерманландцев, достигнутые при заключении мирного договора 1920 г. давали правительству Финляндии некоторые основания для дипломатического вмешательства. В заявлении представителя правительства РСФСР П. М. Керженцева на 12-м пленарном заседании Мирной конференции в Юрьеве (Тарту) 14 октября 1920 г. утверждалось, что финское население Петроградской губернии «имеет право в пределах общих законов и постановлений государства свободно регулировать дело народного просвещения, общинное и междуобщинное управление, а равно местное судопроизводство, право принимать все необходимые общие меры для подъема своего хозяйственного положения, право осуществлять упомянутые выше цели через необходимые органы представительства и исполнительные органы, субсидируемые общими средствами, согласно с действующим законодательством, право в деле народного просвещения, а равно и в других внутренних делах свободно пользоваться языком местного населения»[783].
При подготовке финской ноты бывший министр иностранных дел Я. Прокопе рекомендовал своему преемнику А. Юрье-Коскинену учесть, что «имеющееся в протоколах переговоров о мире в Тарту одностороннее [советское. – Авт.] заявление не дает нам сколько-нибудь надежной основы», а попытка финского правительства «получить двустороннее определение в тексте мирного договора или хотя бы подобное обязательство со стороны России» не увенчались успехом. К тому же советское заявление 1920 г. было ограничено «ссылкой на верховенство норм общего законодательства Советского государства». Прокопе призывал не забывать об отсутствии у европейских правительств желания впутываться в ингерманландский вопрос, риск растратить «морально-политический капитал», приобретенный Хельсинки благодаря способности избегать кризисов в отношениях с Россией, что обеспечивало Финляндии гораздо более выгодные, чем другим странам-лимитрофам, условия внешних займов[784].
8 мая Государственный совет под председательством президента П. Э. Свинхувуда одобрил подготовленную Юрье-Коскиненом ноту финского правительства[785]. В ней подчеркивалось, что правительство Финляндии не желает вновь поднимать вопрос о юридической природе сделанного в 1920 г. советской делегацией заявления, как и касаться темы, в какой степени соответствует духу договора практическое осуществление экономических, образовательных и прочих прав финского населения Ингерманландии. Однако финское правительство рассматривало заверения советской стороны как признание за ингерманландским национальным меньшинством права и в дальнейшем проживать на своей территории. Если же значительная часть этого населения высылается и перевозится в далекие и чужие края, то это означает отказ от принципов заявления 1920 г. Финская нота от 16 мая, адресованная исполняющему обязанности наркома Н.Н. Крестинского, была вручена Вестерлундом 18-го; в тот же день перевод ноты был срочно передан Сталину.
Подготовленный НКИД проект ответной ноты был сообщен Генеральному секретарю 23 мая. Ее текст, приложенный к записке Стомонякова в Политбюро, незначительно отличался от опубликованной в «Известиях», внесенные Политбюро поправки носили исключительно редакционный характер[786]. В утвержденной Политбюро (и опубликованной в «Известиях» 26 мая) ноте утверждалось, что заявление представителя РСФСР от 14 октября 1920 г. имело «исключительно информационный характер в смысле освещения вопроса о пользовании финским населением бывшей Петроградской губернии правами, предоставляемыми законами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики проживающим на территории последней национальным меньшинствам». Советское правительство поэтому отклоняло содержащуюся в ноте Вестерлунда «попытку вывести из этого заявления какие бы то ни было права для Финляндского правительства и, в частности, право наблюдать за применением к финскому населению Ленинградской области советских законов о национальностях СССР или вести по этому вопросу переговоры с правительством Советского Союза». Финское обращение расценивалось как «вмешательство во внутренние дела СССР», которое, в силу этого, «не может подлежать рассмотрению по существу». Отповедь Москвы завершалась следующим заявлением: «Посылка Правительством Финляндии и опубликование им своей ноты от 16/18 мая сего года, является объективно политической поддержкой контрреволюционной борьбы ничтожной кучки кулаков Ленинградской области против перехода всего населения к новым, более передовым формам сельского хозяйства»[787].
Крайняя резкость советского ответа стимулировала появление в конце мая среди населения Финляндии новой волны слухов о близком военном конфликте с СССР. 28 мая, по возвращении из Женевы, Юрье-Коскинен поспешил дать интервью, выдержанное в примирительных тонах и содержащее упреки финской прессе за нагнетание напряженности в советско-финских отношениях. Одновременно, поверенный в делах Вестерлунд отмечал неудачу всего ингерманландского демарша, который следовало предпринимать только при «гарантированном получении плюсов» и при наличии надлежащих юридических оснований[788].
25 мая 1931 г.
45. – О ноте Финляндии (т.т. Крестинский, Стомоняков).
Поручить коллегой НКИД на основе обмена мнений внести проект постановления в Политбюро.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 40 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.5.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 60.
На Политбюро докладывался вопрос о подготовке ответа на ноту финского правительства от 21 мая 1931 г., опровергавшую все обвинения в вооружениях островов в Финском заливе и форта Ино (она была незамедлительно опубликована в финской прессе). В ноте выражались удивление и сожаление по поводу того, что правительство СССР «нашло возможным адресовать в своей вербальной ноте Правительству Финляндии обвинения, лишенные оснований, и ставить под подозрение, без оснований, перед общественным мнением наций добрую волю Финляндии соблюдать договора, заключенные ею».
Этот ответ (и факт его публикации) вызвали в Москве сильное недовольство, однако по поводу реагирования на него мнения в руководстве НКИД разделились. Как следует из записки Б.С. Стомонякова Генеральному секретарю ЦК ВКП(б), при обсуждении этого вопроса на Коллегии НКИД исполняющий обязанности наркома Н.Н. Крестинский выступил против направления ответной ноты, предлагая тем самым считать эту тему исчерпанной. На состоявшемся по поручению Политбюро заседании Коллегии (вероятно, 26 или 27 мая) большинством голосов было решено дать Хельсинки ответ, выдержанный в обтекаемых выражениях. При этом, вероятно, учитывалось, что сведения о нарушении Финляндией военных статей мирного договора, предоставленные IV Управлением Штаба РККА в НКИД, могут являться недостоверными. Особую позицию вновь занял Б.С. Стомоняков. Представляя Сталину выработанный Коллегией проект ноты, он предлагал дополнить его указанием на то, что обвинения советской стороны «находили и находят подкрепление в известной правительству Финляндии агрессивной в отношении СССР деятельности не только влиятельных общественных кругов, но даже и бывших выдающихся представителей финляндской армии, относительно доброй воли которых соблюдать договорные обязательства в отношении СССР не могли не существовать достаточные законные сомнения»[789]. Стомоняков упускал из виду то, что подобная аргументация заставляла усомниться в наличии у советской стороны каких-либо иных данных, кроме знаний о внешнеполитических симпатиях и антипатиях высшего армейского командования Финляндии.
В конечном итоге Сталин и его коллеги Политбюро решили вообще не реагировать на полученный от правительства Финляндии ответ, согласившись, таким образом, с позицией Н.Н.Крестинского[790].
5 июня 1931 г.
Опросом членов Политбюро
68/68. – О ноте Финляндии.
Финскую ноту по вопросу вооружения Финляндией форта Ино и некоторых островов в Финском заливе оставить без ответа.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 41 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.6.1931.—РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 69.
Это постановление завершало рассмотрение в Политбюро и НКИД способов реагирования на предполагаемое военное строительство в приграничных районах Финляндии[791]. Основой для этого решения явилось обращение исполняющего обязанности наркома Н.Н. Крестинского к И.В. Сталину 31 мая. Крестинский отмечал, что с момента предоставления проекта ответной ноты (27 мая) ситуация в Финляндии значительно изменилась: советские ноты от 18 и 24 мая оказали свое действие на правительство Финляндии и на общественно-политические круги; и глава МИД Юрье-Коскинен выступил с осуждением антисоветских акций[792]. Поэтому Крестинский считал по существу нежелательным направление Хельсинки какой-либо новой ноты. Вопрос об ответе на финскую ноту предлагал рассматривать под совершенно иным углом зрения – удобно ли оставить ноту Финляндии без ответа, предоставляя ей преимущество последнего слова. Крестинский не видел большой беды в том, что оно – «по маленькому несущественному вопросу» – осталось бы за финнами. «Ведь все равно наша ответная нота, – писал он, – не будет звучать победоносно, будет содержать элементы оправдания нашей первой ноты и может только ослабить впечатление от наших основных политических нот». Перед отправкой письма И.В. Сталину Крестинский склонил на свою сторону ранее придерживавшихся иной точки зрения членов Коллегии НКИД и полпреда Майского[793].
16 июня 1931 г.
15. О телеграмме Варшавского корреспондента ТАСС (т.т. Крестинский, Долецкий).
а) Признать, что ошибка, допущенная варшавским корреспондентом ТАСС’а и в самом ТАСС’е при редактировании его телеграммы имеет политический характер.
б) Предложить ТАСС’у принять меры к тому, чтобы подобные ошибки впредь не допускались.
в) Варшавского корреспондента ТАСС снять с работы.
Протокол № 43 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.6.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 830. Л. 4.
Вопрос «о недопустимых ошибках» Н.А. Вальдена, незадолго до того назначенного корреспондентом ТАСС в Варшаве, был поставлен в письме Н.Н. Крестинского ответственному руководителю ТАСС Долецкому (с направлением копии в адрес Генерального секретаря ЦК ВКП(б). Крестинский отмечал искажения, допущенные Вальденом при передаче материалов польской прессы в Москву. Особенное возмущение в НКИД вызвало сообщение корреспондента от 20 мая 1931 г., будто в первой же статье Станислава Мацкевича (Цата) в издаваемом им консервативном виленском «Слове», опубликованном по возвращении из СССР, признавалось, что он совершил эту поездку по указанию Второго отдела Главного Штаба и в его интересах. На деле, указывал Крестинский, Мацкевич в своей статье подтверждал, что посетил СССР в качестве независимого журналиста, стремящегося объективно разобраться в происходящих процессах[794]. Резкая реакция руководителя НКИД на ложное сообщение Вальдена отчасти объяснялась тем, что дипломатическое ведомство ранее убедило ОГПУ и другие органы политического контроля в целесообразности удовлетворить обращение Мацкевича о въезде в СССР, несмотря на его репутацию реакционера и антисоветчика[795].
В своем письме заместитель наркома высказал также общие соображения об обеспечении точности передачи по каналам ТАСС информации, предназначенной для партийных и государственных органов, недопущении в ней пристрастных комментариев, которые, по мысли Крестинского, могут быть составлены и в Москве, в случае, если переданное сообщение найдет отражение на страницах советской печати. Эти соображения не получили прямого отражения в постановлении Политбюро. Вероятно, в этом и других эпизодах[796] сказалось настороженное отношение руководства ЦК к обращениям НКИД, которые, в случае их принятия, фактически равнялись установлению контроля этого ведомства над публикацией материалов на международные темы[797].
Н.А. Вальден был немедленно отозван из Варшавы, невзирая на попытки коллектива полпредства защитить своего молодого товарища, пристрастность которого[798] оказалась чрезмерной даже для московских инстанций.
20 июня 1931 г.
Решение Политбюро
12/21. – О Финляндии (т.т. Крестинский, Стомоняков).
Послать финляндскому правительству краткую ноту, в которой:
а) констатировать, что финляндское правительство, несмотря на протесты СССР, остается при своих взглядах и что оно, следовательно, будет и впредь попустительствовать творящимся безобразиям, на которые мы указывали в таких-то (перечислить) нотах;
б) указать, что советское правительство считает, ввиду сказанного, что ответственность за вытекающие из этого последствия целиком ложится на финляндское правительство.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 44 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.6.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 91.
Получение 4 июня 1931 г. ответа финского правительства на советскую ноту от 18 мая поставило руководство НКИД перед необходимостью выработки дальнейшей линии поведения. Новая нота была достаточно сдержанной. Кроме того, финская сторона за истекший период времени неоднократно предпринимала шаги для снятия напряженности в отношениях с СССР. В Коллегии НКИД ноту Финляндии расценили как переход на оборонительные позиции. Стомоняков считал, что цели, указанные в его письме Сталину от 16 мая, были достигнуты и этим объяснял вывод Коллегии о необходимости закончить переписку с Финляндией короткой спокойной нотой, проект текста которой и предлагалось обсудить на заседании Политбюро. Проект включал три пункта, в отличие от констатирующей части данного решения Политбюро, но смысловых различий между ними не было[799]. В отличие от предшествующих случаев обращения по проблемам отношений с Финляндией, руководство НКИД не просило срочного рассмотрения этого дела на Политбюро.
Финская миссия в Москве полагала, что нотой от 4 июня конфликт можно было считать разряженным и что ответной ноты ожидать не следует; полной неожиданностью для нее стало получение ответной ноты в 6 часов вечера 22 июня. Вестерлунд выдвинул несколько объяснений этому шагу советских властей. Их главным мотивом он считал соображения престижа («амбиции последнего слова»), к которым прибавлялось влияние других факторов – улучшение отношений СССР с Западом и политические процессы в Финляндии (недавние слухи о возможности войны с Россией, вызванные появлением у финских берегов советских военных кораблей; празднование «Дня лотты» и проведение финно-угорского культурного съезда, способствовавшие оживлению лапуаских настроений). Вестерлунд отмечал, что в Москве надеются: пораженные экономическим кризисом «карликовые империалисты» скоро встанут на колени перед нею[800].
21 июня 1931 г.
Опросом членов Политбюро
12/3. – О Варшавской конференции по лесу.
Командировать на конференцию т. Пора.
Протокол № 45 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.6.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 832. Л. 2.
Свое согласие принять участие в конференции выразили все крупнейшие европейские страны-лесоэкспортеры, общий экспорт которых составлял 84 % всего лесоэкспорта. Если в начале 1931 г. шведские и финские экспортеры пытались придерживаться более высоких цен на свою продукцию, чем те, которые предлагались советским «Экспортлесом», то затем им пришлось пойти на снижение цен из-за выброса на рынок крупных партий польского и американского леса и резко ухудшившейся экономической ситуации в Германии. В результате «разразилась вакханалия цен» (по выражению «Бюллетеня Экспортлеса»). Единственный вопрос, по которому удалось достичь участникам согласия, – принципиальное одобрение введения контингентирования лесного экспорта[801].
8 июля 1931 г.
Опросом членов Политбюро
26/8. – О конвенции по экспорту ржи.
Принять с поправкой следующие предложения Наркомвнешторга:
а) Разрешить тов. Киссину приступить к переговорам с представителями польского и германского правительства о заключении со всеми основными экспортерами конвенции по экспорту ржи.
б) В ходе переговоров подчеркивать, что целью конвенции является нормирование рынков, а не повышение цены.
в) Соглашение должно быть заключено не более, как на один год, и построено на следующих условиях:
1) квота СССР – не менее 50 % мирового экспорта.
2) В случае неиспользования квоты отдельными странами – пропорциональное увеличение нашей квоты.
3) Отказ от фиксации цен.
4) В пределах квоты – сохранение за нами наших естественных рынков.
5) Сохранение самостоятельных организаций по ведению продаж.
6) Организация экспортерами банковского финансирования запасов нашей ржи в СССР.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Крестинскому, Микояну, Рудзутаку.
Протокол № 48 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.7.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 111.
Начало обсуждения возможного соглашения с Польшей о координации поставок ржи на мировой рынок относится к 1930 г. и связано с заключением польско-немецкой ржаной конвенцией (17 февраля 1930 г.). К концу 1930 г. ведшиеся в Берлине советско-польские переговоры о ржаном экспорте были прерваны (по утверждению директора департамента внешней торговли министерства торговли и промышленности Польши Соколовского, из-за «полной неуступчивости» советской стороны)[802]. Дискуссии по этому поводу в Москве (с участием НКИД и НКВТ) в первой половине 1931 г. не привели к определенному решению, несмотря на «чрезвычайный интерес поляков», которые обращались с официальными запросами к председателю акционерного общества «Союзэкспортхлеб» Киссину во время его пребывания в Лондоне, Женеве, Берлине. При этом польские представители информировали немцев о якобы проявленной Советами инициативе в этом деле. Германские правительственные круги отреагировали заверением, что если СССР того желает, то Германия готова пойти на трехстороннее соглашение[803].
18 июня 1931 г. посланник Польши в Москве сообщил члену Коллегии НКИД Стомонякову о предложении министра земледелия Польши Я. Полчинского заключить трехстороннюю конвенцию Польши, СССР и Германии об их совместном выступлении на мировом рынке. С. Патек при этом упомянул, что при сложившемся соотношении экспорта ржи доля СССР примерно равна доле Польше и Германии вместе взятых[804]. Это побудило Стомонякова запросить наркома внешней торговли об «окончательном решении по вопросу о заключении ржаной конвенции с Польшей»[805]. Судя по имеющимся материалам, соответствующие предложения НКВТ не вызвали возражений в НКИД, что позволило Политбюро утвердить их «в бесспорном порядке» (т. е. опросом). Авторство и существо поправки к предложению Наркомвнешторга выяснить не удалось.
Месяцем позже А.И. Микоян поставил на заседании Политбюро вопрос «О соглашении с немцами по ржи». Из членов Политбюро на заседании присутствовали лишь Калинин, Куйбышев, Молотов и Рудзутак. Вероятно, в силу этого обстоятельства было постановлено лишь «предложить т. Микояну разослать материалы всем членам Политбюро и внести 10.VIII. с.г. в Политбюро»[806]. Существо и исход возникшей в Кремле дискуссии прояснить не удалось.
В ходе переговоров Киссина с польскими представителями Жмигродским и Бронским, состоявшихся в начале августа 1931 г. в Берлине и продолженных в конце сентября в Москве, определились разногласия по трем группам вопросов. Советская сторона настаивала на закреплении в конвенции следующих условий: (1) изменение соотношения квот советского и польского экспорта до уровня 3:1; (2) ограничение функций советско-польской комиссии исключительно контролем и регулированием сбыта (как то предусматривалось и германо-польским соглашением); (3) финансирование сделанных, но еще не вывезенных из советских портов партий ржи. Поляки ссылались на то, что в 1930 г. фактическое соотношение советского и польского вывоза составляло 2:1 и предлагали наделить комиссию оперативными функциями. Наибольшие затруднения выявились в связи с невозможностью для Польши выделить кредиты для краткосрочного финансирования советского экспорта. 20 сентября Киссин заявил Жмигродскому, что, если такое решение не будет достигнуто, «то навряд ли договор может быть осуществлен», тем более что часть урожая 1931 года «Экспортхлебом» уже реализована и интерес к достижению соглашения с Польшей уменьшился[807]. В ноябре-начале декабря 1931 г. Патек и Жмигродским возобновили предложение о начале официальных переговоров о ржаной конвенции. Член коллегии НКВТ Ш.М. Дволайцкий дал полякам согласованный со Стомоняковым ответ: находящиеся в Берлине заместитель наркома Вейцер и председатель «Экспортхлеба» Киссин, «в случае обращения к ним представителей польской стороны, готовы будут в любой момент приступить к переговорам»[808]. К этой проблеме Политбюро вернулось в начале 1934 г, санкционировав вступление Советского Союза в соглашение с Германией и Польшей о регулировании экспорта ржи[809].
До конца 1933 г. в советско-польских переговорах рассматривалась возможность взаимодействия лишь в одной из областей возможной координации экспорта; осенью 1933 г. Политбюро санкционировало вступление СССР в переговоры с Польшей о реализации некоторых лесных материалов[810]. Ведшиеся в начале 30-х гг. аналогичные переговоры с Германией охватывали более широкую номенклатуру сельскохозяйственного экспорта и, в отличие от дискуссий о тройственном ржаном соглашении, привели к конкретным договоренностям[811].
25 июля 1931 г.
11. – О Польше (Крестинский).
а) Принять предложение НКИД.
б) Вопрос о военных атташе поставить на рассмотрение Политбюро 30 июля с.г. с вызовом т. Богового.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 51 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.7.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 127.
Вечером 11 июля представителями польской контрразведки была задержана машина торгпредства, в которой находился заместитель советского военного атташе В.Г. Боговой. Задержание Богового произошло во время его агентурной встречи с майором Демковским[812]. Конфуз усугублялся тем, что за три дня до очередной (и оказавшейся последней) встречи с Демковским В.Г. Боговой присутствовал на завтраке у С. Патека, в котором приняли участие заместитель министра иностранных дел Ю. Бек и начальник Восточного отдела МИД Т. Шетцель[813]. 16 июля польская пресса сообщила об аресте Демковского и о предании его чрезвычайному суду по обвинению в шпионаже, а 19-го июля – о его расстреле[814]. МИД Польши не выдвинул требований об отзыве Богового; о том, что Демковский вел шпионаж в пользу СССР в прессе первоначально также не сообщалось. 16 июля, с разрешения начальника IV Управления Штаба РККА Берзина и замнаркома по иностранным делам Крестинского, Боговой выехал в Данциг. Новая директива, выехать в Москву, пришла с запозданием и не застала его на месте. Исполнявший обязанности наркомвоенмора Гамарник счел поспешный отъезд военного атташе «большой ошибкой»[815]. 18 июля польская печать поместила сообщение о вызове атташе Богового в Москву. «Поведение поляков, хотя через прессу ясно указавших, что дело Демковского связано с нами, но не развернувших кампанию против нас, поведение Демковского на суде и расстрел его меняют нашу установку о том, что этот провал связан с провокацией со стороны Демковского», – подводил первые итоги этого дела временный поверенный в делах СССР в Польше[816]. Несколькими днями позже «к делу Демковского присоединилось еще дело инж. Станишевского, к нашему несчастью тоже связанного с т. Боговым». «В газетах не было помещено ни одной статьи с требованиями, призывами и т. д., – докладывал Бровкович, – Однако, благодаря тому, что упор в этой кампании был поставлен на обвинение в шпионской деятельности, даже и этой, скромной по форме, кампанией полякам удалось достигнуть цели, к каковой они на данном отрезке времени стремились, а именно изолирования нас [полпредства – Авт.][817]
В середине июля вернувшийся в Москву С. Патек поставил перед исполняющим обязанности наркома иностранных дел H.H. Крестинский вопрос об отзыве заместителя военного атташе. В ходе трех бесед на эту тему (18, 20 и 23 июля) Крестинский заявлял (сначала по своей инициативе, а затем с санкции Сталина), что дело Демковского представляется ему провокационным, но НКИД воздерживается от заявления протеста и резервирует свой ответ за запрос Польши до представления Боговым соответствующего доклада[818]. Ситуация действительно неясна, писал Крестинский Сталину, «есть много оснований предположить провокацию». Он считал, что следовало бы «повременить с нашим решением до приезда сюда Богового, если бы не обстоятельство», что 20 июля, одновременно с сообщением о казни Демковского, польская печать «распубликовала» «всю историю с указанием фамилии Богового и с помещением в газетах его портрета». Первоочередной вопрос, который замнаркома представил на разрешение Генеральному секретарю, состоял в том, что «если мы при таких обстоятельствах не напечатаем у себя в прессе ничего обо всем этом деле, и не дадим никаких официозных или хотя бы исходящих от самих газет комментарий, то это будет равносильно тому, что мы признаем виновность Богового в шпионаже». Ответственный руководитель ТАСС Долецкий настаивал на немедленном «опубликовании сообщений польских газет и резком комментарии», против чего высказался Я.Б. Гамарник, указывавший, что исходящие из Москвы опровержения вызовут полемику в прессе, а «буржуазное общественное мнение поверит, конечно, не нам, а полякам». Сам Крестинский «склонялся все-таки к тому, чтобы в печати не выступать и дело, таким образом, замолчать»[819]. Получив это письмо, Сталин немедленно провел «обсуждение варшавского дела», и 22 июля «Правда» и «Известия» сообщили о расстреле Демковского и интерпретации, которую эта история получила в «фашистской» прессе. «Рабочие и крестьяне СССР, конечно, легко поймут, – выражал надежду центральный орган ЦК ВКП(б), – что дело Демковского является чудовищной провокацией польских фашистов из пресловутого 2-го отделения генштаба или другого гнезда польских фашистских охранников против СССР. Цель этой провокации – облегчить авантюристическим кругам польской военщины порвать мирную политику СССР»[820].
23 июля Боговой вернулся в Москву и немедленно предстал перед Гамарником, дав утвердительный ответ на вопрос о том, «существовала ли связь между ним и Демковским»; только тогда догадки на этот счет руководителей советских разведывательных и дипломатических служб переросли в полную уверенность[821]. «Теперь необходимо решить, – писал сразу вслед за этим Сталину Крестинский, – как нам поступить дальше, чтобы ликвидировать официально это дело». Он указывал, что не следует настаивать на возвращении Богового в Варшаву уже хотя бы потому, что «поляки вряд ли дадут ему визу», «но при этом мы не можем просто оставить его здесь, не сделав полякам никакого реабилитирующего т. Богового заявления». Поэтому Крестинский предлагал разрешить ему «вызвать Патека и заявить ему примерно следующее: тов. Боговой приехал в Москву и сделал доклад своему правительству. В результате этого доклада совпра пришло к полному убеждению, что т. Боговой никакого отношения к приписываемому майору Демковскому предательству не имеет, что т. Боговой ведет себя вполне лояльно по отношению к поль[скому] пра[вительству]. Советское правительство не видит поэтому никаких оснований для отзыва т. Богового с его нынешнего поста. Учитывая, однако; что при создавшемся в официальных варшавских кругах отношении к т. Боговому, последнему было бы трудно выполнять возложенные на него обязанности, сов[етскому] пра[вительству] пришлось дать т. Боговому другое назначение»[822]. На следующий день после того, как Политбюро приняло предложение Крестинского, он пригласил польского посланника и сделал заявление, почти дословно воспроизводившее эту формулу[823].
В соответствии со второй частью постановления, 30 июля Политбюро вернулось к вопросу о военных атташе, однако не приняло содержательного решения. Резолюция Политбюро поручала Молотову «переговорить с т. Боговым и внести конкретное предложение в Политбюро»[824].
5 августа 1931 г.
12. – Об обмене списками с другими государствами о состоянии вооруженных сил, (т. Литвинов).
Принять предложение т. Литвинова в части, касающейся обмена списками между СССР, Польшей и Италией.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 54 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.8.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 138.
Предложение об обмене официальными военными сведениями между СССР и другими государствами возникло вследствие противоречивого отношения Москвы к основным международным форумам европейской и мировой политики – Лиге Наций (деятельность которой до конца 1933 г. неизменно осуждалась) и Конференции по разоружению (в ее подготовке СССР активно участвовал с 1927 г.). По постановлению Совета Лиги Наций государства-участники Подготовительной комиссии представляли сведения о своих вооруженных силах мирного времени и военном бюджете для обеспечения последующих работ Конференции по разоружению. Советская дипломатия, заинтересованная в удержании завоеванных ей позиций в Подготовительной комиссии, была вынуждена искать пути выполнить постановление Лиги Наций, одновременно дистанцируясь от нее. 20 апреля Политбюро постановило «представленный НКИД проект ответа» Секретариату Лиги Наций «в основе принять» и поручило «окончательную редакцию ответа комиссии в составе тт. Ворошилова, Молотова, Калинина и Литвинова»[825]. Требуемые сведения о состоянии вооруженных сил СССР были направлены Совету Лиги Наций в апреле 1931 г. в конверте, адресованном Конференции по разоружению, и с пояснением, что Советский Союз не признает Совет Лиги в качестве инстанции по ее политической подготовке. Вследствие этого советские материалы не вошли в издаваемый Лигой «Военный Ежегодник».
В конце июля 1931 г., одновременно с обсуждением дела Богового, посланник Польши в Москве С. Патек информировал заместителя наркома Н.Н. Крестинского о письме, направленном его правительством в Секретариат Лиги Наций. В письме отмечалось, что в то время как «Военный Ежегодник» публикует официальные сведения всех государств о состоянии своих армий и военных бюджетах, об СССР в этой публикации имеются отрывочные и неполные сведения, полученные из неофициальных источников. Оговариваясь, что оно не делает упреков Советскому Союзу за возникшее положение, правительство Польши отмечало, что тем самым другие страны лишены возможности осведомляться о его вооруженных силах, и если оно и впредь не сможет знакомиться с официальными военными сведениями своего восточного соседа, то может счесть себя свободным от аналогичного обязательства. 30 июля 1931 г. Патек вручил Литвинову копию этого послания в Секретариат Лиги. Нарком напомнил о действительных мотивах действий советской дипломатии, приведшей к отмеченной в письме коллизии; «польское правительство должно было это понять». Больше всего руководителя НКИД беспокоило, что из-за утечки информации в Женеве и Варшаве польское письмо может быть опубликовано, после чего «возникновение полемики и неприятной полемики» (о недопущении которой Литвинов в июле 1931 г. договорился в Женеве с Залеским) станет неизбежно[826].
Желание избежать «возможных инсинуаций» явилось главным побудительным мотивом обращения наркома иностранных дел к Сталину и другим членам Политбюро. Полагая ненужным менять позицию СССР в отношении роли органов Лиги Наций при подготовке Конференции по разоружению, Литвинов видел выход в обмене «копиями посланных в Лигу Наций сведений с теми, которые этого пожелают», в первую очередь с итальянским послом, уже выразившим такую готовность. Относительно контактов по этому поводу с Польшей нарком выразился двусмысленно: «Можно было бы дать копию наших сведений также Патеку – в ответ на врученную мне копию письма в Лигу Наций». Оставалось неясным, имеет ли Литвинов ввиду, говоря об «обмене» с Польшей, лишь вручение ее представителю советских сведений либо также получение, наряду с письмом в Совет Лиги, ее собственной сводки. В проекте решения Политбюро Литвинов предлагал «разрешить НКИД обмениваться списками о состоянии вооруженных сил, предназначенных для конференции по разоружению с Италией, Польшей и другими странами, которые того пожелают»[827]. Политбюро отказалось предоставить НКИД право самому определять страны, с которыми может быть произведен обмен официальными военными сведениями[828], и поставило на первое место договоренность по этому поводу с Польшей.
6 августа, используя визит Патека в НКИД, Литвинов передал ему предложение об обмене военными сводками между правительствами Польши и СССР «в тех рамках, в каких предполагается давать эти сведения Лиге Наций для конференции по разоружению»[829]. МИД Польши ответил согласием; обмен сведениями предполагалось произвести в ходе встречи Литвинова с Залеским в Женеве в конце августа – начале сентября 1931 г. Это намерение не осуществилось из-за кампании, развернутой руководством НКИД по поводу вручения польским посланником «мнимого» проекта пакта ненападения между СССР и Польшей 23 августа[830]. В этих условиях нарком счел невыгодным просить Залеского о встрече, тогда как польский министр имел основания полагать, что инициатива должна исходить от Советов.
Удобный момент для обмена сведениями был упущен. По возвращению в Москву наркому пришлось выслушать сообщение поверенного в делах Польши в СССР о том, что польское правительство передало 15 сентября ответ по вопросам, предусмотренным решением подготовительной комиссии конференции по разоружению, сведения эти будут опубликованы Лигой Наций, а потому, по мнению Залеского, «специальное сообщение правительству СССР этих сведений будет лишено практического значения». Вину за создание положения, при котором августовская договоренность теряла смысл, МИД Польши возлагал на Литвинова. После неуклюжих усилий приписать Варшаве инициативу двустороннего обмена сведениями, Литвинов попытался поставить А. Зелезинского перед вопросом, отказывается польское правительство от своего решения обменяться с СССР военными сведениями. Поверенный в делах повторил, что польская сводка будет опубликована для всеобщего сведения, и заявил о согласии принять соответствующие советские материалы. «Тов. Литвинов закончил разговор тем, что заявил, что он придерживается решения правительства СССР об обоюдном обмене этими сведениями»[831]. О беседе с Зелезинским Литвинов информировал Секретаря ЦК ВКП(б) Кагановича[832]. Желая избежать обострения отношений с Москвой, МИД Польши согласился на выполнение первоначальной договоренности об обмене сведениями о вооруженных силах. 23 сентября в рабочем кабинете Литвинова, без тени торжественности, нарком и поверенный в делах обменялись сводками, составленными по идентичной схеме. Литвинов принес полуизвинения по поводу нелепости этой процедуры, заметив советнику польской миссии, что, «благодаря искажениям и неверному истолкованию польской прессой дипломатических шагов обоих государств», в конце августа – начале сентября «создалась обстановка, диктовавшая мне крайнюю осторожность и даже помешавшая моим встречам с Залеским в Женеве» и своевременному обмену официальными военными материалами[833].
20 августа 1931 г.
Решение Политбюро
13/18. – Об обмене нот с Литвой по вопросу о положении торгпредства СССР (т. Литвинов).
Принять предложение т. Литвинова об обмене нот с Литвой по вопросу о легализации торгпредства СССР в Литве.
Выписки посланы: т. Литвинову.
Протокол № 57 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.8.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 164.
Фактически пользовавшееся правами экстерриториальности советское торгпредство в Каунасе не имело юридически закрепленного статуса, что порождало трения с органами местного самоуправления и налоговыми органами при попытках получения в аренду земельных участков под складские помещения для транзитных грузов и в вопросах об уплате налогов. Эта тема дважды поднималась литовской стороной в 1930 г., но, поскольку литовское правительство оказалось заинтересованным в помощи Москвы в устранении напряженности во взаимоотношениях с Германией и в поддержке в польско-литовском конфликте, то на время он был снят с повестки дня, хотя 2 февраля 1930 г. Стомоняков и направил в полпредство в Каунасе проект обмена нот, «оформляющий положение торгпредства»[834]. В начале 1931 г., под влиянием осложнения отношений режима Сметоны-Тубялиса с оппозицией, вопрос снова стал актуальным. Торгпредство было извещено о том, что его коммерческая деятельность подлежит налогообложению. Одновременно литовское правительство согласилось в январе сохранять статус-кво, пока не будет разрешен вопрос со статусом торгпредства. С учетом того, что объемы экспорта в Литву оставались незначительными и размеры возможных финансовых потерь при уплате налога были мизерными, советская сторона в феврале 1931 г. на переговорах полпреда М.А. Карского с министром Д. Зауниусом дала принципиальное согласие на его уплату в размере 0,2 % дохода и в «паушальной» форме (при которой начисление производится с суммы, установленной не налоговым инспектором, а самим торгпредством)[835]. Поспешность НКИД и НКВТ объяснялась необходимостью устранить препятствия в работе «транзитных складов» в Каунасе и Мемеле (которые, по признанию сотрудников торгпредства и полпредства, на деле были ориентированы на рост советского экспорта в Литву)[836]. Однако с февраля 1931 г. литовское правительство, по инициативе которого были начаты переговоры, стало их затягивать. Временный поверенный в делах СССР А.В. Фехнер объяснял это тем, что условие советской стороны, при котором она соглашалась пойти на эвентуальную уплату налогов – сохранение предоставляемой Литве уступки в тайне (фиксация ее только в обмене нот, полное содержание которых не станет достоянием гласности), не устраивало власти Литвы, желавшие продемонстрировать оппозиции, неоднократно критиковавшей деятельность торгпредства, способность отстаивать интересы страны. При конфиденциальности этой договоренности обмен нот о статусе советского торгпредства, по мнению Фехнера, представлял интерес для литовского правительства лишь как акт, демонстрирующий «вовне» упрочение советско-литовских отношений, но и тогда полученный политический эффект был бы несопоставим с эффектом от пролонгации договора 1926 г.[837].
Пауза в переговорах о статусе торгпредства затянулась до середины июня, когда этот вопрос в беседе с Зауниусом (и вопреки установке Стомонякова, требовавшего дожидаться инициативы со стороны литовцев) был поднят полпредом Карским, обеспокоенным появлением новых критических статей в литовской прессе о работе торгпредства и судебными исками, в результате одного из которых был арестован текущий счет торгпредства[838]. В начале июля министр иностранных дел Зауниус пригласил на свою летнюю дачу Карского, который имел указания НКИД в случае отказа от советских предложений пригрозить закрытием торгпредства и сокращением торговли с Литвой[839]. 14 июля в Паланге Карский обсудил с Заунисом проблемы статуса торгпредства и транзита[840]. Полпред категорически отказался обсуждать проект подготовленный директором Восточного департамента МИД Литвы Дайлиде, поскольку в нем было опущено положение о недопустимости ареста счетов торгпредства, зато были положения об уплате торгпредством налога за все прошедшие годы, об установлении принципа нетто-баланса в двусторонней торговле. Зауниус согласился отозвать проект Дайлиде и вести в дальнейшем переговоры на базе советского проекта[841]. К началу августа 1931 г. сторонам удалось в принципе достичь компромисса. Условия соглашения НКИД представил на утверждение Политбюро.
29 августа 1931 г. Карский и Зауниус подписали «Протокол о правовом положении торгового представительства Союза ССР в Литве», а также приложенные к нему ноты (одновременно был произведен обмен ратификационными грамотами о продлении договора 1926 г.). Согласно ст. 3 Протокола, торгпред и его заместитель признавались членами дипломатического корпуса с вытекающими из этого статуса правами и привилегиями. Наиболее важной для Москвы была ст. 6, устанавливавшая, что ответственность торгпредства распространяется только на заключенные им частноправовые сделки и за действия советских государственных хозяйственных организаций, в соответствии с их статусом по законам СССР, они отвечают сами. В приложенных к протоколу нотах фиксировалось согласие Москвы «благоприятно относиться к развитию транзита через Литву» и распространить на нее те права в отношении транзита по территории СССР, которыми обладали государства, заключившие торговые договора с СССР (советско-литовский торговый договор не был заключен)[842].
30 августа 1931 г.
Решение Политбюро
19/28. – О Польше (т. Крестинский).
а) Признать неправильным выступление НКИД с опровержением по вопросу о переговорах с Польшей без предварительной постановки вопроса в Политбюро.
б) Предложить НКИД представить на ближайшем заседании Политбюро о дальнейшем ходе этого дела, до этого полемики и обсуждения на страницах печати не вести.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 59 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.9.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 177.
С марта 1930 г. руководители советской и польской дипломатии неоднократно рассматривали возможность возобновления переговоров о заключении гарантийного договора, что нашло отражение в зондажных беседах Антонова-Овсеенко с Залесским и Беком, Ольшевского с Сурицем и других контактах в конце 1930 г.[843] Впоследствии сообщения об инициативе советских представителей начать переговоры о советско-польском пакте ненападения или о ведении таких переговоров неоднократно опровергались в советской печати. 6 января по указанию НКИД газеты опубликовали «примечание ТАСС» к сообщению румынской газеты «Лупта». В материале ТАСС заявлялось, что «никакие переговоры о каком бы то ни было соглашении между СССР и Польшей за последнее время не имели места». 27 июля «Известия» снабдили телеграмму своего корреспондента в Париже редакционным добавлением: «Утверждение… о ведении между СССР и Польшей переговоров относительно заключения пакта ненападения не соответствуют действительности». 6 августа «по заданию НКИД» ТАСС послал за границу телеграмму: «Исходящие из Риги сведения, будто по инициативе французского правительства в Париже происходили переговоры между представителями СССР и Польши лишены всяких оснований». Сообщение «Chicago Tribune» о предстоящем заключении советско-польского пакта было передано в советских газетах за 23 августа с добавлением официозного примечания: «ТАСС уполномочен заявить, что в парижских переговорах ни в какой мере не затрагивались отношения договаривающихся сторон с третьими государствами, в том числе с Польшей; никаких переговоров между Москвой и Варшавой о пакте ненападения не ведется»[844]. Насколько удалось установить, эти разъяснения соответствовали действительности, хотя польская дипломатия пыталась создать впечатление, что если не официальные переговоры, то эпизодические беседы о заключении советско-польского пакта продолжались, и в июле 1931 г. Польша выдвинула новые предложения относительно условий его заключения[845]. Представители НКИД тем временем разъясняли, что завершение переговоров о договоре ненападения между СССР и Францией отнюдь не ставит в порядок дня вопрос о заключении аналогичного договора с Польшей и что, во всяком случае, французское посредничество в этом деле исключено[846].
23 августа посланник С. Патек вручил заместителю наркома Л.М. Карахану (временно заменявшему Б.С. Стомонякова) записку, озаглавленную «Текст договора о ненападении»[847]. Собравшаяся в тот же день Коллегия НКИД решила «не предпринимать с нашей стороны новых шагов в связи с документом»; «если в печати появятся сообщения о вручении поляками контрпроекта, выступить с опровержением и информировать корреспондентов о действительном положении вещей, подчеркивая, что документ, врученный Патеком 23-го августа представляет собой простое письменное изложение тех возражений, которые делались поляками в прошлом против нашего проекта пакта и которые только мешали заключению пакта»[848]. 25 августа в польской печати появилось сообщение телеграфного агентства ПАТ о том, что «в результате происходящего с 1926 г. обмена взглядов между польским и советским правительствами» польской стороной был передан новый проект договора о ненападении. Поскольку руководство НКИД считало проект Патека «образцом наглости» (из-за «требования» связать пакт СССР и Польши с заключением аналогичного советско-румынского пакта), то оно расценило демарш 23 августа не как проявление желания вступить в переговоры, а «наоборот», как свидетельство того, что «полякам нужен был этот шаг Патека для каких-то внешнеполитических маневров Польши – облегчение получения займа, шантаж Германии и Литвы, попытка примазаться к советско-французским переговорам, маневры по адресу Румынии или что-либо подобное»[849]. Особое беспокойство советских дипломатов вызывала реакция германских политических и правительственных кругов на противоречащие друг другу сообщения о польско-советских переговорах, и уже 26 августа советник полпредства С.И. Бродовский представил МИД Германии подробные успокоительные разъяснения относительно истории обсуждения пакта ненападения с Польшей в 1926–1931 гг.[850].
27 августа советские газеты опубликовали подготовленное в НКИД и утвержденное Литвиновым «Сообщение ТАСС»[851]. В нем не только отрицались утверждения о продолжении переговоров о пакте после их официального прекращения в 1927 г. (что соответствовало действительности), но и заявлялось, что врученный Патеком документ является «шагом назад» и уже потому не может привести к возобновлению переговоров. На следующий день ТАСС выступил с опровержением заявления французского агентства Гавас о якобы предпринятых в 1930 г. попытках советского правительства вступить в переговоры с Польшей о пакте ненападения[852]. Одновременно М.М. Литвинов (выехавший вечером 26 августа из Москвы в Женеву), находясь в Берлине для переговоров с министром иностранных дел Германии, сделал заявление представителям печати. Он повторил ранее сделанные опровержения и добавил, что «распространение слухов о несуществующих переговорах» «может вызвать лишь раздражение и полемику, чего надо избегать» в интересах советско-польских отношений[853].
Эти акции были предприняты без предварительного согласия Политбюро, работа которого в отсутствие находившихся в отпуске Сталина и Молотова, проходила под руководством Л.М. Кагановича. В письме о текущих делах, направленном Сталину 26 августа, Каганович не счел нужным упомянуть о демарше Патека и полемике, начатой вокруг него. Это вызвало резкий упрек Сталина. Дело заключения пакта ненападения с Польшей Сталин назвал делом «очень важным, почти решающим (на ближайшие 2–3 года)». «Вопрос о мире, и я боюсь, что Литвинов, поддавшись давлению так называемого “общественного мнения”, сведет его к пустышке. Обратите на это дело серьезное внимание, – поручал Сталин. – Пусть ПБ возьмет его под специальное наблюдение и постарается довести его до конца всеми допустимыми мерами. Было бы смешно, если бы мы поддались в этом деле общемещанскому поветрию “антиполонизма”, забыв на минуту о коренных интересах революции и социалистического строительства»[854].
Неизвестно, было ли мнение Генерального секретаря доведено до сведения членов Политбюро до их встречи. Вероятно, однако, что о позиции Сталина Кагановичу и находившимся в Москве его коллегам (Калинин, Куйбышев, Микоян, Орджоникидзе, Рудзутак, Чубарь) стало известно после 30 августа, а инициатива постановки вопроса «О Польше» родилась в Москве, причем не позже 29 августа. В адресованной Политбюро записке исполнявший обязанности наркома Н.Н. Крестинский предпринял всестороннюю защиту действий НКИД по опровержению заявлений польских и французских агентств о состоянии отношений СССР с Францией и Польшей. Крестинский уклонился от рассмотрения сути предложения польского правительства, расценив передачу его Патеком и сообщения об этом в прессе как «новый способ воздействия на Германию», который был «обезврежен» сообщением ТАСС от 27 августа, а повторное заявление ТАСС 28 августа «нейтрализовало» «последнюю попытку Польши» – переданную двумя днями ранее информацию агентства Гавас. Исполняющий обязанности наркома обходил вопрос о том, получил ли Литвинов разрешение ЦК ВКП(б) на публикацию заявления ТАСС от 27 августа. Что же касается официозного разъяснения, он «не согласовывал составленное в НКИД сообщение ТАСС’а с ПБ, потому что в одной своей части (о переговорах с Польшей) наше сообщение повторяло сообщения от 6/I, 27/VII, 6/VIII, 23/VIII и 27/VIII, а во второй своей части (о франко-советских переговорах) повторяло наши опровержения от 6/I и 27/VII, т. е. все это сообщение не содержало в себе ничего нового, не получившего в свое время санкции ПБ». Поскольку в своем ответном заявлении Гавас ограничился констатацией действительного обстоятельства («трижды за последние годы советское правительство предлагало Франции заключить договор о ненападении»), Крестинский заявлял, что «наше выступление от 28/VIII достигло своей цели». Интервью Литвинова немецкой печати (28 августа, Берлин) его заместитель оценивал как «исчерпывающее и очень убедительное», так что, говорилось в заключительной части записки в Политбюро, «мы можем не возвращаться больше официально и официозно к вопросам польско-советских и советско-французских переговоров»[855].
Несмотря на формальную неуязвимость аргументов НКИД, Политбюро не согласилось с основной предпосылкой его рассуждений – с тем, что предпринятая неделей ранее акция польского правительства не вносит ничего существенно нового в отношения с Польшей и потому не требует изменения советской внешнеполитической тактики. В точном соответствии с пожеланиями Сталина Политбюро взяло «это дело» под свой контроль, согласившись с НКИД лишь в том отношении, что с новыми выступлениями в печати следует повременить. Выжидательно-неопределенный характер резолюции Политбюро был, по-видимому, вызван растерянностью участников заседания, которые вынуждены были принимать решение по ключевому внешнеполитическому вопросу в отсутствие признанных лидеров – Сталина и Молотова.
3 сентября 1931 г.
Решение Политбюро
34/15. – О Финляндии.
Запросить т. Сталина.
Протокол № 60 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.9.1931 – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 832. Л. 183.
3 сентября 1931 г. и.о. наркома Н.Н. Крестинский обратился к Л.М. Кагановичу, с просьбой, «не дожидаясь послезавтрашнего заседания» Политбюро, решить в срочном порядке опросом, стоит ли соглашаться на сделанное 26 августа министром иностранных дел Финляндии А. Юрье-Коскиненом полпреду Майскому предложение об обмене сведениями о вооружениях. Несколькими днями позже руководитель МИД Финляндии повторил это предложение в беседе с М.М. Литвиновым в Женеве. Нарком сообщил в НКИД об отсутствии у него возражений против предложенной акции[856].
Несмотря на то, что прецедент обмена официальными сводками о вооруженных силах Политбюро был ранее создан[857], Каганович и его коллеги, вероятно, не рискнули взять на себя ответственность за принятие окончательного решения, не говоря уже о проведении его «в бесспорном порядке» – опросом (как предлагал Крестинский), и дело было отложено[858].
3 сентября 1931 г.
Решение Политбюро
36/17. – О Польше.
1. Предложить НКИД через своих представителей заграницей прощупать, как реагируют правительственные круги, главным образом во Франции и особенности в Польше, на сообщения ТАСС от 27 и 28 августа и на интервью т. Литвинова.
2. Предложить НКИД представить в Политбюро к 10 сентября подробный доклад о создавшемся положении и о возможных и необходимых наших шагах с нашей стороны.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 60 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.9.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 832. Л. 183.
2 сентября Н.Н. Крестинский направил «в Политбюро ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу» «сводки откликов французской, польской и немецкой печати на нашу полемику с поляками и Гавасом по вопросу о польско-советском пакте». В обширной сопроводительной записке исполнявший обязанности наркома приводил дополнительные аргументы в пользу сделанных ранее официозных разъяснений относительно переговоров с Польшей. Первая группа этих аргументов была направлена на обоснование тезиса о том, что «Франция действительно не связывает подписание пакта с СССР с польско-советскими отношениями». Крестинский оговаривался, что «возможно… все переговоры о пакте являются чисто тактическим шагом со стороны Франции, что подписывать пакта с нами она не собирается, а ведет переговоры лишь для того, чтобы давить на Германию угрозой ее политической изоляции и толкать ее на политические уступки Франции». В любом случае, инициированные НКИД опровержения не нанесли ущерба «налаживанию наших отношений с Францией». Второй тезис Крестинского сводился к тому, что в результате публичных акций НКИД «отношения между нами и Германией лучше, чем когда бы то ни было»: «мы успокоили германские правительственные и политические круги, обеспечили себе полную поддержку Германии в Женеве и обеспечили благоприятную атмосферу для предстоящих в Германии импортных и экспортных переговоров, и для Согласительной Комиссии, на которую мы идем с худшим багажом, чем немецкая сторона». В записке Крестинского впервые признавалось, что «вопрос о переговорах» с Польшей все же может быть решен «положительно», но он отрицал, что августовские заявления СССР нанесли ущерб будущим переговорам с нею о пакте ненападения, напротив, «все возможности остаются»[859].
Неизвестно, состоялось ли 3 сентября обсуждение новой записки НКИД и было ли вынесено соответствующее решение. По свидетельству Л.М. Кагановича, рассматриваемое постановление было принято 5 сентября (т. е. в день проведения заседания Политбюро), после того как, «по получении Вашего [Сталина. – Авт.] письма затребовали новые данные от НКИД о Польше» и «слушали сообщение НКИД»[860]. Причины расхождений в датировке между протоколом и письмом Кагановича Сталину, написанному по горячим следам, можно объяснить лишь предположительно. Возможно, что на 3 сентября было намечено рассмотрение вопроса «О Польше», однако выяснилось, что, как писал Каганович, «никаких серьезных материалов у них [руководителей НКИД. – Авт.] нет», представленные «обзоры иностранной печати» и записка Крестинского от 2 сентября были сочтены недостаточной базой для решения. Есть основания полагать, что обсуждение и принятие постановления ПБ было перенесено на заседание 5 сентября, на этот день были приглашены Карахан и Крестинский (или один из них), после заседания соответствующая запись была сделана в оставленной пустой рубрике «Решения от 3.IX.31 г.»
В письме Сталину Каганович следующим образом резюмировал итоги обсуждения на Политбюро 5-го (или 3-го и 5-го) сентября: Первая задача польского предложения состояла в том, чтобы «напугать немцев», «заставить их пойти на политические уступки» Варшаве. С советской стороны, по «первому пункту сделано слишком много»: официальные заявления «действительно успокоили Герм[анское] пра[вительство] и немецкую прессу, но ударили сильно по польскому предложению по пакту, дав возможность изображать нас как встретивших холодно протянутую руку Польши».
Наряду с этим, писал Каганович, демарш Патека имел целью «подготовить возможность срыва франко-советского пакта» о ненападении, текст которого был парафирован в Париже 10 августа 1931 г., и подчеркнуть, что Польша не оказалась изолированной в связи с нашими переговорами с Францией. Эта интерпретация подкреплялась ссылкой на заявление Гавас от 27 августа и на передовую статью в «Le Temps» от 29 августа. Этот близкий к МИД Франции орган оспаривал заявление Литвинова в Берлине, утверждая, что, поскольку советское правительство не отказалось принять проект Патека и разговор о нем может быть продолжен, советско-польские «переговоры реально существуют». В заключении статьи «Le Temps» заявлялось: «Все заявления Литвинова не изменят того факта, что пакт о ненападении между Францией и СССР (а параллельно, разумеется, и экономическое соглашение…) будет заключен только в том случае, если Польша и Румыния будут также гарантированы от угрозы нападения со стороны СССР в форме ли непосредственного соглашения, или же соглашения трех держав. Без этого условия между Москвой и Парижем не будет заключен никакой пакт». Наконец, задачей польской акции 23 августа было «подчеркнуть пацифизм Польши. Она делает предложение о пакте, а мы поворачиваемся спиной». Политбюро пришло к выводу, что «наши коммюнике», где мы разоблачаем пацифизм Польши и ее неискренность, не достигли цели. Польша совершила официальный шаг, вручила проект пакта, мы никакого официального… ответа Польше не дали», лишь указав «через ТАСС и прессу, что Польша мошенничает». «Этого недостаточно, – делал вывод Каганович, – нужно совершить официальный шаг, который 1) подчеркнул бы нашу готовность заключить пакт, 2) содержал бы исчерпывающий текст пакта, приближающийся к тому проекту, который был нами вручен Польше в 1926 году с учетом элементов парафированного с Францией пакта, 3) отвергал бы и разоблачал бы нежелание Польши идти на пакт с нами с перечислением всех явно неприемлемых требований, в особенности, чтобы пакт с Польшей вступил в силу после подписания нами аналогичных пактов с прибалтами, 4) особо подчеркнул бы, что Польша выдвинула новое требование, никогда ею не выдвигавшееся, а именно, чтобы пакт с Польшей вступил бы в силу после того, как мы заключим пакт с Румынией.
Такой официальный акт выбьет почву и затруднит Польше и Франции игру в пацифизм, а нам даст возможность перед всем миром раскрыть карты. Кроме того, такой шаг затруднит Франции отступление от пакта с нами, ибо мы будем и перед Франц[узским] пра[вительством] козырять нашим предложением и сказать Франции: Вы колеблетесь из-за Польши, но вот мы готовы подписать с Польшей пакт такой же, как с Вами»[861].
Эти выводы, однако, не вошли в резолюцию Политбюро, которая по существу повторяла его предшествующее решение[862], скрывая наметившуюся эволюцию в пользу вступления в переговоры с Польшей о договоре ненападения. Вероятно, это было связано с отсутствием в Москве ведущих членов Политбюро (Сталина, Молотова, Ворошилова). Положение усугублялось сходным трудным положением в Наркоминделе: нарком М.М. Литвинов находился в Женеве, Б.С. Стомоняков, вышедший из отпуска 1 сентября, не приступал к своим текущим обязанностям и готовился к выезду в Берлин для участия в заседании советско-германской Согласительной комиссии[863]. Обязанности наркома были возложены на Крестинского (решительного противника сближения с Польшей как неизбежно влекущего за собой ухудшение отношений с Германией), Стомонякова замещал Карахан, склонявшийся к более взвешенной позиции. В результате нормальное функционирование Коллегии НКИД было нарушено, что создавало дополнительные сложности для Политбюро.
Между тем, изучив проект Патека и запись его беседы с Караханом, Генеральный секретарь пришел к убеждению, что Карахан «вел себя во время «беседы» глупо и неприлично». Сосредоточив огонь на Карахане (вероятно, и в силу личной неприязни, и по тактическим соображениям), Сталин дал раздраженную и вместе с тем проницательную критику линии, проводимой Наркоминделом в отношении Польши с конца 1930 г., и в особенности его реагирования на последний демарш польского посланника. «Карахан не понял того, что после истории с французами (опровержение ТАСС, данное 1 1/2 месяца назад), ни одно государство не решится взять на себя инициативу насчет пакта о ненападении без того, чтобы не получить «неприятности» от «оппозиции». Карахан не понял того, что нам, в конце концов, безразлично по чьей инициативе происходят переговоры, лишь бы был подписан нужный нам пакт. И вот, вместо того, чтобы уцепиться за повод, данный Патеком и его проектом, Карахан – по глупости – оттолкнул Патека и испортил дело. Что касается проекта Патека, то он ничуть не хуже первоначального проекта французов, послужившего, как известно, одной из баз переговоров между нами и французами. Для меня ясно, – заключал Сталин, – что Карахан и Литвинов допустили грубую ошибку». Однако Сталин воздержался от призыва форсировать переход к переговорам с Польшей, отметив, что для «ликвидации» этой ошибки «необходимо более или менее продолжительное время»[864]. В письме Сталина никак не отразилось его отношение к предложению «совершить официальный шаг», о котором писал Каганович двумя днями ранее.
10 сентября 1931 г.
Решение Политбюро
3/15. – О Польше (ПБ от 3.IХ.-31 г., пр. № 60, п. 36/17-2)
(т.т. Крестинский, Карахан, Стомоняков).
Поручить НКИД представить в Политбюро к 16 сентября с.г. серьезный обстоятельный доклад в письменной форме по вопросу о том, насколько серьезны намерения Польши в переговорах о заключении с нами пакта о ненападении, в связи с общим положением Польши и с группировками в правительственных и общественных кругах. Доклад НКИД поставить на обсуждение Политбюро 20 сентября с.г.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 61 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.9.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 1.
По всей вероятности, на Политбюро каждый из руководителей НКИД представил свои соображения относительно создавшегося положения. Намерения Польши, однако, оставались для Наркоминдела загадочными и вызывали разноречивые суждения. Полпред в Варшаве не смог получить убедительного ответа на вопрос, была ли Польша осведомлена Францией о советско-французских переговорах. По сведениям из журналистских кругов и немецкой миссии в Варшаве, в МИД Польши царил «разнобой»: Залеский «и особенно» Бек выступали за пакт с СССР, а Патек, якобы, был настроен отрицательно. Советские дипломаты недооценивали близости Бека к Пилсудскому и потому затруднялись в выводах относительно «воли маршала». Тем не менее, Антонов-Овсеенко считал «не исключенным, что предложение поляков нам серьезное. Оно максималистское, в учете возможной поддержки Франции, за каковую Залеский ныне берется в Париже»[865].
В свете сообщений в польской и французской печати, последовавших за демаршем 23 августа, «становится все более и более явным, что польские маневры по отношению к нам находятся в тесной связи с нашими переговорами с Францией о пакте ненападения», отмечали Л.М. Карахан и заведующий 1 Западным отделом Н.Я. Райвид. Они допускали, «что окончательное подписание этого пакта будет поставлено французами в зависимость от заключения нами пакта с Польшей».
Однако мотивы и тактика Польши оставалась для НКИД «все-таки достаточно неясными». Утверждение о том, что вручением проекта договора ненападения Варшава стремилась побудить немцев пойти на политические уступки ей (которое несколькими днями ранее выглядело убедительным, что отразилось в письме Кагановича Сталину), столкнулось с фактом антигерманской кампании в польской печати. Другим неясным фактором являлась позиция национальных демократов, влиянию которых на польскую политику традиционно придавалось преувеличенное значение; в НКИД были озадачены тем обстоятельством, что «пресса эндеков почти совсем не реагировала на перепалку между нами и Польшей в вопросе о пакте»[866]. 8 сентября члены Коллегии обсудили «вопрос о Польше», пришли ли они к общему заключению и в чем оно состояло, выяснить не удалось. Исполнявший обязанности наркома Крестинский заверял Кагановича, что 9 сентября, после обсуждения в Коллегии и «согласно постановлениям ПБ от 3/IХ», пришлет в ЦК ВКП(б) «соображения о создавшемся положении и о необходимых шагах». Такой документ не обнаружен; возможно, члены Политбюро к обсуждению 10 сентября получили лишь направленные им двумя днями ранее справку помощника заведующего 1 Западным отделом И.М. Морштына о переговорах между СССР и Польшей по поводу пакта ненападения в 1926–1927 гг. и перевод памятной записки Патека от 17 сентября 1927 г., в которой были сформулированы разногласия сторон[867].
10 сентября 1931 г.
Решение Политбюро
7/19. – О Латвии (т.т. Крестинский, Карахан, Стомоняков).
Снять вопрос.
Протокол № 61 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.9.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 2.
Вероятно, на рассмотрение Политбюро было внесено предложение о денонсации советско-латвийского торгового договора 1927 г. Первоначально идея использовать угрозу денонсации была выдвинута членом Коллегии НКИД Б.С. Стомоняковым в начале 1931 г. как маневр, «придуманный в целях воздействия на лат[вийское] пра[вительство] для прекращения травли против торгового договора». Стомоняков, ранее рассматривавший советско-латвийский торговый договор как своего рода «гарантийный договор», обеспечивающий определенную лояльность ведущих политических кругов Латвии в отношении СССР, был позднее вынужден существенно изменить свои излишне радужные оценки.
Недовольство рижских кругов торговым договором с СССР, помимо политических мотивов, не имевших прямого отношения ни к этому акту, ни к практике его выполнения, было обусловлено нежеланием СССР размещать в Латвии заказы на продукцию промышленности (в силу значительного несоответствия цен и качества изделий) и расширять закупки сельскохозяйственных продуктов (при этом с латвийской стороны в частных беседах неоднократно звучали заявления о том, что поскольку промышленность в значительной мере «находится в руках еврейского капитала», то получаемые от советских заказов выгоды никак не сказываются на благополучии латышей, занятых в основном в сельском хозяйстве). С другой стороны, в 1929/30 и 1930/31 договорных годах Латвия имела положительный баланс в торговле с СССР (16,5 и 14,1 млн. лат соответственно), а транзит через Латвию возрос с 562 тыс. тонн в 1928 г. до 787 тыс. тонн в 1931 г. (85,9 % всего латвийского транзита)[868]. Доля СССР достигла в латвийском экспорте в 1931 г. 20,2 %, в импорте – 9,4 %[869]. Экспорт из СССР в Латвию по сравнению с преддоговорным 1926/27 годом сокращался ежегодно в среднем на 12 %[870]. Однако, все это было неспособно остановить волну критики торгового договора с СССР. В марте 1931 г. советско-латвийские отношения оказались настолько натянутыми, что Б.С. Стомоняков предупредил полпреда А.И. Свидерского, что угрозу денонсации следует рассматривать как актуальную[871].
В конце апреля Б.С. Стомоняков предложил Свидерскому «создать заблаговременно аргументацию в пользу денонсации или невыполнения торгового договора», поясняя, что, пока не выяснится ситуация с заказами для Латвии, не следует выдвигать перед нею требований, которые та может легко исполнить и затем использовать этот факт против СССР в случае денонсации договора[872]. Летом 1931 г. полпредство и торгпредство получили указание максимально использовать размещение советских заказов в Латвии для благоприятного воздействия на предвыборную кампанию (ставка делалась на правых социал-демократов, у которых, в отличие о левых, оказавшихся «беспомощными» и «мягкотелыми», могла обнаружиться «воля к власти»). В развитие этих директив, 10 июля (перед своим уходом в отпуск) Стомоняков сообщил полпреду о дополнительном плане, проведение которого он намеревался предложить Коллегии НКИД по возвращении из отпуска в начале сентября. Речь шла о том, чтобы 10 или, самое позднее, 15 сентября (дата определялась намеченными на начало октября парламентскими выборами в Латвии) направить латвийскому правительству ноту с обвинениями в проведении антисоветской кампании, главным объектом которой стал торговый договор, и предложением заблаговременно приступить к переговорам о заключении договора на новых основах. Тем самым, сторонники добрососедских отношений с СССР могли бы утверждать, что латвийские правительства «своей неправильной политикой в отношении СССР… подрывали корни того дуба, который подкармливал и подкармливает своими плодами все латвийское народное хозяйство»[873].
Совпадение даты заседания Политбюро с указанной в июльском письме Свидерскому позволяет полагать, что инстанцией был рассмотрен этот «план Стомонякова». Причины снятия вопроса с обсуждения не ясны, и, вероятно, связаны с отсутствием как находившегося в отпуске И.В. Сталина, так и наркома внешней торговли А.П. Розенгольца. Отсутствовал и Литвинов, взгляды замещавшего его Крестинского часто не совпадали с точкой зрения Стомонякова (о чем свидетельствуют их записки Генеральному секретарю). Возможно, с учетом этих обстоятельств члены Политбюро предпочли бы, не отвергая предложения Стомонякова, не выносить решения по этому принципиальному вопросу, однако, поскольку, согласно высказанному выше предположению, речь шла об инициативе, которая имела смысл лишь в случае ее незамедлительного осуществления, откладывание решения было равносильно зафиксированному в протоколе «снятию вопроса».
20 сентября 1931 г.
Решение Политбюро
3. – О Польше (ПБ от 10.IX.31 г., пр. № 61, п. 3/15) (т.т. Литвинов, Крестинский, Карахан).
а) Отвергнуть установку т. Литвинова, изложенную им в записке от 15.IХ. с.г. в Политбюро ЦК по поводу Польши.
б) Исходя из прежних решений Политбюро о необходимости добиваться заключения пакта о ненападении с Польшей, предложить НКИД в 2-декадный срок представить в Политбюро свои соображения о мероприятиях, необходимых в связи с этим в данное время.
Выписки посланы: т. Литвинову; т. Карахану – п. «б»
Протокол № 63 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.9.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 9.
15 сентября вернувшийся из Берлина М.М. Литвинов направил членам Политбюро документ под названием «Экономическое и политическое положение Польши в связи с предложением пакта о неагрессии», подготовленный согласно решению Политбюро от 10 сентября. Проект доклада (записки) был разработан заведующим 1 Западным отделом Н.Я. Райвидом и референтом Б.Н. Николаевым не позднее 14 сентября и направлен членам Коллегии НКИД. Затем документ был изменен и дополнен каждым из ее членов, поскольку «связанная кратким сроком Коллегия не имела возможности коллективно и детально обсудить эту записку». Она состояла из семи разделов («Хозяйственный кризис в Польше», «Финансовые затруднения Польши», «Торговые отношения СССР с Польшей», «Внутриполитическое положение», «Внешняя политика Польши», «Советско-польские отношения» и «Заключение»). В своей записке Литвинов предупреждал, что получить аутентичную информацию о внешнеполитических планах оказалось невозможным. Как бы забывая об особенностях авторитарной системы Пилсудского, предельно сужавшей возможность для иностранных дипломатов узнавать о дискуссиях в правящих кругах и влиять на их исход[874], вину за это обстоятельство Литвинов был склонен возлагать на «наше Полпредство в Варшаве», которое «весьма слабо связано с общественными кругами. Польши, серьезных источников информации не имеет, и поэтому составители записки вынуждены были в политической части оперировать в значительной степени догадками, предположениями, непроверенными дипломатическими слухами и россказнями». «Более серьезно», по мнению наркома, были «обоснованы экономическая и финансовая часть»[875]. Основные тезисы первых четырех разделов состояли в том, что в силу глубины экономического кризиса Польша испытывает растущую нужду в иностранных кредитах, которая «побуждает… польское правительство к «миролюбивым» жестам во внешней политике в целях укрепления доверия иностранного капитала к Польше». СССР является «единственной страной, куда растет польский экспорт», «мы начинаем играть крупную роль во внешней торговле Польши». Однако, несмотря на то, что «в Польше растет заинтересованность в развитии экономических отношений с СССР», «до самого последнего времени польское правительство и промышленные круги скептически относятся к возможности и целесообразности заключения торгового договора с СССР». Внутриполитическое положение было рассмотрено крайне схематично, отчасти это оправдывалось ссылкой на то, что «состояние рабочего и крестьянского движения в Польше должно быть известно Политбюро из материалов более компетентных организаций». По мнению авторов доклада, «углубление экономического кризиса» создавало «угрозу основам буржуазной Польши», что приводило «к смягчению «оппозиции» по отношению к Пилсудскому со стороны н.[ациональных]-де[мо]к[рат]ов, ППС и крестьянских партий». С другой стороны, не вызывало «никакого сомнения», что связанный с кризисом рост симпатий к СССР в рабоче-крестьянских массах, «а также увеличение интереса к СССР со стороны хозяйственных кругов Польши», затрудняют правительству Пилсудского «сохранение вовне прежней агрессивности и враждебности по отношению к СССР и побуждают его к пацифистским жестам и маневрам по нашему адресу».
В разделах, посвященных внешней политике Польше, отмечалось, что «исчерпание локарнского периода германской политики» и хозяйственный кризис привели к обострению польско-немецких отношений, «правительственная пресса выступает против Германии, правительственные круги организуют антигерманские демонстрации». «Однако дальше этих тактических маневров правительство Пилсудского не пошло», оно «заняло выжидательную в дипломатическом отношении позицию», создавая впечатление, что «Польша заинтересована лишь в неприкосновенности польско-германской границы от ревизионистских поползновений германского национализма. Это поведение польской дипломатии по отношению к Германии целиком укладывается в рамки линии Пилсудского, всегда стремившегося к соглашению с Германией против СССР». В этом контексте акция Патека преследовала цель «ликвидации рапалльской политики», что могло бы подготовить сближение Варшавы и Берлина. Кроме того, предложение о пакте ненападения, основанное на принципе «круглого стола», было призвано смягчить польско-румынские разногласия и привести к усилению пошатнувшегося влияния Польши в Прибалтике.
Что касается отношения Польши к Советскому Союзу, то в ее тактике «в последние месяцы» отмечались «некоторые новые моменты» (являющиеся, впрочем, лишь «отражением новой международной обстановки») – примирительный тон заявлений официальных лиц и польской прессы, не изменившийся даже после отповеди Москвы в конце августа. В политических кругах Польши существуют различия по вопросу об отношении к СССР, «было бы, однако, неправильно предполагать», указывалось в записке НКИД, «что внешняя политика Польши может зависеть от отношения к ней тех или иных политических партий», в частности национальных демократов, – «направление внешней политики определяется планами диктатуры Пилсудского». Из окончательного текста доклада исчезло инспирированное сообщениями Антонова-Овсеенко предположение о наличии двух тенденций в «правительственных кругах» по поводу пакта с СССР. Было изменено и жесткое заявление о том, что программа Пилсудского, направленная на отторжение Советской Белоруссии и Советской Украины – при поддержке Франции и благожелательном нейтралитете Германии, – «остается в полной силе». Вместо этого в направленном Политбюро тексте подчеркивалось, что «в пределах правительственного лагеря законом является воля Пилсудского и его ближайшего окружения, по-прежнему стремящихся к осуществлению известных федералистических идей Пилсудского» и потому не имеющих «каких-либо серьезных намерений к улучшению отношений с СССР, в частности, к заключению пакта о ненападении с СССР». Главную причину акции 23 августа и «шумихи» вокруг него авторы доклада усматривали в «стремлении запугать Германию перспективой франко-польско-советского сговора, сводящего на нет все договора Германии с СССР» и привести ее «к осознанию необходимости поворота от СССР». Из этих положений вытекала позитивная оценка опровержений и заявлений, сделанных НКИД в конце августа: «Мы разоблачили легенду о польско-советских переговорах и тем самым успокоили находившуюся в большой тревоге Германию, а также Литву. Тем самым мы сорвали польско-французскую попытку нанести удар советско-германским и отчасти советско-литовским отношениям». Райвид и Николаев предлагали завершить доклад Наркоминдела выводом, в котором был бы учтен обмен мнениями на заседании Политбюро 3(5) сентября, т. е. указать, что залпом августовских разоблачений «осуществлена лишь одна часть нашей внешнеполитической задачи в отношении Польши. Вторая часть должна заключаться в том, чтобы в соответствующее, благоприятное для этого время, выявить нашу готовность к заключению советско-польского пакта о ненападении и тогда окончательно разоблачить антисоветские планы правительства Пилсудского».
В отзыве на проект доклада Н.Н. Крестинский сделал два частных замечания, усиливавших негативную тональность документа, но не возражал против заключительного предложения. Копии проекта были направлены также Стомонякову в Берлин и переданы Литвинову (вероятно, после его возвращения в Москву). Беседы, которые велись в Женеве между наркомом по иностранным делам и руководителями французской дипломатии, утвердили его во мнении, что поиск договоренности с Польшей, по меньшей мере, излишен. Высказывания Массильи «о желательности улучшения наших отношений с Польшей, иначе Франция попадет в трудное положение», Литвинов прокомментировал: «Исполняют какой-то неприятный долг», под «улучшением отношений» «можно понимать избежание полемики». На самом же деле, Польша «попала в неловкое положение даже перед Францией».
Бриан приехал на подготовительную сессию Конференции еще до отъезда Литвинова в Москву, но не обратился к нему с предложением о встрече. «Это доказывает равнодушие его к польским проискам, иначе он пожелал бы поговорить со мной о польско-советских предложениях»[876]. Процитированный выше абзац был снят, и записка приобрела следующее завершение: «Понятно, что наша позиция была бы еще сильнее, если бы мы в наших выступлениях подробно разоблачили те условия, которыми Польша сделала невозможным заключение пакта с СССР. Однако опубликование и критика этих условий в тот момент еще больше бы усилили полемику с Польшей, в которой мы не были заинтересованы»[877]. Таким образом, официальная записка НКИД окончательно приобрела характер апологии его действий, а Политбюро предлагалось ограничиться их полной поддержкой и пересмотреть высказанные под влиянием Сталина критические суждения.
В дополнении к этому документу Литвинов, «ввиду крайней серьезности проблемы польско-советских отношений, затрагивающих основы всей нашей внешней политики», счел «необходимым изложить вкратце свою точку зрения на эту проблему». В первой части составленной в энергичных выражениях записки Литвинова предлагалось признать, что «предпосылкой к обсуждению» отношений с Польшей являются следующие «совершенно бесспорные» положения. «Из Западных государств Германия является не только первой, но и единственной страной, установившей с нами полностью нормальные дипломатические отношения» (п. 1) и проявляет наибольшую заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Советским Союзом (п. 2). Именно «о крепкий утес наших взаимоотношений с Германией» разбивались «попытки создания единого капиталистического фронта против СССР» (п. 3). Ослабление антагонизма между державами Согласия и Германией приводит к утрате этого фактора как важнейшей скрепы рапалльского сотрудничества, но, с другой стороны, «начатая Штреземаном политика сближения с Францией лишает Германию возможности продолжать считать отношения между СССР и Францией серьезным фактором советско-германских отношений», что предоставляет Москве дополнительную свободу маневра. «Иначе обстоит дело со вторым фактором рапалльской акции»: в отношении Польши «Германское правительство твердо отстаивает свой курс непримиримости» и потому «не может не придавать огромнейшего значения отношениям СССР с Польшей». Их «серьезное изменение» «автоматически влечет за собой со стороны Германии отказ от рапалльской политики и изменение, в сущности, советско-германских политических взаимоотношений» (п. 4). Неразрешимость вопроса о долгах и идеологическая антиверсальская установка СССР сильно ограничивают возможности сотрудничества с Францией даже после подписания с нею пакта о ненападении и торгового договора; перспектива прихода к власти в Англии консерваторов фактически исключает сближение с нею; «Италия не захочет оставаться единственной европейской страной, поддерживающей с нами приличные отношения». Литвинов предоставлял высшему руководству СССР возможность самому сделать вывод о том, что утрата Германии в качестве стратегического партнера была бы поэтому невосполнима (п. 5).
Шестой предпосылкой внешнеполитического решения о пакте с Польшей нарком считал положение в Прибалтике. «Серьезнейшей задачей польской политики за последние десять лет является оформление блока с Прибалтийскими странами и создание для себя положения гегемона во всех государствах от Финляндии до Румынии». В результате ее осуществления «и без формального союза, в случае военного столкновения между нами и Польшей, последней рано или поздно придут на помощь Прибалтийские страны»; теперь Польша борется за заключение «общей военной конвенции», которая бы позволила ей «обеспечить себе командующую роль по всей нашей западной границе с самого начала столкновения». «Главным, если не единственным, препятствием в осуществлении такой политико-военной задачи Польши является непримиримость Литвы, – напоминал нарком, – Это упорство Литва может проявлять, только опираясь на СССР и Германию… Достаточно измениться советско-германско-польским отношениям, чтобы не только полонофильские, но и другие партии в Литве почувствовали себя лишенными опоры и вынужденными идти на соглашение с Польшей». Тогда СССР окажется перед лицом «политического или даже военного финско-эстонско-латвийско-литовско-польско-румынского союза», своим острием направленного исключительно против него. В второй части записки М.М. Литвинов напоминал основные факты дискуссий с Польшей о пакте ненападения после прекращения в 1927 г. переговоров на этот счет. Ссылаясь на свои женевские беседы с Брианом и Массильи, он уверял, что советские опровержения конца августа 1931 г. не только успокоили Берлин и Ковно, но не оказали никакого негативного влияния на переговоры СССР с Францией. «Я был поэтому крайне удручен и поражен, когда узнал, что наше опровержение вызвало недовольство в Москве, – переходил в наступление нарком, – <…> мы сорвали польский трюк. И какие основания думать, что наша акция имеет какие-либо отрицательные последствия, если не считать недовольства польской и отчасти французской прессы? Решительно никаких. Не в наших интересах помогать Польше получить иностранные займы, выжимать из Румынии новые уступки или помогать германской социал-демократии, толкающей Германию на дальнейшее сближение с Францией и Польшей. Именно поэтому НКИД и раньше опровергал неоднократно вздорные польские слухи о переговорах без всяких возражений с чьей бы то ни было стороны. Непонятно, почему на этот раз опровержение признается неправильным поступком».
Резюмирующая часть послания Литвинова Политбюро была посвящена возможным будущим акциям СССР. Их перспектива рассматривалась главным образом в контексте отношений с Францией. Еще более категорично, чем Крестинский, Литвинов заявлял, что «ни в коем случае Польша не может быть причиной срыва переговоров и неподписания пакта с Францией», однако тут же признавал, что «она может нажать на Францию, чтобы та потребовала от нас одновременного заключения пакта с Польшей». «Если мы уже решились на пакт с Польшей…» – начал следующую фразу Литвинов и, спохватившись, исправил форму глагола на «решимся». Допуская, что выводы Политбюро относительно вступления в переговоры с Варшавой о договоре ненападения уже предрешены, он предлагал в том случае «сделать это в качестве уступки Франции». Сам он предпочитал («в случае надобности») сделать аналогичную «уступку Франции в области наших отношений с Румынией», а не с Польшей. В любом случае, «мы должны, однако, ждать соответствующих предложений от Франции». Нарком не видел и «необходимости предпринимать какие бы то ни было шаги» и по отношению к Польше. Он отказывался принимать всерьез вручение Патеком проекта пакта и утверждал даже, что поскольку «ни один представитель Польши не говорил нигде публично о том, что польское правительство нам сделало предложение и что оно хочет возобновить переговоры», сообщения об этом агентства ПАТ следует отнести на счет «безответственной польской прессы». «Может быть, – примирительно заканчивал записку Литвинов, – в результате всестороннего рассмотрения вопроса мы придем к заключению о необходимости пожертвовать другими соображениями в пользу пакта, но, повторяю, сейчас этот вопрос перед нами не стоит… Переговоры с французами возобновятся не раньше октября, и, таким образом, у нас будет достаточно времени для обдумывания всей проблемы. Конкретные решения я предлагаю обсудить и принять только тогда, когда вопрос встанет перед нами конкретно»[878].
Сознавая, что его аргументация во многом следовала общепризнанным принципам советской внешней политики и «ввиду серьезности вопроса» Литвинов предлагал вместо того, чтобы обсуждать его «в качестве одного из многочисленных пунктов повестки и с соблюдением регламента», посвятить ему «специальное заседание Политбюро»[879]. Это предложение не было принято. Возможно, однако, что заседание проходило необычно, в любом случае, на нем разыгралась серьезная полемика. Выступая на Политбюро Литвинов отстаивал выводы записки от 15 сентября ссылкой на свою большую осведомленность о поведении основных участников международной политики. «Я знаю лучше, а Вы здесь ничего не знаете», – заявил нарком (согласно записи Карахана). В своем выступлении Литвинов напирал на то, что ни французские дипломаты, ни Залеский (с которым он беседовал в начале сентября) не проявили своей заинтересованности в начале переговоров о советско-польском пакте. Франция «не раскрывает карты». С другой стороны, Литвинов акцентировал опасность отчуждения Германии от СССР формулой: «пакт с Польшей – гарантия границ», включая признание Москвой польско-немецкой границы. «Мы должны дать ответ», соглашался Литвинов, но «пока Франция не скажет» (т. е. не выскажется категорично об увязке парафированного франко-советского пакта и советско-польского пакта ненападения»), «мы не должны»[880]. Наркому оппонировал его заместитель Л.М. Карахан, основные возражения которого состояли в следующем. «Фр[анция] Польшу не бросит», и для заключения пакта с Парижем СССР придется, как минимум, пойти на «признание переговоров и ведение переговоров» с Польшей. Вся польская политическая элита едина «в вопросе о пакте», национальные демократы («Газета Варшавска») поддерживают позицию правительства. Поляки ставят вопрос ребром: «Россия должна выбирать» – «либо с Фр[анцией] и Польшей, или с Германией». Карахан, долгое время принадлежавший к чичеринской группе, не был склонен сбрасывать со счетов опасность разрыва советско-германского политического сотрудничества, но протестовал против того, чтобы сводить «всю внешнюю политику» «к одному «узлу» [ – ] Германии – она якорь спасения СССР, все должно быть подчинено этому “узлу”». «Неверно. Германия – лишь один из главных утесов… Л[итвинов] переоценивает значение Г[ермании] и не учитывает или недооценивает значение других факторов». «Л[итвинов] сводит все к отношениям Германии к Польше», утверждая, что «Германия может примириться с Францией, она может примириться с урегулированием наших отношений с Фр[анцией], но с Польшей никогда. Он забывает, что польский вопрос есть французский вопрос. Коридор разве это только польский вопрос, это в большей степени французский вопрос». Карахан соглашался с Литвиновым, что «игра», которую ведут Париж и Варшава «неясная», даже «двойная», но все же это «одна и та же игра, только ходят разными картами» и расчет на франко-польские разногласия иллюзорен. Поэтому необходимо направить Польше меморандум, цель которого – «не заключение пакта и не на условиях Польши», а во-первых, «планомерно подчеркнуть политику мира (ибо наш ушат холодной войны – против нашей пацифистской позиции, которая не исключает Польшу», и, во-вторых, заставить французов и поляков «раскрыть карты», «помочь выяснению позиций и успокоить»[881]. Позицию, которую занял в дискуссии на Политбюро Н.Н. Крестинский, выяснить не удалось; вероятно, она находилась в пределах, намеченных выступлениями Литвинова и Карахана. Отвергнув «установку т. Литвинова», Политбюро пошло и значительно дальше предложений Карахана. Ссылка на «прежние решения Политбюро» адресовала к принятому четырьмя года ранее постановлению «поручить НКИД в переговорах с Польшей исходить из необходимости доведения их до успешного конца»[882]. Тем самым Наркоминдел был ориентирован при подготовке своих соображений руководствоваться второй частью того же постановления – «начать переговоры с тех пунктов, по отношению к которым имеется наибольшая вероятность достигнуть соглашения». Таким образом, вопреки позиции Наркоминдела и под влиянием настояний Сталина, Политбюро фактически предрешило вступление СССР в переговоры с Польшей для заключения пакта.
Изученные материалы не содержат никаких свидетельств о том, что на принятие этого решения оказали воздействия сообщения о маньчжурском инциденте 18 сентября, положившего начало длительному военно-политическому конфликту вблизи восточных границ СССР (в частности, курировавший отношения с Японией и Китаем Л.М. Карахан не воспользовался ссылкой на появление новой потенциальной угрозы, хотя в поисках аргументов достигал столь отдаленных сюжетов, как возможность влияния О. Чемберлена на политику правительства Дж. Р. Макдональда). Решение Политбюро от 20 сентября явилось, по всей вероятности, результатом естественной эволюции позиции советского руководства, предшествующие этапы которого отразились в резолюциях Политбюро от 30 августа, 3(5) и 10 сентября 1931 г.
На разрешение Политбюро («отдельно от общего вопроса о Польше») Коллегия НКИД представила также предложение Антонова-Овсеенко отреагировать на попытку газеты «Kurier Polski» в связи с полемикой с агентством Гавас возложить на советского полпреда ответственность за недоразумения с инициативой пакта в конце 1930 – начале 1931 гг. Антонов-Овсеенко полагал, что выступление «Курьера Польского» инспирировано МИД и просил «предпринять какую-нибудь акцию против этих действий Польши, вплоть до официального представления польскому правительству». При обсуждении в Коллегии Стомоняков предложил сделать такое представление (через поверенного в делах Польши в Москве), против чего возражал Карахан, а Литвинов считал правильным избрать средний путь и прокомментировать в «Известиях» женевскую корреспонденцию «Курьера Польского», «чтобы лишить польское правительство возможности ссылаться на тов. Антонова-Овсеенко»[883]. В протоколе Политбюро постановление по поставленному НКИД вопросу отсутствует; вероятно, спор между членами Коллегии был разрешен иным путем.
20 сентября 1931 г.
Решение Политбюро
5. – О Финляндии (ПБ от 3.IX.-31 г., пр. № 60, п. 34/15). Согласиться на обмен установленными сведениями о вооружениях с Финляндией.
Выписки посланы: т. Литвинову, т. Крестинскому, т. Ворошилову.
Протокол № 63 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.9.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 9.
Впервые вопрос об обмене сведениями о вооружениях с Хельсинки был внесен в Политбюро 3 сентября 1931 г.[884] Предложение о двустороннем обмене сведениями, которые подлежали представлению Конференции по разоружению, было неофициально высказано финской стороной в конце августа. Официально оно было сделано 25 сентября, после того, как стало известно о принципиальном согласии на это советского правительства. 1 октября 1931 г. (дата была предложена МИД Финляндии) временный поверенный в делах Финляндии в СССР Р. Хаккарайнен и заведующий 1 Западным отделом НКИД Н.Я. Райвид обменялись сведениями о количественном составе вооруженных сил мирного времени.
26 сентября 1931 г.
Опросом членов Политбюро
8/6. – Об импорте из Латвии.
Предложить Валютной комиссии в трехдневный срок рассмотреть во всем объеме вопрос импорта из Латвии в 1931 г.
Выписки посланы: т.т. Рудзутаку, Розенгольцу.
Протокол № 65 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 26.9.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д 11.. Л. 16.
Хотя Политбюро отказалось двумя неделями ранее санкционировать денонсацию советско-латвийского торгового договора[885], ситуация в торговле с Латвией не могла его устраивать: значительное отрицательное сальдо при дефиците свободных валютных средств побуждало к принятию мер по сокращению импорта из этого прибалтийского государства. Возможно, именно вопросы сокращения импорта и были в центре внимания Валютной комиссии, поскольку на состоявшемся месяц спустя заседании Политбюро при обсуждении этого вопроса было решено не идти на дальнейшие валютные жертвы[886].
30 сентября 1931 г.
Решение Политбюро
11. – Об измышлениях рижской и финской печати (т. Литвинов).
а) Официального опровержения не давать.
б) Дать заметку в «Известиях» с приведением телеграмм и кратким комментарием, высмеивающим сообщения о моратории. Поручить тт. Литвинову и Калмановичу просмотреть проект заметки.
в) Предложить ТАСС’у эту заметку перепечатать для сообщения за границу.
Выписки посланы: т.т. Донецкому, Литвинову, Калмановичу.
Протокол № 66 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.9.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 1.
В конце сентября 1931 г. в латвийской и финской печати появились сообщения о том, что Советский Союз намерен объявить мораторий по оплате кредитов и об отказе советских хозяйственных организаций в течение года платить по своим векселям. На фоне лавины сообщений об углублении финансового кризиса в Европе, САСШ и Японии о введении некоторыми странами моратория по финансовым обязательствам эта информация выглядела правдоподобной, тем более что ограниченность валютных ресурсов СССР была общеизвестна. Сообщения о советском моратории грозили затруднить получение кредитов, несмотря на то, что Москва всегда стремилась пунктуально выполнять финансовые обязательства. По всей вероятности, сообщения латвийской и финской печати были полным вымыслом.
Реакция Политбюро была стремительной (первые сообщения в латвийской прессе появились 29 сентября). На следующий день после решения Политбюро «Известия» поместили сообщение об измышлениях зарубежной печати, сопроводив его кратким пояснением, в котором они объяснялись тем, что сопоставление разлагающегося капитализма с победами социалистического строительства становится для антисоветских кругов слишком убедительным и опасным[887].
В латвийской прессе первые опровержения информации о неплатежеспособности СССР появились 2 октября 1931 г. (полпредство в Риге располагало каналами для продвижения такого рода материалов в некоторых латвийских изданиях). Тем не менее, через месяц сообщения о введении СССР моратория и отмене золотого стандарта появились на страницах германской прессы («Deutsche Algemeine Zeitung» и др.), которая связывала ожидаемое изменение финансовой политики СССР с неблагополучием шведского концерна И. Крейгера[888]. 25 октября Политбюро признало нецелесообразными выступления советских представителей за границей с опровержениями заявлений о неплатежеспособности СССР, но вместе с тем предписывало опубликовать в «Известиях» статью на этот счет[889].
10 октября 1931 г.
Решение Политбюро
5. – О Польше (ПБ от 20.IX.-31 г., пр. № 63, п. 3) (т.т. Карахан, Литвинов, Крестинский).
а) Признать целесообразным одновременное обращение НКИД как к Бертело, в ответ на его запрос, так и к полякам.
б) Поручить т. Литвинову составить проект заявления и согласовать его с т.т. Молотовым и Сталиным.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Карахану, Молотову, Сталину.
Протокол № 68 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.10.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 23.
23 сентября, вскоре после решения Политбюро, поручавшего НКИД к 10 октября предложить шаги, позволяющие добиться заключения советско-польского пакта о ненападении, генеральный секретарь МИД Франции Ф. Вертело сообщил полпреду В.С. Довгалевскому о том, что заключение такого пакта должно «предшествовать или сопутствовать» подписанию аналогичного франко-советского договора[890]. Получив это сообщение, Политбюро 30 сентября «поручило НКИД выяснить дополнительно положение с пактом и внести к следующему заседанию Политбюро свои предложения по вопросу о дальнейших шагах»[891]. 5 октября Бертело повторил заявление «о желательности предварительного заключения польско-советского пакта и рассказал, что виделся с Залеским, которому и Бриан и он сделали заявление о желательности заключения польско-советского пакта в редакции, аналогичной франко-советской»[892]. «Последнее заявление Бертело тов. Довгалевскому, – писал Литвинов Секретарю ЦК ВКП(б), – несомненно нарушает имевшуюся договоренность о несвязывании подписания пакта какими бы то ни было условиями. Правда, несмотря на эту формальную договоренность, Бертело и раньше говорил тов. Довгалевскому, а Массигльи – мне в Женеве, что пакт не будет подписан до выяснения исхода переговоров по размещению наших заказов во Франции. Теперь, однако, Бертело выставил совершенно новое условие об одновременном и предварительном подписании советско-польского пакта или хотя бы получении уверенности в шансах подписания его».
Учитывая разногласия, обнаружившиеся в конце августа-сентября 1931 г. между НКИД и Политбюро, в записке членам высшего руководства Литвинов дипломатично уклонился от попытки определить «точную причину предъявления этого нового условия»[893]. Сам нарком полагал, что официальная позиция Франции была изменена главным образом вследствие «нажима, произведенного поляками, когда они узнали о парафировании пакта» СССР и Франции. Он продолжал считать, что Польша на деле стремится не к заключению договора с СССР, а «скорее всего… хотела бы впутать нас в переговоры, максимально затягивать их и таким путем оттянуть или засаботировать подписание советско-французского пакта». Предостерегая Антонова-Овсеенко против проявления инициативы и подчеркивая, что «решения о вступлении в переговоры с Польшей» «у нас пока нет» «и оно не скоро будет принято», нарком уже в конце сентября предсказывал: «Возможно, что будет признано предпочтительным придать переговорам с Польшей характер нашей уступки Франции. Такая постановка вопроса имеет… и ту выгоду, что Франция не сможет заставить нас принять навязываемые нам Польшей условия, которых от нас и сама Франция не требовала»[894]. Для подготовки такого выхода из возникших осложнений еще до рассмотрения вопроса в Политбюро советская дипломатия «заявила французскому правительству о нашем согласии» на подписание с Польшей договора, аналогичного советско-французскому пакту ненападения[895]. В НКИД началась разработка нового проекта договора о ненападении с Польшей. Его первый вариант был составлен 3 октября «на основе нашего проекта 1926 г., с учетом переговоров 27 г. и фр[анко]-сов[етского] пакта», второй (после обсуждения членами Коллегии и «на основе парафированного франко-советского пакта») – 10 октября[896]. На заседании Коллегии НКИД (состоявшемся, вероятно, 8 октября) обсуждались два варианта дипломатических действий. При определении позиции СССР Литвинов предлагал руководствоваться необходимостью «максимально сократить неизбежную оттяжку заключения франко-советского пакта», и действовать таким образом, чтобы «ответственность за дальнейшие оттяжки не могла приписываться нам». «Если, однако, исходить из безусловной желательности пакта с Польшей, – делал нарком уступку возобладавшему в Политбюро мнению, – то можно считать французское вмешательство фактором положительным». Оба рассуждения приводили Литвинова к предложению «заявить Бертело, что мы ожидаем теперь от Польши официального и формального подтверждения приемлемости для нее текста советско-французского пакта, в результате чего польско-советский пакт мог бы быть скорейшим образом подписан… Такая тактика имеет то преимущество, что Польша будет вынуждена либо сразу раскрыть свои карты, либо оттягивать свой ответ не нам, а самой Франции. Этот путь наиболее убедительным образом докажет и Франции и всеми миру, кто является виновником односторонней оттяжки и саботажа». Лишь нехотя («если этот путь отвергается») нарком соглашался с возможностью приглашения в НКИД посланника Патека или временного поверенного в делах Зелезинского и, «сославшись на переданное нам заявление Бертело о приемлемости для Польши текста советско-французского пакта, просить скорейшего официального подтверждения этого заявления, изъявив с нашей стороны согласие на подписание такого пакта»[897]. По всей вероятности, с таким подходом солидаризировался и Н.Н. Крестинский. Третий участник заседания Коллегии Л.М. Карахан, «отстаивавший наше непосредственное обращение к Польше и возражавший против первого варианта», оказался в меньшинстве и обратился к членам Политбюро с краткой запиской, в которой были оспорены аргументы Литвинова. Подобно Литвинову Карахан был уверен в тесной зависимости польской политики в отношении СССР от позиции Парижа, однако с большим недоверием оценивал роль Франции в переговорах о пактах ненападения: «Действовать через Францию… это не прямой и не отчетливый путь. Он облегчит полякам и французам их игру, даст лучшую возможность для всяческих затяжек с их стороны, тогда как «делая прямое предложение» Польше, СССР может «сгладить впечатление от отпора, который мы дали полякам после вручения Патеком польского проекта пакта», «припереть поляков к стенке и укрепить нашу позицию в отношении Франции». Если Литвинов предлагал в случае обращения к Польше, «во избежание всяческих искажений», вручить Патеку или Зелезинскому письменное заявление, то его заместитель настаивал, что информировать французов о советском демарше также следует в письменной форме, «чтобы затруднить им дальнейшее вранье»[898]. Во всяком случае, в руководстве НКИД не испытывали сомнений в необходимости дать утвердительный ответ французскому правительству. «Решением» Политбюро «О Франции» от 10 октября «предложение НКИД» было принято[899].
Постановление Политбюро придало решению (фактически принятому еще до 10 октября) о вступлении в переговоры о пакте с Польшей характер «уступки Франции», как и предлагалось Литвиновым. Судя по имеющимся документам, вопреки формулировке Политбюро, ни с каким «запросом» к Москве генеральный секретарь МИД Франции не обращался. Спору между Литвиновым и Караханом было найдено соломоново решение в форме «одновременного обращения» к французским и польским дипломатам. Политбюро согласилось с мнением наркома о нецелесообразности официального вручения польской миссии парафированного текста советско-французского пакта в качестве нового проекта советско-польского договора о ненападении. Статья 1 пакта с Францией упоминала о подмандатных территориях и колониях, а статья 4 ссылалась на «совокупность территорий, определенных в 1-й статье», что, замечал Литвинов, «либо к Польше не может быть применимо, либо же может быть воспринято как гарантирование польского коридора и протектората над Данцигом, т. е. как подтверждение Версальского договора». «Если мы, однако, внесем хоть малейшие поправки, – опасался он, – это даст повод Польше со своей стороны вносить поправки и таким образом вновь проявить свое мастерство в бесконечном затягивании переговоров»[900]. Поэтому документальное сопровождение советского демарша было ограничено кратким письменным заявлением.
Текст заявления СССР в адрес Польши и Франции был согласован Литвиновым с Молотовым и Сталиным не ранее вечера 13 октября и датирован 14 октября. Беседам Довгалевского и Залеского с руководителями французской дипломатии в нем придавался статус фактической договоренности о том, что возможные польско-советские переговоры следует вести на основе парафированного текста пакта СССР и Франции. В заявлении подтверждалась «готовность Советского Правительства к подписанию такого пакта» и содержалась просьба сообщить, «готово ли Польское Правительство… подписать такой же пакт о ненападении». 14 октября Литвинов передал это заявление временному поверенному в делах Польши в СССР А. Зелезинскому и поручил Довгалевскому сообщить его генеральному секретарю МИД, «объяснив, что ввиду интереса, проявленного французским правительством, и в интересах скорейшего разрешения вопроса, Вы обращаетесь и за содействием к Бертело»[901].
Комментируя мотивы и ожидаемый эффект Заявления 14 октября, М.М. Литвинов и Б.С. Стомоняков, отмечали, что оно «передает инициативу дальнейшего развития вопроса о гарантийном пакте с Польшей опять в наши руки и парализует тем самым дальнейшие попытки польского правительства создавать шумиху вокруг патековского «предложения» от 23 августа. Этим заявлением мы заставим, несомненно, поляков раскрыть свои карты и спутаем их игру, направленную к срыву нашего пакта с Францией». Руководители НКИД подчеркивали конфиденциальный характер Заявления; НКИД воздержался от информирования о нем немцев – «в надежде на то, что поляки, наученные горьким опытом, не поспешат на этот раз протрубить о новых переговорах»[902].
10 октября 1931 г.
Решение Политбюро
6. – О Литве (т.т. Карахан, Литвинов).
Отложить на месяц.
Протокол № 68 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.10.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 2.
Материалы к решениям Политбюро «О Литве» в октябре-ноябре 1931 г. получить не удалось. Предположительно, Караханом и Литвиновым были выдвинуты предложения об укреплении военно-политических связей между СССР и Литвой. Этот вопрос приобрел актуальность к началу осени 1931 г., и, судя по доступным материалам, при его обсуждении наркомат по иностранным делам и его представитель в Ковно занимали активную позицию в пользу такого сотрудничества[903].
В связи с урегулированием положения торгпредства в Литве[904], военный министр Б. Гедрайтис в середине 1931 г. обратился к полпреду Карскому с запросом о возможности закупки артиллерии для литовской армии. Этот запрос был передан в наркомат по военным и морским делам, который дал задание советскому военному атташе Д.А. Реутскому, не вступая в официальные переговоры, «при благоприятном случае» «спросить Гедрайтиса, что именно они хотели бы у нас купить, в каком количестве и какие условия покупки они хотят выставить». Реутский считал, что заключение соглашения о поставках артиллерийского имущества во всех отношениях было бы выгодно Москве: Литва окажется «в большой зависимости от нас в питании снарядами, в ремонте орудий и пр.», сближение с «группой полковников», игравшей важную роль в политической жизни страны позволит СССР «одновременно значительно усилить свое политическое влияние». В международном контексте такое соглашение с СССР помогло бы ослабить зависимость Литвы от Германии. Главный аргумент военного атташе состоял в том, чтобы использовать возможность «удержать Литву на антипольских позициях до войны» и тогда «литовская армия сможет оказать нам кое-какую помощь»[905].
Если содержание вопроса «О Литве» действительно состояло в предложениях по развитию военно-политического сотрудничества, то мотивы проявленной НКИД инициативы и ее фактического отклонения Политбюро могли отражать коллизию, сложившуюся при обсуждении проблемы заключения пакта о ненападении с Польшей[906]. По истечении месяца Л.М. Карахан на заседании Политбюро вторично доложил вопрос «О Литве». Принятое постановление гласило: «Отложить на год»[907]. В конце декабря 1931 г. посланник Ю. Балтрушайтис поинтересовался в беседе с М.М. Литвиновым о том, решен ли положительно вопрос о поставках оружия литовской армии. Нарком ответил, что вопрос изучается, ответа от военного ведомства еще нет, но при этом также заметил, что время для таких поставок нельзя считать благоприятным, поскольку Москву, которая ведет переговоры о пакте ненападения, могут обвинить в двурушничестве[908]. Вопрос о поставках советского оружия в Литву вновь стал предметом активно обсуждения осенью 1933 г.
20 октября 1931 г.
10. – О Латвии (т.т. Литвинов, Стомоняков, Карахан, Розенгольц).
а) договор не денонсировать
б) при выполнении договора учесть состоявшийся обмен мнений.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Стомонякову.
Протокол № 70 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.10.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 30.
В середине сентября, рассматривая предложение о денонсации торгового договора с Латвией, Политбюро вынесло решение о снятии вопроса с повестки дня[909]. В его повторном обсуждении 20 октября участвовали как нарком иностранных дел, так и нарком внешней торговли. Позиция внешнеторгового ведомства в отношении договора с Латвией была изложена в официальном органе НКВТ. Перечислив негативные моменты в развитии торговых связей с Ригой (изменение в 1928 г. таможенных ставок латвийского импорта, приведшее к уравниванию позиций СССР с другими странами; издание в 1930 г. закона о регулировании хлебного рынка, вызвавшее сокращение ввоза в Латвию советского хлеба; высокое активное сальдо Латвии в двусторонней торговле и т. д.), автор «Внешней торговли» заключал: «Торговый договор является исключительно выгодным для Латвии. Приходится удивляться поэтому, почему в латвийской прессе и ныне проводится кампания против этого договора… советские хозяйственные организации имеют гораздо больше оснований выступать против сложившегося положения»[910]. Вероятно, важным аргументом против денонсации явилась заинтересованность Москвы в том, чтобы не вносить дополнительных осложнений в отношения с Латвией в преддверии переговоров с нею (и другими государствами восточной Балтии) о заключении пакта ненападения. Существо «обмена мнений» на Политбюро, согласно доверительному сообщению Стомонякова в Ригу состояло в следующем: «Признано нецелесообразным идти на дальнейшие валютные жертвы… Пока что это означает, что за четвертый год действия торгового договора не будет совсем выдано дальнейших заказов»[911].
20 октября 1931 г.
16. – О польском консуле в Тифлисе (т. Литвинов).
Предложить НКИД немедля сделать отвод Полю.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 70 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.10.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 31.
Вопрос был передан на усмотрение Политбюро в связи с обращением к М.М. Литвинову временного поверенного в делах Польши в СССР Адама Зелезинского шестью днями ранее. 16 июля 1931 г. МИД Польши сообщило полпредству в Варшаве об отзыве тогдашнего генерального консула в Тифлисе и назначении вместо него Поля (с 1 сентября). Однако представительство СССР позабыло переслать в Москву июльскую ноту МИД Польши. По свидетельству Стомонякова, именно «благодаря этому упущению полпредства из-за сравнительно пустякового вопроса получился конфликт с поляками»[912]. 2 сентября на основании месячной визы новый генконсул прибыл в Тифлис и в ожидании официальной аккредитации нанес визит уполномоченному НКИД при СНК ЗСФСР Устинову. В начале октября в продлении визы Полю было отказано, а в 1 Западном отделе не приняли его «патент», сославшись на «возможные возражения со стороны Закавказской федерации»[913].
Мотивы отвода кандидатуры Поля со стороны советских ведомств, с которыми согласилось Политбюро, установить не удалось; возможно, новому генконсулу были поставлены в вину связи с грузинской политической эмиграцией в Польше. 23 октября советнику польской миссии в Москве было заявлено, что правительство ЗСФСР на просьбу наркома Литвинова согласиться с назначением Поля ответило «решительным отказом»[914].
20 ноября 1931 г.
6. – О Польше (т.т. Литвинов, Крестинский, Карахан).
а) Предложить т. Литвинову сегодня же, или, в крайнем случае, завтра, начать формальные переговоры с Патеком о заключении пакта ненападения, исходя согласно предложению Патека из старого советского проекта пакта.
б) Предложить т. Литвинову завтра же составить проект интервью или сообщения в печати о советско-польских переговорах.
в) Предрешить вручение т. Довгалевским меморандума Бертело или Бриану с изложением всего хода переговоров о пакте, включая «недоразумения» в заявлениях Бертело и Залесского; запросить об этом т. Довгалевского.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 76 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.11.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 64.
После передачи советнику польской миссии А. Зелезинскому запроса о готовности правительства Польши подписать пакт о ненападении с СССР, текст которого был бы аналогичен советско-французскому[915], в двусторонних дипломатических контактах наступила месячная пауза. 14 ноября 1931 г. посланник Польши С. Патек сообщил Литвинову о позиции своего правительства. Согласно польской интерпретации, министр иностранных дел Залеский никогда не высказывал представителям Франции мнения о приемлемости текста советско-французского договора для пакта Польши с СССР, а лишь заявил об отсутствии у него возражений против договора между Парижем и Москвой. С. Патек заявил, что «его правительство не считает подходящим для Польши советско-французский пакт» и предлагает «вернуться к (советскому) проекту пакта 1926 г. с дополнениями, сделанными им в документе, врученном т. Карахану». 15 и 16 ноября Литвинов и Патек продолжили согласование позиций[916]. «Удержался польский проект», – докладывал посланник в Варшаву[917]. Член Коллегии НКИД Стомоняков также счел наиболее существенным намерение польской стороны следовать позиции, изложенной в проекте от 23 августа 1931 г., а также отказ от упоминания в тексте договора строгой увязки (юнктима) между советскими пактами с Польшей, балтийскими государствами и Румынией. Руководство НКИД решило обсудить «ситуацию, сложившуюся в связи с этими новыми заявлениями Патека», на заседании Коллегии 18 ноября с участием Антонова-Овсеенко, чтобы наметить «предложения для внесения на утверждение правительства», т. е. Политбюро[918]. Запись бесед 14–16 ноября были направлены И.В. Сталину.
Неясно, в силу каких факторов в резолюции Политбюро произошло искажение польской позиции (приписывание Патеку готовности вести переговоры на основе советского проекта). Возможно, оно было вызвано желанием НКИД или самого Политбюро «сохранить лицо», сделав вид, что переговоры начаты на советских условиях. Несмотря на фразеологию, использованную в постановлении ПБ (и, отчасти, в протоколах переговоров), Политбюро по существу согласилось вести их на условиях, близких к тем, какие были предложены Польшей 23 августа 1931 г. Не позднее 25 ноября Наркоминдел направил членам и кандидатам в члены Политбюро (кроме С.М. Кирова и украинских руководителей – С.В. Косиора, Г.И. Петровского, В.Я. Чубаря), а также Андрееву, Постышеву, Ярославскому и Менжинскому «Сравнительную таблицу нашего проекта пакта 1926 года и польского проекта пакта 1931 г.»[919].
На разочарование советского руководства по этому поводу косвенно указывает и намерение направить МИД Франции меморандум, который бы зафиксировал отход Польши, а затем и Франции, от якобы обещанного ими ведения польско-советских переговоров на базе франко-советского пакта. 17 и 20 ноября по указанию НКИД полпред Довгалевский поднимал этот вопрос в беседах с Ф. Бертело, рассчитывая, что в качестве компенсации за вызванное французским посредничеством «недоразумение», Париж заставит поляков отказаться от «припутывания лимитрофов» (т. е. тесной увязки советско-польского переговоров с заключением договоров ненападения между СССР и остальными западными соседями). Вероятно, уже после заседания Политбюро 20 ноября в Москву пришло сообщение В.С.Довгалевского о том, что его настояния получить заверения Бертело на этот счет «не только не увенчались успехом, но и вызвали с его стороны даже некоторое раздражение»[920]. Очевидно, в связи с неприязненной реакцией МИД на советские усилия, «предрешенное» Политбюро «вручение меморандума Бриану или Бертело» не было осуществлено.
Извещение о начале советско-польских переговоров последовало в виде «Сообщения ТАСС», опубликованного в «Известиях» 22 ноября 1931 г. В нем сообщалось, что накануне нарком Литвинов принял посланника Патека и заявил ему о согласии Советского Правительства возобновить переговоры «на основе (советского проекта) пакта 1926 г.»
23 ноября Литвинов, Стомоняков и Патек провели первое заседание по выработке согласованного текста договора о ненападении[921]. Всего было проведено шесть официальных и одно неофициальное заседание (23 ноября – 17 декабря 1931 г.). Для руководства переговорами по инициативе наркома по иностранным делам Политбюро образовало «комиссию по советско-польским делам», в которую вошли Сталин, Молотов, Литвинов и Стомоняков[922].
20 ноября 1931 г.
14. – О концессиях (тт. Куйбышев, Каменев).
Принять предложение комиссии т. Куйбышева по вопросу о ликвидации концессий «Ченстоховская фабрика», «Ян Серковский», «Скоу Кельдсен».
Выписки посланы: т.т. Каменеву, Куйбышеву, Элиаве.
Протокол № 76 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.11.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 65.
Полномочия и сроки работы комиссии Политбюро под председательством В.В. Куйбышева установить не удалось. Повторное решение о закрытии металлообрабатывающего предприятия «Ян Серковский»[923] и о прекращении деятельности другой значительной польской концессии «Ченстоховская фабрика» были проведены в жизнь, что завершило начатый в 1929 г. процесс ликвидации польских фирм в СССР.
4 декабря 1931 г.
Опросом членов Политбюро
38/8. – О ввозе нефти в Эстонию.
а) разрешить Наркомвнешторгу договориться с эстонским правительством о предоставлении Союзнефтеэкспорту монополии на ввоз в Эстонию нефтепродуктов в 1932 г., согласившись в качестве компенсации на закупку в Эстонии сельскохозяйственных продуктов на сумму до 40 % стоимости годовой поставки нефтепродуктов (но не свыше 400 тыс. руб.)
б) о номенклатуре закупаемых сельскохозяйственных продуктов Наркомвнешторгу договориться с Наркомснабом.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Микояну.
Протокол № 79 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 8.12.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 83–84.
В конце 20-х – начале 30-х гг. советское правительство рассматривало экспорт нефтепродуктов как один из важных источников поступления валютных средств, прибегая при этом фактически к тем же способам продвижения этой статьи экспорта на европейский рынок, которые использовались при наращивании экспорта лесоматериалов. На 1931 г. советское экспортное объединение «Союзнефть» планировало завоевать 65 % рынка нефтепродуктов в Эстонии. Его главными конкурентами являлись «Ройял Датч Шелл» и «Стандард Ойл», предложившие своему сопернику довольствоваться уровнем продаж 1930 г., т. е. 42 % рынка бензина (2500 тонн). В ответ «Союзнефть» выразила согласие на закрепление за ней половины эстонского рынка[924]. Ситуацию усугубила неуклюжая тактика советского объединения в переговорах с эстонскими оптовыми покупателями. В отличие от конкурентов, «Союзнефть» не располагала разветвленной системой сбыта собственной продукции, и ее зависимость от эстонских посредников (особенно от влиятельного коммерсанта Й. Пухка) была почти абсолютной. В апреле 1931 г. правление объединения дезавуировало соглашение, достигнутое на переговорах с Пухком, посчитав его не выгодным для себя. Руководство «Союзнефти» не учло, однако, углубления экономического кризиса в Эстонии, повлекшего за собой не только падение цен на бензин, но и резкое сокращение объемов его реализации. К тому же разрыв с посредниками вынудил заняться розничной продажей. Помимо незапланированных затрат подобное решение повлекло за собой угрозу со стороны эстонских коммерсантов возбудить уголовное преследование против «Союзнефти» и торгпредства, поскольку при заключении советско-эстонского торгового договора советская сторона официально заявила, что заниматься розничной торговлей советские экспортные организации не будут. Согласись «Союзнефть» к лету 1931 г. на новые условия своих контрагентов, ей удалось бы продать не 3000 тонн бензина, а лишь 1700. Ф.Ф. Раскольников справедливо оценивал развитие ситуации как «from bad to worse». В конечном итоге «Союзнефть» была вынуждена пойти на соглашение с Пухком, который, учитывая сложное положение советского экспортного объединения, нарушил ряд своих обязательств и отказался выплатить и неустойку в 4000 долларов. От подачи иска в суд «Союзнефть» воздержалась, поскольку ее представитель в Эстонии также допустил ряд нарушений соглашения[925]. Надежда на изменение ситуации появилась у «Союзнефти» лишь после того, как министр народного хозяйства Эстонии Сельтер, обеспокоенный развитием аграрного кризиса, предложил предоставить СССР нефтяную монополию при условии, что 75 % выручки за проданный в Эстонии бензин и керосин советская сторона будет расходовать на закупку сельскохозяйственных продуктов[926].
Сообщение об этом плане в 1 Западном отделе НКИД было воспринято с сомнением: «Рынок [нефтепродуктов в Эстонии. – Авт.] уже не так важен, а валюта нужна». Вероятно, это обстоятельство явилось решающим при формулировании Наркомвнешторгом встречного предложения и принятия Политбюро постановления ограничить закупки эстонских сельскохозяйственных продуктов 40 % средств, полученных от реализации нефтепродуктов. Принятое решение соответствовало общим директивам советского политического руководства, ориентировавшим внешнеторговые организации на получение дополнительной валютной выручки.
В подготовке этого решения принял участие вызванный в Москву торгпред СССР в Эстонии Г.К. Клингер. На него НКВТ возложил ведение переговоров с эстонцами по проблемам двусторонней торговли. В Таллин он вернулся в конце декабря, причем выдвинутые им контрпредложения несколько ужесточали условия, определенные в постановлении Политбюро. Эстонскую делегацию на переговорах возглавил представитель МИД Вирго. По сведениям финского посланника в Таллине, на переговорах с эстонской делегацией русские заявили о желании получить монополию на нефтепродукты, соглашаясь в обмен покупать на 25–35 % от вырученных сумм сельскохозяйственные продукты для Ленинграда. Поскольку при получении монополии русские стали бы продавать нефть по цене на 25–35 % выше сложившейся на эстонском рынке, выгоды от такого соглашения для Эстонии сводились к нулю. Поэтому советское предложение не нашло поддержки в правительстве, и русским был предложен контингент на нефть в 2 миллиона крон, за получение которого они обязались бы закупить сельскохозяйственные продукты на 1 млн. крон. Клингер на это предложение не согласился[927]. К середине января 1932 г. стороны пришли к следующей договоренности: Эстония приобретает у СССР нефтепродуктов на 1800 тыс. крон, а СССР закупает продовольствия на 700 тыс. (в основном свинину).
К концу января переговоры застопорились (камнем преткновения на этот раз явились цены на свинину); Клингер вновь выехал в Москву для получения новых инструкций[928]. В НКВТ торгпред добился разрешения на некоторые уступки эстонцам[929]. По возвращении в Таллин Клингер достиг соглашения с министром народного хозяйства Августом Юрманом о продаже в Эстонии советских нефтепродуктов на 900 тыс. крон и о закупке на 300 тыс. свиных туш. Вопрос о количестве и цене нефтепродуктов был согласован с двумя крупнейшими оптовиками – фирмой Й. Пухка и ЭТК. На завершающем этапе переговоров НКВТ неожиданно выдвинул новое условие о предоставлении государственных гарантий на эту сделку, что встретило резкое неприятие эстонской стороны. Когда Москва отозвала свое требование, было уже поздно – правительство К. Пятса ушло в отставку[930].
Сделка была сорвана. Подводя итоги советско-эстонским переговорам об условиях предоставления СССР нефтяной монополии, полпред Раскольников заключал: чиновники советских хозяйственных организаций «близоруко торговались из-за рубля для того, чтобы позже потерять тысячи»[931].
23 декабря 1931 г.
19. – О Латвии (т.т. Литвинов, Свидерский).
Утвердить ассигнование в 40 тыс. рублей.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Рудзутаку, Калмановичу.
Протокол № 81 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 23.12.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 101.
Установить адресата этого ассигнования и мотивы решения Политбюро не удалось. По всей вероятности, выделенные средства относились к категории специальных средств, ассигнуемых из резервного фонда СНК и были предназначены на поддержку «старого предприятия»[932].
23 декабря 1931 г.
21. – О чехах (т. Литвинов).
Принять к сведению сообщение т. Литвинова.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 81 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 23.12.1931. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 101.
Смысл «сообщения т. Литвинова» и постановления Политбюро в целом остаются загадочными. Вероятно, обсуждение на Политбюро было посвящено способам реагирования на сообщения об активизации в ЧСР антисоветских сил в связи с обострением положения на Дальнем Востоке и на доклад ОГПУ о деятельности сотрудников чехословацкой миссии в Москве. Не исключено, что обращением в Политбюро нарком пытался предупредить репрессию против представительства ЧСР.
Днем 24 декабря Б.Е. Штейн (заменявший заболевшего заведующего 2 Западным отделом НКИД) пригласил руководителя миссии Й. Кошека для того, чтобы от имени народного комиссара Литвинова потребовать немедленного отзыва первого секретаря Карела Ванека (как показывала предпринятая в июле 1931 г. попытка ОГПУ добиться от сотрудника миссии Брожа компрометирующих показаний против Ванека, советские спецслужбы приписывали ему роль секретного представителя Генерального штаба ЧСР и французской разведки). Требование основывалось на показаниях Годицкого – служащего наркомата путей сообщения и, по мнению чехословацких дипломатов (которым он, начиная с 1928 г., оказывал мелкие услуги), агента-провокатора[933]. В зачитанном Штейном протоколе ОГПУ, Годицкий утверждал, что в последнее время К. Ванек вел через него сбор разведывательной информации о состоянии железнодорожной сети СССР. Убедившись в недовольстве Годицким советской властью, чехословацкий дипломат, якобы, предложил ему совершить покушение на японского посла в Москве Хироту, дабы вызвать войну СССР с Японией, которая «смела бы советскую власть». Для всего этого, свидетельствовал Годицкий, по словам Ванека, было достаточно «двух пуль из ржавого нагана в стекло японского автомобиля на улицах Москвы». Перспектива стать причиной смерти невинных людей вызвала у советского служащего угрызения совести, и он явился в ОГПУ. Й. Кошек принял к сведению сообщение НКИД и без труда указал на прорехи в сообщенной ему версии, завершив свой ответ словами: «Думаю, что если бы господину комиссару Литвинову были представлены эти доводы, многие из них он бы принял»[934]. В сообщении ТАСС о предотвращении покушения на японского посла имя и государственная принадлежность причастного к провокации иностранного дипломата не упоминалось; в доверительном сообщении НКИД Хироте было уточнено, что речь идет о К. Ванеке. Вскоре сведения об этом стали достоянием всего московского дипломатического корпуса, и 29 декабря были обнародованы «Известиями ЦИК СССР» со ссылкой на чешское агентство[935]. Близкий к чехословацкой миссии германский журналист проявил большую осведомленность в «деле Ванека» и, упомянув источники в НКИД, сообщил, что Годицкий вовсе не пришел с повинной, а был 20 декабря задержан по подозрению в обладании иностранной валютой и использован для обоснования «очень глупой» и сконструированной заранее истории с покушением[936].
Воспользовавшись тем, что К. Ванек занемог, руководитель миссии отправил его в отпуск на родину, тогда как НКИД незамедлительно исключил первого секретаря из списка членов дипломатического корпуса в Москве («требование НКИД об отъезде сотрудника миссии удовлетворено», поспешило известить ТАСС)[937]. В начале января МИД Чехословакии, после разъяснений Ванека относительно действительного характера его отношений с Годицким, опубликовало заявление, в котором, на основе проведенного им разбирательства, обвинения против Ванека признавались безосновательными[938].
В Праге господствовало представление о том, что «дело Ванека» сфабриковано слишком грубо, чтобы предназначаться для внешнего потребления и, скорее всего, порождено потребностями пропаганды внутри страны для демонстрации решимости Советского правительства поддерживать мирные отношения с зарубежным миром, несмотря на его непрекращающиеся бесчестные усилия в отношении СССР.
При этом руководство МИД втайне отдавало должное умелому выбору К. Ванека на роль «козла отпущения». Заинтересованность Чехословакии в сохранении миссии в Москве и развитии коммерческих отношений с Россией сводила к минимуму риск ответных санкций с ее стороны. Первый секретарь миссии, как бывший член Чехословацкого легиона в России, был вполне убедителен в роли ярого врага советского строя. Вопреки принятому среди иностранных дипломатов обычаю, Ванек много и свободно общался с местными жителями и не считал нужным воздерживаться от московских ночных развлечений. Кроме того, «на протяжении нескольких лет он проводил закупки мебели и антиквариата как для себя, так и для своих коллег в Праге. Известно, что д-р Бенеш приобрел через него мебель и ценные предметы и, говорят, когда завершится реконструкция Чернинского дворца, в котором разместится Министерство иностранных дел, он окажется оснащен приобретениями Ванека»[939].
Наряду с вероятными внутриполитическими мотивами, «дело Ванека» было ориентировано на решение текущих задач СССР на Дальнем Востоке. В конце 1931 г. – начале 1932 г. СССР всеми силами демонстрировал стремление избежать конфликта с Японией. «В связи с событиями в Манчжурии разоблачена в нашей и в иностранной печати… уже не одна провокационная попытка втянуть СССР в войны», тем более, что «многие организаторы прежних военных интервенций против СССР еще живы и действуют», объявил В.М. Молотов 24 декабря[940], и сообщения о Гайде и Ванеке являлись наглядными иллюстрациями к этому тезису. Неделей позже Литвинов предложил прибывшему в Москву министру Иосизаве заключить советско-японский пакт о ненападении.
«Дело Ванека» имело и среднеевропейский подтекст. На рубеже 1931–1932 гг. советское руководство развило интенсивную деятельность по нейтрализации возражений Германии против основных условий советско-польского договора о ненападении. В середине декабря, в ходе беседы с писателем Э. Людвигом, Сталин заверил, что пакт с Польшей не означает ни признания незыблемости восточных границ Германии, ни ослабления заинтересованности СССР в сотрудничестве с нею[941]. Сближение с Польшей актуализировало задачу нормализации отношений СССР с другой восточноевропейской союзницей Франции – Чехословакией. «Польша=Франция, Франция=Чехословакия, Чехословакия=Ванек», – объяснял английскому дипломату советский чиновник[942].
С точки зрения чехословацкой миссии, акция против нее была вдохновлена желанием Москвы продемонстрировать свою латентную поддержку германского ревизионизма; официальные заявления о «чехословацком сотрудничестве против СССР» советник миссии рассматривал как успех немцев, которые «умышленно стремятся восстановить СССР против Чехословакии»[943].
Развитие советско-чехословацкого конфликта по поводу «дела Ванека» в последующем трижды рассматривалось Политбюро. На заседании 8 января 1932 г. одним из первых был рассмотрен вопрос «О сообщении в печати 1) О Хироте; 2) О Ванеке (т.т. Сталин, Литвинов)». Литвинову было поручено «составить проект сообщения в печати» «о Ванеке»[944]. Публикации на этот счет в советской прессе не появилось; с последних дней декабря 1931 г.: «дело Ванека» исчезло с ее страниц. Вызванный им дипломатический конфликт продолжался еще несколько месяцев[945].
8 января 1932 г.
Опросом членов Политбюро
120/82. – О Совпольторге (т. Розенгольц).
а) Разрешить Наркомвнешторгу продлить действие договора по «Совпольторгу» на дальнейшие три года.
б) При заключении договора добиваться увеличения экспорта в Польшу через Совполъторг тех товаров, реализация которых встречает там затруднения.
в) НКВТ выдавать Совпольторгу импортные лицензии лишь за счет общего имплана и при том на суммы меньшие его экспорта.
Выписка послана: т. Розенгольцу.
Протокол № 82 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 8.1.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 112.
Советско-польское торговое акционерное общество («Совпольторг», «СПТ») было учреждено на основании соглашения между Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли СССР и Польским товариществом торговли с Россией («Польрос»). Учредительный договор был заключен 27 января 1926 г. на трехлетний срок и при отсутствии разногласий между акционерами подлежал автоматическому продлению на два года. В связи с этим, когда в начале 1930 г. в НКИД и НКВТ обсуждалась целесообразность продления договора, то учитывалось, что экспортная работа СПТ «неинтересная», а импортные операции – «невыгодны» из-за высоких (доходящих до 100 %) надбавок. «За ликвидацию Совпольторга, – сообщал полпред в Польше, – высказываются не только руководящие работники Торгпредства, но и наши представители в варшавском отделении Совпольторга». Советские хозяйственники и дипломаты учитывали, что ликвидация СПТ подразумевает закрытие и Польского товарищества. Однако с 1929 г. под руководством Н.В. Попова торгпредству удалось «тесно связаться с лодзинской промышленностью и особенно с тяжелой промышленностью Верхней Силезии» и добиться от них «таких уступок при покупках, которых не мог и не хотел получить Польрос»[946]. Искушенный в проблемах торговой политики Б.С. Стомоняков соглашался с тем, что «с экономической стороны нам Совпольторг, конечно, не нужен», и напоминал о том, что с 1925 г. он неизменно был противником «этой затеи». «Однако, – отмечал член Коллегии НКИД, – поскольку 92 % акций Польроса принадлежат поль[скому] пра[вительству], последнее, несомненно будет возмущено ликвидацией Совпольторга и, независимо от этого, враждебные нам круги в Польше несомненно используют эту ликвидацию для новой кампании против нас»[947]. В результате общей озабоченности Москвы состоянием политических отношений с Польшей в начале 1930 г. НКИД и НКВТ решили не поднимать вопроса о ликвидации «Совпольторга», и договор был автоматически продлен до января 1932 г. Однако 20 апреля 1931 г. наркомат внешней торговли его денонсировал – «с целью добиться улучшения условий при возобновлении договора для увеличения нашего экспорта в Польшу». В результате наступательной тактики НКВТ (и одновременного ухудшения работы варшавского торгпредства[948]) значение Совпольторга в размещении советского экспорта в Польше возросло. С середины 1931 г. операции с почти всей товарной номенклатурой акционерных обществ «Промэкспорт», «Разноэкспорт» и «Плодэкспорт» «перешли от советского торгпредства к Совпольторгу»[949]. После расторжения договора, отмечал Розенгольц, «нам удалось добиться… перелома в работе Совпольторга»: если ранее лишь 12–15 % вывозимой СПТ советской продукции шла в Польшу, за 11 месяцев 1931 г. эта цифра возросла почти до 50 %[950]. В конце июля 1931 г. начались советско-польские переговоры об условиях продления договора о Товариществе «Совпольторг», в частности, размерах кредитного финансирования его операций со стороны «Польросса»[951]. К концу ноября было получено письменное согласие польских партнеров в случае трехлетней пролонгации договора о СПТ обеспечить его нормальную работу на польском рынке «как в смысле облегчений в получении разрешений на ввоз товаров, так и в смысле более правильного, а иногда и более либерального обложения нас пошлиной»[952]. Поскольку трудности в реализации программы Политбюро от 15 января 1931 г.[953] с усилением протекционизма в польской экономической политике лишь возросли, Наркомвнешторг возлагал особые надежды на новую договоренность по «Совпольторгу».
Эти перемены явились исходным пунктом для обращения в середине декабря 1931 г. наркома А.П. Розенгольца к руководителям Политбюро с запиской «О возобновлении договора о Совпольторге». Приведя сведения о том, что впервые со времени своего основания смешанное общество превратилось в активного агента советского импорта в Польшу, нарком сообщал: «Мы ставим своей целью при возобновлении договора использовать Совпольторг для продвижения в Польшу ряда наших товаров, размещение которых через Торгпредство встречало затруднения и реализация которых происходит в порядке полуоптовых мелких продаж и часто сопряжено с необходимостью преодоления ряда разрешительно запретительных правил (галоши, нитка, лектравы, кожсырье, кишки)». Другим направлением пересмотра договора с польской стороной называлось улучшение условий финансирования, в первую очередь придания постоянного («безотзывного») характера валютным кредитам на заготовки экспортируемой продукции (около 2,5 млн. рублей, из которых свыше четырех пятых было вложено в предприятия Совпольторга в СССР). В качестве компенсации НКВТ предусматривал выдачу СПТ лицензий «в счет контингентов импортного плана» и «в суммах меньших его импортного плана». В заключение записки приводился и аргумент «от противного»: в случае неподписания нового договора в течение первых месяцев 1932 г. польским акционерам следовало вернуть до 3,5 млн. рублей (основной капитал товарищества, денежный кредит и краткосрочные кредиты)[954].
Постановление Политбюро полностью и точно воспроизводило проект, приложенный в записке А.П. Розенгольца в ЦК ВКП(б)[955]. Однако решение «О Совпольторге», как и принятое годом ранее постановление о развитии торговли с Польшей, осталось большей частью нереализованным. Под влиянием новых обстоятельств СНК СССР распорядился продлить действие договора о СПТ на год (до 27 января 1933 г.)[956]. Каких либо материалов о том, было ли согласовано подписанное Рудзутаком постановление СНК с ЦК ВКП(б), и, если да, то кем был санкционирован пересмотр решения Политбюро, установить не удалось. Это промежуточное решение отражало обострившиеся в 1932 г. разногласия между польскими властями и акционерами, с одной стороны, и советскими ведомствами во главе с НКВТ, с другой, относительно роли Совпольторга в двусторонних экономических связях и вскоре перестало устраивать наркомат внешней торговли[957].
28 января 1932 г.
17. – О Латвии (т. Крестинский).
Предложить Крестинскому запросить т. Литвинова.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 86 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 28.12.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 161.
28 января 1932 г. и.о. наркома H.H. Крестинский обратился к И.В. Сталину с запиской относительно тактики ведения переговоров с Латвией. Безотлагательное внесение поднятого в этом обращении вопроса в повестку заседания Политбюро вызывалось необходимостью срочно направить новые инструкции Б.С. Стомонякову, который вел в Риге переговоры о пакте ненападения. На 28 января намечалось завершение переговоров о пакте ненападения и подписание самого договора. Однако предпринятый польским и эстонским посланниками в Риге нажим на президента Латвии повлек отсрочку этого акта и выдвижение латвийской стороной дополнительных оговорок[958].
Первоначально советская сторона настаивала на том, чтобы переговоры о заключении пакта о ненападении велись в Москве. Однако, в конце 1931 г. выяснилось, что Румыния соглашается вести с СССР аналогичные переговоры только в Риге. В связи с этим в начале января 1932 г. М.М. Литвинов направил И.В. Сталину срочный запрос, в котором, ссылаясь на готовность Румынии начать переговоры уже 5 января, просил созвать на следующий день комиссию Политбюро для выработки инструкций члену Коллегии Б.С. Стомонякову, которого НКИД наметил в качестве советского представителя на переговорах с Латвией (Стомоняков должен был также вести переговоры с румынским поверенным в делах в Риге князем М. Стурдзой). Поскольку В.М. Молотов отсутствовал, Литвинов просил назначить вместо председателя СНК другого члена Политбюро для созыва комиссии[959].
В соответствии с инструкциями Стомонякову, выехавшему 4 января в Ригу, поручалось вести и в возможно более сжатые сроки завершить переговоры с Латвией. При этом следовало всячески избегать намеков относительно судьбы торгового договора в связи с приближением даты возможной его денонсации, вместе с тем Стомонякову разрешалось дать понять, что позиция Латвии на переговорах о пакте сказывается на прохождении в Москве интересующих Ригу вопросов. Полпред в Латвии А.И. Свидерский был отстранен от участия в переговорах: в отличие от И.М. Майского и Я.З. Сурица, полпреды в Эстонии, Латвии и Польше не рассматривались как дипломаты, способные справиться с ведением сложных переговоров относительно заключения пактов ненападения[960]. Вторая причина сосредоточения переговоров в руках специального уполномоченного, вероятно, состояла в том, что Москва настаивала, как сообщил Стомоняков министру иностранных дел Латвии К.Р. Зариньшу во время их первой встречи 6 января, на ведении переговоров «в более интимном дипломатическом порядке», т. е. не создавая делегаций, с глазу на глаз (впрочем, позднее Стомоняков вел переговоры и с заместителем Зариньша Х. Альбатом). Конфиденциальность переговоров, вероятно, обусловливалась желанием Москвы затруднить выступление «общим фронтом» Латвии и ее союзницы Эстонии и подчеркнуть их исключительно двусторонний характер. Согласно инструкциям, Стомоняков должен был предложить под предлогом «незатягивания» переговоров подписать текст парафированного 9 марта 1927 г. советско-латвийского пакта о ненападении, причем из него была исключена статья 2 (о нейтралитете каждой из сторон в случае нападения на одну из них третьей стороны)[961]. Маловероятно, что в НКИД не предвидели негативную реакцию латвийской стороны на подобный шаг: формулировка о нейтралитете в тексте Мирного договора 11 августа 1920 г. была более широкой, чем компромиссная формулировка 1927 г., что признавали обе стороны. Таким образом, Риге предлагалось либо согласиться на отсутствие в тексте пакта статьи о нейтралитете (что равнялось сохранению в силе формулировки Мирного договора), либо согласиться на пересмотр формулы 1927 г. Положение Стомонякова облегчалось заявлением МИД Латвии об отказе от парафированного в 1927 г. текста.
Чтобы подтолкнуть латвийскую сторону к большей уступчивости, Стомоняков 8-10 января отказывался от встреч с К. Зариньшем и Х. Альбатом, тогда как переговоры с румынским представителем были продолжены. Это создало почву для появления в латвийской прессе предположений об относительно большей значимости для Москвы переговоров с Румынией. 11 января Стомоняков отмечал, что латыши «испугались» его молчания, но десятью днями позже был вынужден признать, что эта оценка была излишне оптимистична[962]. Интенсивные переговоры с Латвией были начаты Стомоняковым лишь в последней декаде января, после того, как его дискуссии с князем Стурдзой зашли в тупик.
В конце января Литвинов выехал в Женеву; обязанности наркома были возложены на Крестинского, который в силу этого явился посредующим звеном в сношениях члена Коллегии с Политбюро. В письме Генеральному секретарю от 28 января Крестинский перечислял важнейшие разногласия сторон. Латвийская делегация соглашалась снять ст. 2 о нейтралитете лишь при условии включения в ст. 1 положения о праве досрочной денонсации пакта в случае нападения одной из договаривающихся сторон на третью сторону. Иными словами, латвийская сторона желала предусмотреть возможность нападения СССР на Польшу или Эстонию, создавая включением этого положения отсутствующую в тексте пакта формальную увязку советско-латвийских отношений с отношениями СССР с лимитрофами. Крестинский, признавая отрицательный момент у этой формулировки, указывал, что аналогичное положение включено в тексты пактов с Финляндией, Францией и Польшей (это компенсировалось в пакте с Финляндией гарантией полного нейтралитета, в пактах с Польшей и Францией – частичного) и отказ от него произвел бы неблагоприятное впечатление, «будто мы собираемся напасть на одно из соседних государств и хотим обеспечить нейтралитет Латвии даже и в этом случае». Крестинский предлагал пойти на уступку, оговорив в тексте Протокола подписания договора, что денонсация пакта не сужает обязательства сторон, вытекающие из пакта Келлога и советско-латвийского мирного договора. Политбюро предлагалось разрешить Стомонякову дать согласие на внесение дополнения в ст. 1, но при условии немедленного подписания пакта и указанной оговорки в Протоколе подписания. И.о. наркома просил решить вопрос в тот же день, т. е. 28 января[963].
Политбюро, однако, не стало детально рассматривать письмо Крестинского[964]. Во исполнение принятого решения Крестинский направил запрос наркому, который поддержал его позицию, уточнив, однако, что пойти на подписание дополнительного протокола необходимо лишь в том случае, если латвийская сторона сама поставит об этом вопрос (судя по всему, Крестинский в телеграмме не указал, что латыши это сделали)[965]. После получения ответа Литвинова, Политбюро вернулось к теме, поднятой в записке и.о. наркома, и «в бесспорном порядке» (опросом) утвердило директивы находившемуся в Риге члену Коллегии НКИД[966].
28 января 1932 г.
18. – О Чехо-Словакии (т. Крестинский). Остаться при прежнем решении.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 86 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 28.1.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 161.
В середине января министр иностранных дел Э. Бенеш, еще до ознакомления с полными результатами проводимого в Праге разбирательства деятельности К. Ванека, в беседе с полпредом СССР А.Я. Аросевым принял на себя «ответственность за всю миссию в Москве и поведение каждого отдельного ее сотрудника» и заявил резкий протест против мер, принятых советскими властями в отношении первого секретаря миссии ЧСР[967]. Бенеш высказал убеждение, что обвинение в «провокации войны» «выдумано» и «советское правительство сознательно стремилось дискредитировать чехословацкое правительство». Он потребовал дать публичное разъяснение, что, обвиняя сотрудника миссии, Москва не распространяет подозрение в провоцировании советско-японской войны на правительство ЧСР, или же предложить иную компенсацию за нанесенный Чехословакии ущерб[968]. Москва отвечала: «О компенсации не может быть никакой речи. С обвинениями чехословацкого правительства мы не выступали, а обвинили Ванека, а по чьим директивам он действовал, мы знать не обязаны»[969]. МИД Чехословакии выступил с требованием передать рассмотрение возникшего конфликта независимому арбитру, а 27 января Бенеш объявил о намерении Града разорвать отношения с Москвой из-за отклонения ею арбитража по обвинениям против Ванека.
По всей вероятности, первый заместитель наркома Н.Н. Крестинский (в чьем ведении находилось курирование отношений с Чехословакией) доложил Политбюро об угрозе разрыва отношений между ЧСР и СССР и, вероятно, выдвинул предложения о компромиссном урегулировании конфликта (компромисс был возможен либо в виде обязательства Праги пресечь деятельность Гайды в обмен на смягчение советской позиции по делу Ванека, либо в виде предложения о создании специальной согласительной комиссии для разбора выдвинутых обвинений).
С точки зрения интересов СССР решение Политбюро о сохранении в силе прежней позиции поначалу выглядело оправданным. Уже через несколько дней чехословацкие представители начали «высказывать надежду, что все как-нибудь наладится»[970]. Одновременно (27 января) чехословацкая полиция попыталась арестовать Р. Гайду, четырьмя днями позже он сам сдался властям и был приговорен к двухмесячному тюремному заключению[971]. Таким образом, акция по оказанию нажима на руководство Чехословакии для предотвращения предполагаемых осложнений на Дальнем Востоке привела к видимому успеху.
Не возобновляя угрозы разрыва существующих де-факто отношений, правительство ЧСР продолжало, однако, настаивать на том, что поведение Москвы нарушило принятые международные нормы и потому должна компенсировать причиненный Чехословакии ущерб путем арбитражного разбирательства этого инцидента.
По утверждению чехословацких представителей «дело Ванека» сорвало возобновление переговоров между ЧСР и СССР о взаимном признании де-юре[972]. Убедительные свидетельства о готовности чехословацкого правительства выступить в конце 1931 г. с такой инициативой отсутствуют. (Напротив, вслед за визитом в Москву одного из деятелей правящей коалиции Й. Шебы, на который Бенеш ссылался как на доказательство намерения Града приступить к нормализации политических отношений с СССР, в интервью «Народни листы» министр иностранных дел указал, что сообщения о возможности признания СССР не соответствуют действительности. «Такое категорическое заявление Бенеша за все время наших отношений с ЧСР произнесено впервые, ибо всегда и всюду он высказывался за признание», – указывал тогда полпред, предлагая Крестинскому или Литвинову выступить с аналогичным заявлением в адрес Чехословакии[973]).
1 февраля 1932 г.
Опросом членов Политбюро
43/6. – О Латвии.
Предложить т. Стомонякову подписать договор с латышами на основе предложений т. Крестинского и выехать в Москву, отложив переговоры с эстонцами.
Выписки посланы: т. Крестинскому.
Протокол № 87 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 8.2.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 174.
Во исполнение предыдущего решения Политбюро и.о. наркома Н.Н. Крестинский направил находящемуся в Женеве М.М. Литвинову запрос относительно тактики обсуждения проблемы нейтралитета на переговорах с Латвией о пакте ненападения[974], одновременно сообщив Стомонякову о предложениях на этот счет, внесенных НКИД в Политбюро.
Стомоняков выступил категорически против уступки в тексте ст. 1 пакта о ненападении и 29 января обратился к Крестинскому за разрешением уехать из Риги. По его мнению, это вынудит латвийское правительство в самом ближайшем будущем обратиться в Москву с предложением продолжить переговоры, отказавшись от внесения абзаца о праве досрочной денонсации пакта в ст. 1 и других своих требований. Позиция Стомонякова не нашла поддержки у Крестинского, который 31 января обратился к высшему арбитру. В записке Сталину и.о. наркома указывал, что первоначальная директива о завершении переговоров с Латвией в возможно более краткий срок должна остаться в силе: «Мне кажется, что тов. Стомоняков не прав, рассчитывая на то, что латыши уступят нам по первому пункту, если мы прекратим сейчас переговоры в Риге. Я думаю, что наоборот, латыши будут выжидать развития наших переговоров с другими… и не торопиться с инициативой возобновления переговоров»[975].
В Москве учитывали, что выработанный в Риге Б.С. Стомоняковым текст договора и в таком виде имел значительные преимущества по сравнению с подписанным 21 января пактом с Финляндией. Позднее сам Стомоняков не раз отмечал, например, большое политическое значение одной из формулировок советско-латвийского договора, на которую особенно нападала польская пресса[976]. В нем предусматривалось запрещение договаривающимся сторонам участвовать в соглашениях, которые явно враждебны или противоречат формально или по существу данному договору. Следовательно, для определения того или иного соглашения как противоречащего данному пакту было достаточно одного из вышеуказанных условий, а не всех одновременно[977]. (Близкая по содержанию более краткая формула имелась в Договоре о ненападении и о мирном улажении конфликтов, подписанном 4 мая 1932 г. с Эстонией, тогда как согласно пакту с Финляндией: стороны обязывались не участвовать «в соглашениях или конвенциях, явно враждебных и противоречащих формально или по существу» этому договору[978]. Тем самым, такие действия третьей стороны или сторон, как блокада или экономический бойкот СССР, хотя и могли быть в принципе истолкованы как явно враждебные, однако не могли быть определены как акции, в которых было запрещено участвовать другой договаривающейся стороне, ибо они формально или по существу не противоречили договору, не содержавшему понятия экономической агрессии).
Руководители ЦК солидаризировались с позицией Крестинского, изложенной в его письме от 31 января. Однако немедленно вслед за принятием рассматриваемого постановления в НКИД было получено сообщение Стомонякова о появлении новых пунктов разногласий с латышами на переговорах, что побудило Крестинского 1 февраля направить Генеральному секретарю новое обращение. В нем перечислялись все оставшиеся пункты разногласий на переговорах и предлагались рекомендации по их преодолению:
– формулировка во Введении о сохранении в силе Мирного договора (согласиться с предложениями Латвии);
– упоминание во 2 абзаце ст. 1 и в Протоколе о пакте Келлога (уступить, но в последнюю очередь);
– формулировка о сохранении в силе заключенных ранее договоров (оснований для возражений Крестинский не находил);
– 30-дневный срок обмена ратификационными грамотами (это требование исходило от Польши, принципиального значения не имеет, «но будет выглядеть внешне неприятно» и потому его следует отклонить, предложив указать не срок обмена грамотами, а срок ратификации. Поскольку в Риге на это не пойдут, то будут вынуждены отказаться и от фиксации срока обмена ратификационными грамотами);
– абзац о досрочной денонсации пакта (Стомоняков продолжает считать, что следует предложить зафиксировать в дополнительном протоколе право Латвии досрочно денонсировать пакт в случае советско-эстонской войны. По мнению Крестинского, такой шаг лишь ухудшил бы ситуацию).
Крестинский полагал, что дальнейшее пребывание Стомонякова в Риге «политически неудобно» для СССР и просил разрешить Стомонякову, если в течение ближайших 2 дней не будет достигнуто соглашения «на предлагаемой мною в этом письме основе», вернуться в Москву, предложив латышам продолжить переговоры в советской столице[979].
Уже отправив письмо Сталину, Крестинский получил выписку с текстом постановления Политбюро от 1 февраля. Не дожидаясь получения письма адресатом, он «дополнительно устно запросил», как быть с вопросом, не предусмотренным в решении – о сроке обмена ратификационными грамотами. Ответ гласил, что вопрос принципиального значения не имеет и переговоры тянуть не следует[980]. В тот же день Крестинский направил Стомонякову новые инструкции.
Упомянутые в постановлении Политбюро переговоры с Эстонией о заключении пакта о ненападении формально начались 8 декабря 1931 г. 1 января
1932 г. М.М. Литвинов принял, эстонского посланника Ю. Сельямаа, который вручил ему проект пакта, оказавшийся копией польского документа[981]. Через день после начала советско-латвийских переговоров в Риге эстонская сторона предложила Литвинову поручить Стомонякову ведение переговоров в Риге и о советско-эстонском пакте. Нарком отклонил это предложение, заявив, что СССР намерено вести переговоры с каждым государством в отдельности[982]. До 23 января переговоры о пакте с Эстонией велись Литвиновым (с 20 января в них стал принимать участие Крестинский); после отъезда Литвинова в Женеву переговоры продолжил Крестинский.
В ходе переговоров с Латвией Стомонякову пришлось столкнуться с серьезным противодействием эстонской дипломатии. В ряде случаев, как сообщал заведующий 1 Западным отделом Ф.Ф. Раскольникову, латыши были готовы пойти на уступки, но «их тянули за фалды эстонцы»[983]. Давление, оказанное МИД Эстонии на Ригу через своего поверенного в делах Мелдера, превзошло все ожидания. Когда была определена дата подписания советско-латвийского пакта (28 января), Мелдер добился приема у министра иностранных дел Зариныша, а затем и у президента Квесиса и убедил их повременить, поскольку в текстах пакта и протоколов имелись предложения, не устраивавшие союзницу Латвии Эстонию. Полпредству СССР пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться скорейшего созыва заседания Иностранной комиссии сейма Латвии, которая высказалась за скорейшее подписание пакта. Б.С. Стомоняков был склонен объяснять действия эстонской дипломатии влиянием Польши, стремившейся затягиванием переговоров избежать изолированного положения Румынии и приобрести тем самым дополнительный козырь в советско-румынских переговорах[984].
Вопреки формулировке рассматриваемого постановления Политбюро, создающей впечатление, что переговоры с Эстонией предполагалось возложить на советского уполномоченного в Риге, нет никаких свидетельств, что в конце января 1932 г. в Москве действительно склонялись к переносу советско-эстонских переговоров из столицы СССР в Латвию. Подобные предложения поступали лишь из Таллина и неизменно отклонялись НКИД. Указание на откладывание дальнейших переговоров отражало, с одной стороны, ранее высказывавшуюся уверенность в том, что до тех пор, пока не прояснится ситуация на советско-польских переговорах о пакте, эстонцы будут затягивать дело. С другой стороны, парафирование 25 января 1932 г. договора о ненападении между СССР и Польшей и происшедшее несколькими днями ранее подписание аналогичного советско-финляндского договора затрудняло положение Эстонии.
Протоколы Политбюро не содержат указаний на рассмотрение в первой декаде февраля 1932 г. вопроса о переговорах с Эстонией. Тем не менее, НКИД, скорее всего, обращался в «инстанцию» с просьбой санкционировать новую советскую инициативу – предложение Таллину подписать пакт, положения которого были бы идентичны условиям советско-латвийского пакта. Во всяком случае, выступив с заявлением на этот счет, Н.Н. Крестинский объяснил эстонскому посланнику Ю. Сельямаа 11 февраля, что оно исходит от советского «правительства»[985].
8 февраля 1932 г.
14. – О приезде финских промышленников (т.т. Крестинский, Розенгольц).
а) Не возражать против приезда финских промышленников к 20 февраля.
б) Для приема финских промышленников создать комиссию в составе т.т. Розенгольца (председатель), Стомонякова и Микояна.
Выписки посланы: т.т. Крестинскому, Розенгольцу, Микояну, Стомонякову.
Протокол № 87 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 8.2.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 174.
Вопрос был внесен в Политбюро 5 февраля Н.Н. Крестинским, согласовавшим свою позицию с Розенгольцем. Руководители дипломатического и внешнеторгового ведомств предлагали разрешить приезд финской промышленной делегации, исходя из того, что отклонение настойчивых просьб финского правительства и хозяйственных кругов Финляндии является политически неудобным. Выдвижение этого предложения и его принятие Политбюро вызывалось потребностью закрепить сдвиг, наметившийся в советско-финляндских отношениях в результате быстрого подписания пакта о ненападении 21 января 1932, и «очистить» их общую атмосферу, а также выполнить данные ранее обещания возобновить переговоры о торговом договоре между двумя странами.
В утвержденных М.М. Литвиновым 28 декабря 1931 г. инструкциях для ведения переговоров о пакте ненападения отмечалось, что ради их убыстрения необходимо дать понять финнам: подписание облегчит заключение торгового договора и повлечет возобновление выдачи заказов[986]. Полпред И.М. Майский полагал, что ради успеха переговоров о пакте следует «пустить в ход и более веские экономические аргументы» – «после подписания разрешить приезд в СССР финской промышленной делегации» и таким образом показать перспективы получения Финляндией заказов после ратификации пакта ненападения; приступить к переговорам о торговом договоре, а после ратификации – расширить выдачу заказов и приступить к закупкам молочных продуктов в Выборгском районе[987]. Вопрос о желательности приезда в СССР такой делегации был поставлен перед НКИД 21 ноября 1931 г. поверенным в делах Р. Хаккарайненом. Однако финский дипломат услышал тогда в ответ, что, поскольку финские промышленные и финансовые круги ничего не сделали для обуздания тех крайних элементов в Финляндии, которые создали нетерпимую ситуацию в двусторонних отношениях, такая поездка вряд ли уместна. При этом помощник заведующего 1-го Западного отдела И. Морштын выразил согласие на частный визит в СССР Р. Рюти и председателя союза финских промышленников Вильянена. 25 ноября руководитель МИД Юрье-Коскинен повторил полпреду предложения Хаккарайнена. После двухнедельной паузы Майский передал ответ Москвы о желательности выждать подходящий момент. Вместе с тем, руководящие советские инстанции согласились с настояниями Майского об организации визита в Москву Рюти и его встреч с возглавлявшим Госбанк СССР Калмановичем. Принципиальное согласие на приезд Рюти было дано в середине января 1932 г., однако по ряду причин эта поездка была отменена. Когда же стало известно о готовности целой финской делегации выехать уже 31 января, полпреду было поручено передать, что эта дата не устраивает советскую сторону.
По каким причинам Политбюро перенесло дату приезда делегации с начала марта, как предлагалось НКИД и НКВТ, на более ранний срок[988], неизвестно. Вероятно, в этом случае, как и в отношении визита Рюти основное значение имели внутренние обстоятельства и планы советских руководителей.
Делегация финских промышленников во главе с директором-распорядителем Союза предпринимателей деревообрабатывающей промышленности А. Хакцелем прибыла в СССР 21 февраля 1932 г. В ее состав входили директор-распорядитель Союза промышленности Финляндии В.М.Ю. Вильянен, представители металлической и бумажной промышленности (Р. Лавониус, В. Линд), советник земледелия, председатель сельскохозяйственных кооперативов Выборгского района Э. Пуллинен и профессор К.Л. Ютила. Делегация провела три дня в Ленинграде и семь дней в Москве. В пространном отчете о результатах поездки делегации отмечалось, что русские крайне заинтересованы в быстрейшей ратификации договора о ненападении, однако в экономической области готовы пойти лишь на незначительные уступки. Переговоры в Ленинграде с представителями наркомата внешней торговли Трояновским и наркомата водного транспорта Я.П. Бронштейном (которого Хакцель принял за двоюродного брата Троцкого; хотя Бронштейн был хорошо известен в финских деловых кругах, поскольку ему неоднократно приходилось улаживать в Финляндии вопросы, связанные с рекламациями на качество товаров, перевезенных советским торговым флотом) ни к чему не привели. Между тем, «превращенный большевиками за последние три года в мощный индустриальный центр» Ленинград жил на голодном пайке и потому являлся потенциальным потребителем огромного количества финского продовольствия. Пребывание делегации в Ленинграде было, судя по отчету, скомкано: на Путиловский завод, несмотря на предварительную договоренность, финнов не пустили (на заводе закончились запасы стали, и он был остановлен).
В Москве Хакцель дважды обстоятельно беседовал с А.П. Розенгольцем. Нарком настоятельно подчеркивал наличие взаимосвязи между ратификацией эдускунтой недавно подписанного пакта и развитием экономических отношений двух стран. Состоялась встреча и с наркомом снабжения А.И. Микояном. «В ходе переговоров с финской делегацией, – резюмировал Б.С. Стомоняков итоги ее визита, – НКВТ и председатели импортных объединений наметили номенклатуру возможных заказов», представители деловых кругов убедились в том, что советская сторона крайне заинтересована в приобретении судов, моторов, портового оборудования, металла, оборудования для лесопереработки и других товаров[989]. Результаты визита финской делегации оказались, однако, невелики. Условиями выдачи заказов советские хозяйственники поставили обеспечение «соответствующего» экспорта из СССР в Финляндию и «подходящие цены и кредитные условия для наших закупок», в частности, продление срока государственных гарантий. О масштабах советских заказов во время визита речь не заходила[990]. Месяц спустя проблема предоставления кредитов стала предметом обсуждения главы Банка Финляндии Р. Рюти и И.М. Майского. Рюти пообещал «попробовать» добиться изменения «слишком строгих правил в отношении сроков кредитования»[991].
В Москве считали, что финны остались «по-видимому, очень довольны» итогами поездки в СССР. Однако в политических и хозяйственных кругах Финляндии вспыхнувший было энтузиазм быстро угас. После размещения ряда заказов весной 1932 г., наступила неизбежная пауза[992].
8 марта 1932 г.
4. – Об Эстонии (т.т. Крестинский, Стомоняков).
Предложить эстонцам уступить нам по вопросу о нейтралитете и в случае принятия этого предложения, согласиться удовлетворить другие требования эстонцев.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 91 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 8.3.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 1.
9 февраля 1932 г. и.о. наркома Н.Н. Крестинский обратился в Политбюро с запросом об изменении прежних директив в отношении переговоров с Эстонией о пакте ненападения. Крестинский просил разрешить НКИД немедленно подписать пакт о ненападении с Эстонией, положив в его основу не тексты советско-финляндского или советско-польского договоров, как предусматривалось политическим руководством СССР ранее, а условия подписанного 5 февраля пакта с Латвией. Продолжение ведения переговоров с Эстонией на прежней основе, считал Крестинский, «неудобно и невыгодно… потому, что по некоторым важным вопросам нам пришлось бы брать обратно предложения и уступки, которые мы делали на основании уступок, сделанных Польше и Финляндии». Он обращал особое внимание на то, что в Мирном договоре с Эстонией имелось обязательство безусловного нейтралитета, которого не было в соответствующих договорах с Финляндией (1920) и Польшей (1921). Крестинский просил принять постановление, разрешающее ему передать эстонскому посланнику Ю. Сельямаа предложение о заключении договора, совпадающего с содержанием советско-латвийского пакта ненападения[993]. Судьба обращения НКИД неизвестна (в протоколах Политбюро оно не получило какого-либо отражения), разрешение на изменение советской позиции в переговорах с Эстонией не было дано.
Между тем, эти переговоры застопорились, и в феврале на них не было достигнуто никакого прогресса. Отказ Таллина без промедления последовать примеру Хельсинки и Риги благоприятствовал польской дипломатии, отсрочившей подписание парафированного текста договора о ненападении с СССР до завершения советско-румынских переговоров. Эстонская сторона объясняла согласие Латвии подписать пакт с Москвой тем, что Риге были предложены исключительно выгодные условия пролонгации торгового договора[994], что не соответствовало действительности. 19 февраля К. Пятса на посту Главы государства сменил Я. Теемант, министром иностранных дел был назначен Я. Тыниссон, а его заместителем А. Геллат, которого в Москве считали самым антисоветски настроенным чиновником эстонского МИД. Перемены в правительстве Эстонии способствовали еще большему замедлению переговоров и вызвали в Москве убеждение, что Эстония вновь превращается в самую верную союзницу Польши и намерена активизировать свою политику в Прибалтике в интересах укрепления польского влияния[995]. Наибольшие трудности в советско-эстонских переговорах продолжала вызывать проблема нейтралитета и неучастия сторон во враждебных друг другу группировках. При этом эстонская сторона в предлагаемых ею проектах пыталась избежать зафиксированного в Тартуском мирном договоре широкого определения понятия «нейтралитет», на чем упорно настаивала Москва.
На следующий день после решения Политбюро о корректировке советской переговорной позиции М.М. Литвинов встретился в Женеве с министром иностранных дел Эстонии Я. Тыниссоном; 10 марта их беседа была продолжена. Тыниссону был поставлен вопрос: намерен ли он довести переговоры о пакте до конца и подписать его уже в Женеве. Министр пояснил, что такое желание у него есть, но в Женеве он не располагает необходимыми для этого документами, поэтому по возвращении в Таллин он даст соответствующие инструкции посланнику в Москве. Вместе с тем, Тыниссон отказался вести переговоры на основе советско-латвийского пакта и, в частности, не соглашался на предложенный в нем способ решения вопроса о нейтралитете. В Мирном договоре, по его мнению, положение о нейтралитете было зафиксировано «ad hoc Юденич», т. е. имело отношение к совершенно определенной ситуации, которой более не существует. Литвинов отверг такое толкование Мирного договора с Эстонией, как и ссылку на соответствующие формулировки советско-польского мирного договор, поскольку тот не предусматривал нейтралитета и поэтому статья о нейтралитете в тексте пакта ненападения с Польшей означала добавление к условиям Рижского мира 1921 г. Между тем в мирных договорах СССР с Латвией и Эстонией подобные положения имелись, и отказ от их воспроизведения в тексте нового пакта явился бы «ослаблением Мирного договора». В случае согласия на включение статьи о нейтралитете, совпадающей по содержанию с положениями Тартуского договора, Литвинов обещал принять эстонский вариант статьи о неоказании помощи государству, совершившему агрессию против одной из договаривающихся сторон. Нарком соглашался и на другой компромиссный вариант: исключить из пакта ненападения статью о нейтралитете, сохранив в силе положения Мирного договора. Другим существенным пунктом разногласий была статья о неучастии во враждебных группировках: Тыниссон отверг предложенную ему советско-латвийскую формулировку, как слишком неопределенную и широкую[996]. Единственным осязаемым результатом женевских бесед Литвинова и Тыниссона явилось согласие эстонской стороны на продолжение переговоров.
21 марта в беседе с полпредом Раскольниковым вице-министр МИД Эстонии А. Геллат вновь заявил, что его правительство не может согласиться ни на «неупоминание о нейтралитете, ни на ссылку во вступительной части на мирный договор», оно также считает неприемлемым обязательство неучастия Эстонии в блокаде или экономическом бойкоте[997]. Б.С. Стомоняков, информируя Раскольникова о содержании женевских бесед Литвинова, подчеркивал, что, поскольку нет признаков того, что Польша в ближайшем будущем подпишет парафированный текст пакта о ненападении, она не заинтересована и в подписании советско-эстонского и советско-румынского пактов: В силу этого, а также поскольку сокращение советских заказов, транзита и фрахта в Эстонии «еще не выявило себя» и потому пока не вызвало давления общественного мнения на правительство Эстонии, не следует ожидать скорого завершения переговоров[998].
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), судя по всему, проявлял в этот период повышенный интерес к проблемам отношений с Эстонией. Член Коллегии НКИД Стомоняков специально направлял ему выписку из Политбюллетеня НКИД в качестве информационного материала «по вопросу об отношении к нам Эстонии за последнее время» (посылка таких материалов могла иметь место лишь в результате соответствующего запроса)[999].
В апреле 1932 г. свои «посреднические услуги» предложил министр иностранных дел Финляндии Юрье-Коскинен. Он сообщил И.М. Майскому, что эстонское правительство дало новые директивы своему посланнику в Москве, которые содержали компромиссную формулировку относительно неучастия во враждебных экономических соглашениях, однако не предусматривали никаких уступок по вопросу о нейтралитете и «подтверждения всех основ мирного договора». Коскинен предлагал пойти навстречу Эстонии, так как «Финляндии было бы трудно одной ввести в действие заключенный с нами пакт». Стомоняков, оценивая полученную информацию, считал, что этот шаг эстонской стороны был рассчитан на непримиримость Москвы в вопросе о нейтралитете и, таким образом, направлен на затягивание переговоров, пока Польша и Франция не решатся подписать пакты ненападения с СССР[1000]. Напряженные дискуссии были завершены лишь за несколько часов до подписания пакта 4 мая 1932 г. В полдень 4 мая посланник Сельямаа сообщил, что его правительство готово исключить из текста договора положение о нейтралитете, если СССР согласится с эстонской редакцией статьи о враждебных соглашениях (эта формулировка ограничивала обязательства неучастия в них случаями, когда экономические санкции предприняты в агрессивных, чисто военных целях). Поскольку предложенный компромисс соответствовал принятым двумя месяцами ранее директивам Политбюро, уже через час Н.Н. Крестинский сообщил посланнику о принятии эстонского предложения. В 16 час. 30 мин. Договор о ненападении и мирном улажении конфликтов был подписан М.М. Литвиновым и Ю. Сельямаа[1001]. В нем отсутствовало прямое указание на взаимные обязательства сохранения нейтралитета в случае агрессии третьего государства против одной из договаривающихся сторон, однако, во Введении констатировалось, что Мирный договор 1920 г. остается незыблемой основой отношений между СССР и Эстонией.
29 марта 1932 г.
Опросом членов Политбюро
62/68. – Дело В.
а) Предложить Чехо-Словацкому правительству по делу Ванека согласительную комиссию вместо арбитража, мотивируя отклонение арбитража невозможностью подыскания беспристрастного арбитра. Компетенция комиссии должна быть ограничена вопросом о корректности упоминания имени Ванека в конфиденциальном сообщении японскому послу.
б) Дело Годицкого поставить в суде при закрытых дверях с допущением представителя чехословацкой миссии.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 94 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.4.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 12. Л. 37.
В начале весны 1932 г. выяснилось, что чехословацкая дипломатии твердо намерена требовать от Москвы «компенсаций» ее поведения в организованном советскими властями «деле» К. Ванека. Если в январе Крестинский и Литвинов предупреждали полпреда в Праге, что «ни на какое отступление в этом деле мы не пойдем» и «совершенно естественно не пустим Ванека сюда даже на короткий срок»[1002], то в начале весны расчеты, что возмущение Града уляжется, обнаружили свою беспочвенность. В конце марта даже полпред Аросев, обычно склонный к конфронтационным акциям (для разоблачения «неискренней» политики ЧСР в отношении Советского Союза), повторял: «Совершенно ясно, что чехи будут до конца настаивать на арбитраже. Поэтому нам, если мы не хотим разрыва отношений, который я по-прежнему считаю при нашем отказе идти на арбитраж вероятным, то нам необходимо найти выход, который, с одной стороны, не вызывал бы риска разрыва отношений и, с другой стороны, чтобы арбитража все-таки избежали»[1003]. Такой выход был подсказан чехословацким представителем в Женеве З. Фирлингером, намекнувшим советскому делегату Б.Е. Штейну, что МИД ЧСР мог бы согласиться на рассмотрение спора относительно обоснованности «дела Ванека» в согласительной комиссии. Этот и другие «вопросы, связанные с делом Ванека, мы вносим в инстанцию», сообщал 27 марта первый заместитель наркоминдела[1004].
Недоступность текста обращения НКИД к руководству ЦК ВКП(б) не позволяет судить о степени соответствия предложений ведомства постановлению Политбюро и, тем более, об их мотивировке. Несомненно, однако, что наряду с упорством чехословацкой стороны, на решение об изменении советской позиции повлияли неблагоприятные международные комментарии возникшего в начале марта «дела Штерна-Васильева-Любарского», когда сходные обвинения в провокации войны с СССР были предъявлены должностному лицу Польской республики. Поскольку советские власти согласились допустить на судебное разбирательство обвинений против Штерна и Васильева представителей польской миссии в Москве, отказаться от аналогичной акции в отношении миссии ЧСР было затруднительно (тем более, что чехословацкие дипломаты протестовали против абсурдных обвинений своего сотрудника гораздо резче поляков). Найденный НКИД и одобренный Политбюро компромисс не мог поставить под сомнение декабрьский сценарий ОГПУ или принципиальную позицию СССР в отношении недопустимости для него любых процедур международного арбитража и вместе с тем предоставлял Чехословакии некую моральную компенсацию.
30 марта М.М. Литвинов направил полпреду в Праге санкционированную Политбюро директиву[1005], и 2 апреля Аросев предстал перед «удивленным задержкой нашего ответа» Э. Бенешем. Ознакомившись с советским предложением, министр оспорил невозможность для СССР найти арбитра, например, в Турции или Германии; полпред «настаивал на том, что наша социальная и экономическая структура в корне отличается от такой же в Европе и поэтому предпочитали бы договориться без арбитров». Он далее пояснил, что согласительная комиссия может быть создана специальным соглашением, и ее полномочия будут ограничены разбором лишь одного из аспектов «дела Ванека». Аросев не мог скрыть бессмысленность предложенной Москвой процедуры, заявив в ответ на возражение Бенеша, что если голоса членов советско-чехословацкой комиссии разделятся поровну, «то у нас остается возможность придти к соглашению обычным дипломатическим путем» (т. е. вернуться к взаимным препирательствам предшествующих месяцев). Обсуждение этой темы министр закончил предложением предоставить ему «на отзыв» «детальный и конкретный проект предлагаемой нами комиссии»[1006]. 11 апреля Аросев изложил заместителю министра иностранных дел ЧСР К. Крофте существо посланного им в Москву проекта соглашения о согласительной комиссии[1007].
Судя по отсутствию каких-либо материалов о дальнейших дискуссиях по «делу Ванека», убедившись, что ею достигнут предел возможных уступок со стороны СССР и дальнейшие переговоры ни к чему более приведут, Прага перестала проявлять интерес к предложенной СССР схеме. Сведений относительно проведения и исхода закрытого судебного процесса над Годицким не обнаружено.
1 апреля 1932 г.
21. – О торговых операциях с Финляндией.
а) Разрешить увеличить план импорта из Финляндии с 700 тыс. рубл. (27 млн. ф.м.) до 4,5 млн. (173 млн. ф.м.) по прилагаемому списку (см. приложение).
б) Закупаемые сверх импортного плана товары в Финляндии, могущие быть реализованы в Торгсине, передавать в первую очередь ему для реализации на инвалюту по ценам, выше закупаемых.
в) Обязать т. Розенгольца дать сообщение в отделе хроники о произведенных в Финляндии закупках на 5 млн. марок и впредь после закупки каждой категории товаров объявлять об этом в печати.
Выписка послана: т. Розенгольцу.
Протокол № 94 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.4.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 34.
За парафированием пакта о ненападении не последовало быстрой его ратификации. Президент Финляндии П. Э. Свинхувуд не желал торопить события. Финляндия ратифицировала пакт только 11 июля 1932 г. Полпред Майский прямо называл в марте 1932 г. поставленную перед ним задачу добиться быстрейшей ратификации невыполнимой. Он писал Б.С. Стомонякову: «Вы хотите, чтобы в тот момент, когда Эстония и Румыния вообще отказываются подписывать пакт, когда Франция и Польша не хотят подписывать парафированных текстов… чтобы в такой момент Финляндия решилась на свой страх и риск ратифицировать пакт». Полпред обращал внимание руководства на то, что у СССР «скромные экономические козыри», имеющие к тому же в основном форму «неопределенных обещаний»[1008]. Хотя нельзя отрицать прямую связь между позицией Майского и решением Политбюро от 1 апреля об активизации торговых отношений с Финляндией, едва ли оно не вызывало принципиальных возражений со стороны НКВТ, всегда скептически относившегося к возможностям развития торговли с Финляндией и государствами Прибалтики, и НКИД. В письме Майскому, отправленному одновременно с вынесением решения Политбюро, член Коллегии Стомоняков писал: «Ваше заключение о том, что «можно думать», что Коскинен будет оттягивать ратификацию в ожидании наших заказов, представляется мне все еще слишком оптимистическим. Нашими заказами мы не побудим Финляндию, после того как у нее состоялось соглашение с другими лимитрофами пойти на ратификацию. Я, конечно, не хочу сказать, что, теоретически говоря, финнов вообще нельзя было бы купить, – я полагаю лишь что заказами в возможных для нас размерах сделать этого невозможно»[1009]. Позиция Стомонякова объясняется, прежде всего, его убежденностью, что отношения СССР с соседями на востоке Балтики определяются исключительно международно-политическими факторами, а не уровнем торговли. Б.С. Стомоняков, А.П. Розенгольц и, скорее всего, руководящие члены Политбюро (в отличие от Майского) рассматривали программу закупок как кратковременную (или разовую) уступку Финляндии. Политбюро поддержало позицию НКИД по вопросу о закупке молочных продуктов в Финляндии. Майский неоднократно подчеркивал в своих донесениях, что закупка молока на 500 тыс. рублей даст эффект, равный размещению заказов для финской промышленности на 3 млн. рублей, поскольку может основательно повлиять на настроения финского крестьянства, до сих пор, в силу кризиса сельского хозяйства, являющегося социальной базой лапуаского движения.
Согласно приложению к данному пункту протокола Политбюро, основная часть выделяемых на закупки средств направлялась не на приобретение бумаги (как это было в 20-х гг.), а на закупки ферросплавов, электрооборудования, моторов. Лишь десятая часть средств отпускалась на приобретение продукции сельского хозяйства[1010].
Период оживления двусторонних торговых связей был кратким. Поскольку дополнительный нажим на НКВТ со стороны НКИД явно не нашел бы поддержки со стороны Политбюро, руководство внешнеполитического ведомства настоятельно рекомендовало полпреду в Хельсинки при встречах с представителями финских политических и деловых кругов отрицать взаимосвязь между ратификацией подписанного в январе пакта и советскими заказами. Майский должен был подчеркивать, что, «помимо коммерческих условий», советской стороной будет учитываться и «атмосфера в наших отношениях»[1011].
8 апреля 1932 г.
3. – О Финляндии (т. Розенгольц).
Принять предложение Наркомвнешторга: т. Краевскому принять предложение финнов о встрече с ними и шведами для переговоров об организации лесного экспорта; добиваться, чтобы время встречи было до конференции Лиги Наций по лесу; при ведении переговоров придерживаться прежних директив Политбюро.
Выписка послана: т. Розенгольцу.
Протокол № 95 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 8.4.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 81.
В начале 1931 г. Политбюро дважды рассматривало вопросы советского экспорта леса[1012]. На протяжении зимы 1931–1932 г. контакты между представителями «Экспортлеса» и представителями шведских и финских экспортеров продолжались. К прежним причинам, вынуждавшим советскую сторону искать компромисс со своими основными конкурентами на европейском рынке, добавилась еще одна. Если шведские и финские фирмы, несмотря на кризисную ситуацию на рынке, смогли, благодаря снижению себестоимости и повышению качества продукции, несколько увеличить объемы продаж, то советская лесная торговля с трудом удерживала достигнутый в 1930–1931 гг. уровень[1013]. Удержание позиций при помощи демпинговых методов к весне 1932 г. становилось для СССР экономически бессмысленным. Попытки добиться повышения качества товаров «Экспортлеса» при сохранении на них низких цен не удались. Исполняя принятое 12 августа 1931 г. постановление СНК № 687 о штрафах за экспорт недоброкачественных товаров, приемщики «Экспортлеса» браковали иногда до 60 % продукции[1014]; это, впрочем, не гарантировало высокого качества проходивших контроль партий товара[1015]. Тем не менее, на протяжении зимы-весны 1932 г. НКВТ и «Экспортлес» продолжали придерживаться рекомендованной ими Политбюро еще в декабре 1931 г. тактики: затягивание переговоров, но не доведение до их срыва, при форсированной продаже на европейском рынке[1016].
Судя по имеющейся фрагментарной информации, переговорные позиции шведских и финских фирм (при некоторых различиях между ними по ряду вопросов) и советской стороны с весны 1931 г. существенных изменений не претерпели. Это объясняет ссылку на сохранение в силе «прежних директив Политбюро»[1017]. Детальное содержание сделанных со стороны шведских и финских фирм «Экспортлесу» предложений (о квотах, политике цен и способах контроля) неизвестно. Скорее всего, они были близки к тем, которые рассматривались на Политбюро 1 июня 1932 г.[1018]
13 апреля 1932 г.
Опросом членов Политбюро
50/28. – О задолженности НКПС.
Принять предложение Рудзутака (см. приложение).
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Калмановичу, Андрееву, Литвинову.
Приложение к п. 50/28-опр. (О.П.) пр. ПБ № 96
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 13.IV.1932 г.
По вопросу задолженности НКПС иностранным железным дорогам за международные грузовые перевозки.
1. Обязать Госбанк и НКПС в трехдневный срок ликвидировать задолженность германским и литовским железным дорогам за январь и февраль месяцы 1932 г. в сумме 522.434 доллара и польским дорогам задолженность за январь, февраль и март месяцы 1932 г. – 339.397 долларов, а всего 861.831 доллар или 1.700 тыс. рублей (округленно).
2. Добиться отсрочки платежей за апрель 1932 г.
3. Обеспечить увеличение валютного плана расходов НКПС на апрель 1932 г.
Протокол № 96 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП от 16.4.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 95, 103.
Проблема задолженности СССР за транзитные перевозки (главным образом, хлебных и лесных продуктов) в 1931–1932 гг. заняла существенное место в отношениях СССР с соседними странами Северо-Восточной Европы и была связана с политическими расчетами Москвы на поддержание сотрудничества с Берлином и Вильнюсом, скомпрометированного успешным ходом советско-польских переговоров о пакте ненападения. В начале декабря 1931 г. на сессии советско-германской Специальной Комиссии в Берлине советская сторона выдвинула «большую программу» развития железнодорожных перевозок. Немцам предлагалось «специальной тарифной политикой создать для нас возможность сделать основным направлением для наших хлебных и лесных грузов штеттинское направление и направление на Восточную Пруссию по советско-литовско-германскому сообщению»[1019]. «Необходимо, однако, признать, – констатировал полпред Хинчук, – что технически эта комбинация трудно осуществима, во-первых, потому что польское направление более коротко, во-вторых, польские жел[езно-] дор[ожные] тарифы чрезвычайно низки и железные дороги существуют на государственные субсидии, в-третьих, потому что при направлении грузов в Центральную Германию через Восточную Пруссию их надо вести через польский Коридор, в котором поляки могут устанавливать транзитные тарифы по своему усмотрению»[1020]. В финансовом выражении советский железнодорожный план предполагал поэтому предоставление Германией «громадных скидок, доходящих по отдельным грузам едва ли не до 80 %»[1021]. Политический соблазн для немецких националистических кругов был, однако, силен. В беседе с заместителем наркома внешней торговли Вейцером и заместителем заведующего Экономическо-правовым отделом НКИД Розенблюмом министр Г. Тревиранус (годом ранее прославившийся своей речью о необходимости изменения польской границы на западе) высказался «в принципе в пользу подобной комбинации»[1022]. «Очень положительно» отнесся к советскому плану и председатель Рейхсбанка Дорнмюллер[1023] На заседании Специальной Комиссии немецкие представители высказали сомнения в способности переживающей кризис Германии предоставить крупные тарифные скидки, предусмотренные в предложениях СССР. Дискуссия была фактически прервана заявлением представителя МИД Шлесингера о том, что до ликвидации задолженности СССР германским железным дорогам прогресс в этом направлении невозможен[1024].
В ноябре 1931 г. официальной нотой ликвидировать задолженность по перевозкам потребовало польское правительство. Просроченные платежи за 1931 г. были внесены без специального постановления Политбюро, однако в первом квартале 1932 г. проблема своевременной оплаты транзита обострилась и потребовала обращения заместителя председателя СНК СССР Я. Рудзутака в «инстанцию». В апреле-мае 1932 г. ситуация повторилась, и по инициативе НКИД вопрос был вновь поставлен перед руководством ЦК ВКП(б)[1025].
19 апреля 1932 г.
Опросом членов Политбюро
30/7. – О Финляндии.
Принять следующее предложение НКИД:
«Не уступать в вопросе о свидетелях, а чтобы облегчить положение Коскинена, которого давят враждебные нам финские группы, предложить ему в той статье, где говорится о праве каждой страны приглашать экспертов, сказать, что кроме экспертов, в случае согласия обоих сторон, могут быть приглашены и другие лица».
Выписка послана: т. Крестиискому.
Протокол № 97 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 23.4.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 108.
На протяжении 1920-х – 1930-х гг. СССР последовательно отказывался от признания в своих отношениях с иностранными государствами каких-либо арбитражных процедур. Необходимость его замены иными механизмами разрешения конфликтов, связанных с реализацией двусторонних договоров и соглашений, привела к выдвижению идеи согласительных комиссий, действующих на основе соответствующих конвенций. Вопрос о ведении переговоров о подписании таких соглашений с соседними государствами (прежде всего – с Польшей) начал обсуждаться вскоре после подписания Московского протокола 9 февраля 1929 г. Коллегия НКИД признала тогда «отсутствие политической заинтересованности Союза в заключении согласительных конвенций с иностранным государством» и дала общую директиву «в случае предложения иностранного государства заключить с нами согласительную конвенцию, по возможности, уклоняться от него»[1026]. «Коллегия исходила при этом из того основного положения, что при отношении к нам капиталистического мира и при характере возникающих с ним конфликтов согласительные комиссии лишь в редких случаях будут приходить к удовлетворительным результатам. По всей вероятности, в большинстве случаев обе стороны будут оставаться на своих позициях. Поскольку к заседаниям согласительных комиссий будет неизбежно привлекаться внимание широких общественных кругов за границей, неудачи этих комиссий будут широко использоваться для враждебных выступлений против нас». Кроме того, руководители Наркоминдела опасались, что «мало кто из западных государств пойдет на такую конвенцию с нами, как Германия»: «Почти все будут, конечно, настаивать на включении в согласительные комиссии нейтральных председателей, что если не юридически, то политически придаст согласительным комиссиям характер арбитражных комиссий»[1027]. Б.С. Стомоняков, являвшийся одним из наиболее решительных противников заключения СССР согласительных конвенций, считал их «неприятными и дорогостоящими», ибо «количество спорных вопросов, возникающих из неправильного применения договоров или их нарушения, в которых мы (т. е. СССР) заинтересованы, крайне невелико. Зато другая сторона заинтересована во многих таких делах, поскольку наш аппарат дает больше оснований для жалоб на нарушение договоров или прав граждан».
Переговоры о пактах ненападения с западными соседними государствами и их подписание, тем не менее, вынудили советскую дипломатию приступить к реализации одного из условий этих пактов (в том числе подписанного 21 января 1932 г. договора с Финляндией) – к заключению двусторонних Конвенций о согласительной процедуре. Из прибалтийских государств СССР отказывался вести переговоры о согласительной конвенции, только с Литвой (договор о ненападении был заключен с нею еще в 1926 г.). Член Коллегии НКИД Б.С. Стомоняков выступил крайне резко против подобных переговоров. Другие руководители НКИД поддержали эту позицию (с неудачной попыткой добиться положительного решения Коллегии НКИД о начале переговоров с Литвой выступил заведующий 1 Западным отделом Н.Я. Райвид[1028]).
22 марта, после неоднократного взаимного зондирования, министр иностранных дел Юрье-Коскинен предложил полпреду приступить к переговорам о согласительной процедуре. Первая встреча делегаций СССР и Финляндии состоялась 31 марта 1932 г. Еще в период переговоров о ненападении НКИД снабдил И.М. Майского французским проектом конвенции о согласительной процедуре и запиской Н.Я. Райвида «Об основных различиях между советско-германской согласительной конвенцией и проектом тов. Аралова». Заведующий 1 Западным отделом предлагал Майскому довести до сведения финской стороны именно текст «германской» конвенции в качестве рекомендуемой основы для согласительной конвенции с Финляндией. Впрочем, Стомоняков оставлял за полпредом право вручить Юрье-Коскинену любой проект, хотя и считал французский вариант менее выгодным «в направлении придания согласительной конвенции судебно-следственных функций»[1029]. Советской стороне, по его словам, следовало избегать того, чтобы предусмотренная в конвенции согласительная комиссия, помимо обычных функций рассмотрения неразрешенных в дипломатическом порядке принципиальных споров, вытекающих из нарушения или различного толкования существующих договоров, приобрела бы и функции «как бы новой судебной инстанции, куда финпра могло бы переносить более важные дела, по которым наши суды вынесли не удовлетворяющие Финляндию приговоры»[1030]. Сама постановка вопроса о вызове на заседания согласительной комиссии свидетелей считалась поэтому неприемлемой.
Рассматриваемый вопрос был внесен в Политбюро Н.Н. Крестинским. 19 апреля, когда трудные переговоры Майского с Юрье-Коскиненом близились к завершению (конвенция была подписана 22 апреля), он обратился к Сталину с просьбой утвердить предлагаемое решение путем опроса членов «инстанции». Содержание записки позволяет предположить, что Крестинский исходил из возможности, что Генеральный секретарь мог быть уже осведомлен Майским относительно расхождений между ним и руководством НКИД. Коллегия не разделяла мнение полпреда, что вопрос о свидетелях и экспертах является несущественным и по нему следует уступить финской стороне, так как в противном случае ратификация пакта о ненападении окажется отложенной на неопределенное время, в течение которого общая политическая ситуация может измениться настолько, что не удастся избежать одновременной ратификации пактов другими прибалтийскими государствами. К письму Крестинского прилагался проект постановления Политбюро из двух пунктов, которые в окончательном решении Политбюро были сведены в один[1031]. Решение было оценено Стомоняковым как «неожиданно более жесткое», несмотря на то, что в нем по существу подтверждалась прежняя позиция СССР по вопросу о свидетелях. Уступка финской стороне – согласиться на приглашение, кроме экспертов, других лиц, – означала, что Политбюро не допускало упоминания термина «свидетель», не говоря уже о возможности приглашения свидетелей с обоюдного согласия сторон, как предлагала Коллегия НКИД[1032]. Коллегия предлагала «отклонить предложение финнов о праве каждой стороны приглашать на заседания согласительной комиссии свидетелей и об обязанности согласительной комиссии выслушивать всех этих свидетелей». Вместе с тем она не была против «вызова и допроса свидетелей» с обоюдного согласия сторон[1033].
Решение Политбюро было незамедлительно доведено до сведения И.М. Майского, однако при переговорах с финнами он отклонился от полученной директивы. В результате, как отмечал позднее Стомоняков, вторая статья Конвенции предоставила им право требовать вызова «лиц, свидетельские показания которых» финская сторона сочла бы полезными, тогда как следовало добиться формулировки: «сообщения которых будут признаны полезными» (что позволяло трактовать эти «лица», как «экспертов», а не как «свидетелей»). Замена «сообщение» понятием «d?position» – «свидетельское показание», считал Б.С. Стомоняков, было явным просчетом полпреда (который он объяснил Секретарю ЦК ВКП(б) недостаточным знанием Майским французского языка)[1034]. Член Коллегии, правда, отмечал, что вызов таких лиц может произойти только по постановлению самой комиссии, а не одной из сторон (что соответствовало решениям Коллегии и Сессии), но формулировка конвенции все же давала финской стороне право настаивать на вызове свидетелей и продолжении судебного следствия. Можно отклонить просьбу раз, другой, но делать это постоянно невозможно, и когда-нибудь количество перейдет в качество и создаст для СССР политические затруднения, констатировал он.
Невыполнение решения Политбюро, несмотря на раздражение Стомонякова, не имело серьезных последствий для Майского, полугодом позже назначенного полпредом в Англии, однако отозвалось в переговорах СССР о заключении согласительных конвенций с Латвией и Эстонией[1035].
23 апреля 1932 г.
15. – О продлении торгового договора с Латвией (т.т. Стомоняков, Крестинский, Розенгольц).
а) заявить латышам, что продлить договор в виду мирового экономического кризиса на старых условиях не можем.
б) по импорту из Латвии исходить из цифры 2 млн. рублей максимум.
Выписки посланы: т.т. Крестиискому, Розенгольцу.
Протокол № 97 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 23.4.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 107.
Срок действия заключенного на пять лет советско-латвийского торгового договора истекал 5 ноября 1932 г. За полгода до этой даты (т. е. к 5 мая) советской стороне предстояло решить, денонсировать ли договор, в противном случае его действие автоматически продлевалось еще на один год. В силу различных причин. Москве не удалось использовать торговый договор для извлечения крупных политических выгод в Латвии, тогда как с точки зрения двусторонних связей он наносил СССР заметный экономический ущерб. На протяжении почти всего периода действия договора Советский Союз имел в торговле с Латвией отрицательный платежный баланс (что фактически предусматривалось самим договором). В 1931 г., когда доля СССР в латвийском экспорте достигла 20,2 %, дефицит составил 16,5 млн. лат[1036]. Поэтому наркому внешней торговли А.П. Розенгольцу и члену Коллегии НКИД Б.С. Стомонякову оказалось нетрудно к концу зимы придти к обоюдному мнению о желательности денонсации этого договора в принципе[1037].
В начале апреля выработка позиции СССР вступила в заключительную фазу, 8 апреля торгпреда Позднышева экстренно вызвали к Розенгольцу.
Включение в повестку дня Политбюро вопроса о судьбе торгового договора произошло по инициативе НКИД. 14 апреля Б.С. Стомоняков обратился к Сталину со специальной запиской по этому поводу. Изложенная в ней позиция Коллегии НКИД отличалась меньшей жесткостью по сравнению с высказывавшим ранее мнением Стомонякова. В качестве основной причины, заставлявшей ставить вопрос о денонсации торгового договора, называлось невыполнение СССР, в силу объективных экономических обстоятельств, своих обязательств по договору. За пять месяцев 1932 г. в Латвии было размещено заказов на 100 тыс. руб., и к концу года эта цифра могла увеличиться только втрое, составив 3 % от объема заказов, предусмотренного договором. Коллегия НКИД считала необходимым поставить перед латвийским правительством вопрос о внесении изменений в старый торговый договор, признавая при этом, что заключить с Латвией новый договор без материальных обязательств в тот момент невозможно, а иметь договорные отношения в сфере торговли – крайне желательно. Таким образом, НКИД предлагал денонсировать договор и немедленно вступить в переговоры о новом договоре. Руководители внешнеполитического ведомства полагали, что причины, по которым пятью годами ранее Политбюро согласилось пойти на заключение договора, сохраняли свое значение: «Вследствие географического положения, позиция Латвии в отношении СССР имеет огромное значение для поведения остальных прибалтийских стран, особенно в военное время. Если мы торговым договором не добились ориентации Латвии на СССР, то мы, несомненно, заключением этого договора вбили клин между Латвией и Эстонией., и помешали образованию польско-прибалтийского союза». Ход советско-латвийских переговоров о пакте ненападения подтвердил истинность этого мнения, так как Латвия не поддалась на чрезвычайно сильный нажим Эстонии, Польши и Румынии. В письме утверждалось, что торговым договором были созданы фактические гарантии против того, чтобы какое-нибудь латвийское правительство «перешло к политике авантюризма в отношении СССР». Чтобы достигнутые успехи «не пошли насмарку», НКИД предлагал в новом договоре на первый год его действия определить сумму советских заказов в 5 млн. руб., объем транзита – в 200–300 тыс. тонн. В приложенном к письму проекте предлагалось также назначить делегацию для переговоров и предусмотреть выдачу заказов в Латвии на 5 млн. руб. до 5 ноября 1932 г., когда истекал срок действия договора[1038].
Существо записки Б.С. Стомонякова в ЦК ВКП(б) было сообщено А.П. Розенгольцу и вызвало с его стороны возражения, о чем он предупредил НКИД. Накануне заседания Политбюро нарком внешней торговли направил Сталину записку, в которой оспаривался основной тезис своих коллег о целесообразности сохранения с Латвией торговых отношений на принципах денонсируемого договора. Розенгольц высказывался против пролонгации торгового договора с Латвией еще на один год (такой вариант рассматривался в НКИД) и предупреждал, что заключение нового договора явится трудным делом, так как «развращенные совершенно исключительными льготами» латыши будут с трудом идти на уступки. С экономической точки зрения, утверждал Розенгольц, полное прекращение торговли с Латвией не нанесет СССР сколько-нибудь значительного ущерба. Максимальную сумму советских заказов, которую следовало зафиксировать в новом договоре, Наркомвнешторг исчислял в 3 млн. руб. (около 8 млн. лат) (для сравнения: в 1930 г. СССР импортировал из Латвии на сумму в 14,5 млн., в 1931 г. – на 14,8 млн. рублей)[1039]. Приложенный к письму проект постановления включал следующие пункты: (1) денонсация советско-латвийского торгового договора; (2) построение нового договора на принципе нетто-баланса, при этом Латвии можно сообщить о согласии закупать продукты сельского хозяйства (не более чем на 1,5 млн. руб. в год); (3) ежегодный объем транзита в размере 300–350 тыс. тонн[1040].
Несмотря на дипломатичность первой части постановления, Политбюро по существу заняло гораздо более жесткую позицию, чем предлагал не только НКИД, но и НКВТ. Согласно принятому решению, максимальный объем советского импорта из Латвии должен был быть сокращен в семь раз по сравнению с уровнем 1930–1931 гг. и составить всего 2 млн. рублей (что было в полтора раза меньше по сравнению с предложениями НКВТ). Использованная Политбюро формула предполагала не только безусловную денонсацию договора 1927 г., но и переход от принципа согласования контингентов к нетто-балансу. Кроме этих письменных директив, на заседании Политбюро Генеральный секретарь дал указание добиваться от латвийских властей проведения мероприятий против белогвардейских организаций и газет в качестве компенсации за уступки в торговом договоре[1041].
Причины такого ужесточения линии в отношении торговых связей с Латвией можно установить лишь предположительно. На результатах обсуждения явно сказались как раздражение против Риги, как одного из главных центров антисоветской деятельности, так и кризисное положение советской внешней торговли, пытавшейся примирить интересы нормальных экономических сношений с требованиями внутренних хозяйственных органов и многочисленными ограничениями, обеспечить промышленный импорт и устранить усугубленную мировым аграрным кризисом нехватку валюты. Вместе с тем, решение Политбюро не только находилось в русле представлений А.П. Розенгольца, всегда считавшего развитие торговли с Прибалтикой коммерчески невыгодным, но и не противоречило позиции Б.С. Стомонякова и курируемого им 1 Западного отдела НКИД, что внешнеполитическая ориентация стран Прибалтики мало зависит от их экономических связей с другими государствами (Стомоняков придерживался этой оценки почти до конца 1934 г.). Дополнительную степень свободы в определении позиции по торговым отношениям Кремлю придавало и состоявшееся 5 февраля подписание советско-латвийского договора о ненападении.
Хотя угрозы денонсировать торговый договор звучали из Москвы на протяжении предшествующего года, вплоть до начала 1932 г., латвийская сторона была уверена, что этого не случится (основанием для этого представления, вероятно, были переговоры о пакте ненападения). Когда полпред А.И. Свидерский передал ноту о денонсации в МИД Латвии, то это оказалось для латвийских дипломатов полной неожиданностью. По словам Свидерского, в министерстве воцарилась паника и смущение, все чиновники, высшие и средние, переругались, искали виновных в неосведомленности[1042]. Латвийское правительство демонстративно поспешило осуществить намечавшуюся еще зимой замену посланника в Москве Сескиса шефом отдела печати МИД А. Бильманисом. Сескис был обвинен в том, что вовремя не предупредил о возможной денонсации договора.
Переговоры СССР и Латвии о новом торговом соглашении открылись в Москве в сентябре 1932 г.[1043]
4 мая 1932 г.
5. – О взаимоотношениях с Эстонией (т.т. Розенгольц, Литвинов, Стомоняков).
Принять предложения т. Розенгольца (см. приложение).
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Литвинову, Зеленскому.
Приложение к п. 5 (о.п.) пр. ПБ № 89
Постановление ЦК ВКП(б) от 4 мая 1932 г. по делу Пертселя.
1. Признать недопустимым официальное участие в этих судебных делах правительственных организаций, т. е. Торгпредства и НКВнешторга.
2. Признать, что Центросоюз должен не только формально, но и по существу серьезно защищать перед эстонским судом по этим делам.
3. Ввиду исчерпания всех средств дипломатического воздействия на эстонское правительство признать необходимым немедленно прибегнуть к следующим мерам экономического давления на Эстонию.
4. Предложить НКВТ прекратить всякие закупки в Эстонии, а также завоз туда непроданных товаров для продажи им для транзита в третьи страны, а равным образом прекратить фрахтование эстонских судов. Одновременно сократить аппарат Торгпредства и Совторгфлота, оставив минимальное количество людей для поддерживания формальных экономических отношений.
5. Разрешить Торгпреду в Эстонии дать понять эстонскому правительству, что ввиду отмены последним правовых гарантий для СССР и Торгпредства, он не может осуществлять намеченной положительной программы заказов и других сделок в Эстонии.
Протокол № 98 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 4.5.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 113, 123.
Начало «делу Якоба Пертселя» было положено в 1920 г., когда представители Всероссийского Центрального Союза Потребительских Товариществ (Центросоюза) при участии полпреда И.Э. Гуковского заключили с этим эстонским коммерсантом договор на поставку 3000 тонн железных гвоздей и 16 000 бочек цемента. Пертсель поставил около 600 пудов гвоздей и 9000 бочек цемента. Оплатив часть заказа, советская сторона отказалась от оставшейся, что привело к возбуждению иска о выплате неустойки, который был предъявлен Центросоюзу. Суд первой инстанции (ревельско-гапсальский мировой съезд) в 1922 и 1927 гг. удовлетворял иск Пертселя, обязав Центросоюз выплатить около 180 тыс. германских марок и возместить судебные издержки (около 26 тыс. марок). Следующее судебное рассмотрение дела в этом суде состоялось в декабре 1930 г. и привело к снижению первой из этих выплат до 3,5 тыс. эстонских крон; спустя год судебная палата определила их в 11 тыс. крон[1044]. Помимо этого в судебном производстве находилось еще два иска Пертселя: один на 169 000 крон, другой – на 2 миллиона золотых рублей. К 1932 г. Пертсель, не без участия советских органов, отказывавшихся выполнять постановления суда, был фактически разорен, в результате чего его освободили даже от оплаты судебных издержек.
Затянувшимся судебным разбирательством был создан прецедент, более чем неприятный для советской стороны: случаи невыполнения или недобросовестного выполнения обязательств советскими внешнеторговыми организациями были далеко не единичны. Нести полную материальную ответственность за их действия советское государство отказывалось, и ситуацию, при которой на счета торгпредства мог быть наложен арест, а само оно фактически становилось банкротом, рассматривало как недопустимую. Поэтому НКВТ и торгпредству в Таллине запрещалось принимать официальное участие в судебных разбирательствах (последнее должно было ссылаться на свой особый статус). Положение Москвы осложнялось отсутствием прочной юридической основы деятельности торгпредства в Эстонии (из прибалтийских государств лишь с Латвией СССР была заключена специальная Конвенция о третейских судах по торговым и гражданским делам (10 октября 1927 г.). Эти обстоятельства объясняют готовность советского руководства идти на огромные уступки: в случае «ликвидации» в той или иной форме дела Пертселя оно в апреле 1932 г. соглашалось взять на себя беспрецедентные обязательства выдачи в Эстонии заказов на половину всей выручки от реализации экспорта советских товаров[1045]. Другой способ «ликвидации» инцидента был выдвинут в начале 1932 г. торгпредом Г.К. Клингером, предлагавшим НКВТ скупить через третьих лиц большинство векселей Пертселя. Полномочный представитель СССР в Таллине также считал этот способ решения проблемы наиболее практичным. В конце марта заместитель наркома внешней торговли Элиава ответил Клингеру категорическим отказом, не приводя при этом никаких аргументов против проведения этой акции, возможной причиной было то, что это явилось бы фактическим признанием законности претензий Пертселя[1046].
Вплоть до конца весны 1932 г. руки Москвы связывали переговоры о заключении советско-эстонского пакта о ненападении и борьба с усиливавшейся международной кампанией против советского демпинга. Эти обстоятельства (и огромное положительное сальдо СССР в торговле с Эстонией), судя по всему, заставляли НКИД с крайней осторожностью относиться к применению экономических санкций в отношении Таллина из-за «дела Пертселя» (фактически – «дела Центросоюза»). Набор сформулированных в постановлении (пп. 3–4), вероятно, исходил от НКВТ и был принят по настоянию А.П. Розенгольца. За принятие мер экономического давления в отношении Эстонии, занимавшей в тот период «такую ярко враждебную к нам позицию, какой не занимала за последние годы», высказывались еще в конце февраля 1932 г. участники межведомственного совещания, созванного по инициативе НКИД. Наконец, в конце апреля Ш.З. Элиава и Б.С. Стомоняков обратились с совместным письмом в Политбюро ЦК ВКП(б). К письму был приложен проект постановления, полностью совпадающий с его окончательным текстом[1047]. Выбор времени для обращения в ЦК и принятия им решения об иске Пертселя, возможно, объясняется вступлением в завершающую фазу шестимесячных переговоров о пакте ненападения с Эстонией. Симптоматично, что постановление Политбюро было принято в день подписания этого пакта.
Санкционированные Политбюро меры привели к немедленным результатам. Уже месяц спустя Б.С. Стомоняков писал Ф.Ф. Раскольникову, что «неудачное маневрирование Торгпредства при выполнении директив о свертывании работы наших хозорганов в Эстонии привело к тому, чего я с самого начала опасался. Эстонские газеты уже пишут о «начавшейся экономической войне между СССР и Эстонией». Он требовал от полпреда избегать не только всяких шагов, но даже отдельных заявлений в неофициальных беседах (!), которые могли бы быть истолкованы как подтверждение того, что правительство или хотя бы НКВТ объявили экономическую войну Эстонии. «Для нас особенно опасно становиться на путь бойкота, ибо это облегчило бы нашим врагам пропаганду и проведение бойкота против СССР». Сокращение торговых оборотов следовало объяснять неуверенностью настроений советских хозорганов[1048]. Заявление временного поверенного в делах М.В. Буравцева (сделанные в частной беседе) о том, что СССР «неизбежно договорится» с великими державами и Польшей, а в результате государства Прибалтики «останутся у разбитого корыта», вызвало резкую реакцию Б.С. Стомонякова: «Возмутительно. Это великодержавный тон»[1049]. Однако, ситуация для Эстонии сложилась исключительно тяжелая: в первом полугодии 1932 г. экспорт СССР составил в 1624 тыс. эстонских крон, а советский импорт – лишь 66 тыс. крон[1050].
Эстонское правительство оказалось перед необходимостью повлиять на судебные органы. В начале октября 1932 г. Гражданское отделение Государственного суда Эстонской республики вынесло благоприятное для советской стороны решение по кассационной жалобе: «рассмотрение и разрешение упомянутого иска не относится к компетенции судебных установлений Эстонской республики». Торгпред Г.К. Клингер в срочной телеграмме члену коллегии НКВТ Ш.М. Дволайцкому с облегчением отмечал, что возник прецедент, закрепивший за торгпредством дипломатический иммунитет[1051]. В конце октября 1932 г. нарком Розенгольц предложил Политбюро вернуться к налаживанию с Эстонией нормальных экономических отношений[1052].
12 мая 1932 г.
Опросом членов Политбюро
[нрзб.] – О задолженности НКПС.
Обязать Валютную комиссию ликвидировать текущую задолженность НКПС иностранным жел. дорогам. Приравнять платежи инодорогам к коммерческим векселям.
Выписки посланы: т.т. Рудзутаку, Крестиискому, Миронову.
Протокол № 100 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.5.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 12. Л. 135.
Проблема оплаты задолженности по железнодорожным перевозкам была поставлена НКИД перед Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) 9 мая 1932 г. В письме Крестинского напоминалось, что «в течении последних двух лет между НКПС и польскими железными дорогами не прекращаются недоразумения, возникающие вследствие несвоевременной уплаты нами сумм, следуемых польским железным дорогам за провоз наших товаров», и этот вопрос неоднократно возникал не только в дипломатических и межведомственных дискуссиях, но и явился «предметом обсуждения Политбюро»[1053]. Толчком к новому обращению НКИД в Политбюро стали четыре вербальные ноты польского правительства, полученные Москвой с марта 1931 по апрель 1932 г. Нотой от 11 ноября 1931 г. Польша выдвинула требования о немедленном погашении задолженности и принятии мер, обеспечивающих впредь аккуратные платежи. В противном случае, предупреждала польская нота, будет прекращено кредитование перевозок советских грузов и введена «франкотурная оплата». Двумя нотами 1932 г. (от 4 февраля и 20 апреля) польское правительство напоминало о необходимости дать ответ на свой ноябрьский демарш[1054]. Между тем, наркомат по иностранным делам продолжал хранить вынужденное молчание, ибо, несмотря на его усилия в НКПС и Валютной Комиссии, «общего решения о производстве платежей в надлежащие сроки принято не было». В апреле 1932 г. был просрочен очередной платеж 103 тыс. долларов, в течение первой половины мая предстояла выплата польским железным дорогам еще 439 тыс. долларов, но, констатировал Крестинский, Валютная Комиссия не предоставила наркомату путей сообщения валютных ассигнований на эти цели. Беспокойство НКИД вызывала не только «опасность выполнения поляками их угрозы прекратить кредитование советских перевозок». Исполняющий обязанности наркома апеллировал к обостренному страху руководителей страны, что ее могут выставить несостоятельным должником: «посылка нам 4-х нот преследует, по-видимому, и другую цель – собрать в портфель польского МИДа коллекцию нот, с тем, чтобы в случае приведения вышеуказанной угрозы [в исполнение. – Авт.], опубликовать ноты в мировой буржуазной прессе слухи [sic] о неплатежеспособности СССР, нашедшей свое выражение в просрочках платежей по жел[езно]дор[ожным] расчетам».
НКИД просил Политбюро «принять решение о ликвидации текущей задолженности и о возложении на НКФин обязанности аккуратного производства платежей». Предложение удовлетворить требования польской ноты ноября 1931 г. сопровождалось практической рекомендацией «приравнять для этой цели жел[езно] дор[ожные] платежи к коммерческим векселям»[1055].
1 июня 1932 г.
2. – О Польше (т.т. Крестинский, Стомоняков, Рудзутак).
а) Осужденного преступника Польше не выдавать.
б) Обязать НКИД дипломатическим путем добиться соблюдения со стороны поляков мирного договора в части сплава леса по пограничным рекам.
в) До урегулирования вопроса о сплаве леса сократить до минимума железнодорожные перевозки через Польшу, не делая никаких заявлений по этому поводу и произведя оплату задолженности.
г) Предложить НКИД и ОГПУ не допускать новых конфликтов с Польшей по всяким мелким вопросам.
Выписки посланы: т.т. Крестиискому, Менжинскому – все, Андрееву – п. «в».
Протокол № 102 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.6.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 151.
Постановка на Политбюро серии вопросов советско-польских отношений была связана как с выявившимися в предшествующие месяцы частными проблемами на фоне укрепления политических контактов с Польшей, так и с общими ожиданиями, которые вызвали в Москве поражение правых партий на парламентских выборах во Франции и образование кабинета Э. Эррио – последовательного сторонника сотрудничества с Советской Россией. «Все говорит за то, что в связи со сменой правительства во Франции предстоит изменение позиции Франции, Польши и лимитрофов в отношении заключения пактов с нами», – подытоживал член Коллегии НКИД анализ поступавшей в Москву внешнеполитической информации[1056]. В этом русле воспринималось и предложение министра Залеского о польском посредничестве для возобновления переговоров СССР и Румынии о заключении пакта ненападения (запись этой беседы была направлена Крестинский Сталину)[1057]. В преддверии польско-румынско-советских переговоров высшее руководство СССР проявило заинтересованность в разрешении второстепенных конфликтов с Польшей, затрагивавших как хозяйственные и административно-юридические, так и политические аспекты двусторонних отношений.
Согласно ст. II Мирного договора 1921 г. обе стороны приняли на себя обязательство предоставить друг другу право свободного судоходства и сплава. На протяжении десятилетия советские хозяйственные организации беспрепятственно осуществляли сплав леса по пограничным рекам Случ и Морач (Белоруссия, район Мозыря). В июле 1931 г. лунинецкий староста объявил советской стороне о расторжении протокола местной пограничной комиссии по Житковичевскому району, которым определялись правила производства сплава. Это решение мотивировалось ссылкой на неурегулированность конфликтов на этом участке границы, прежде всего – инцидентом с ее переходом в 1930 г. рядовым Корпуса пограничной охраны Яном Границким. По сведениям ОГПУ, Границкий «перешел нелегально государственную границу и сделал попытку насильственного увода в Польшу трех советских крестьян, работавших в пограничной полосе, и применил для этой цели оружие, однако был задержан нашей погранохраной». В декабре 1930 г. «тройка» полпреда ОГПУ БССР приговорила Границкого к пяти годам заключения в концлагере[1058]. В результате позиции, занятой местными польскими властями, вопрос о возобновлении сплава и судьбе Границкого «был перенесен для разрешения в дипломатическом порядке». После длительных переговоров Варшава формально согласилась с допущением советского сплава, а Москва обещала рассмотреть возможность включения Границкого в список лиц, подлежащих персональному обмену[1059]. Весной 1932 г. наркомат лесной промышленности подготовил к сплаву в этом районе около 50 тыс. кубометров деловой древесины, «однако после открытия навигации этого года, когда древесина была спущена на воду и сплочена в плоты, со стороны Польши последовало запрещение в отношении сплава этого леса»[1060].
Новые переговоры полпредства в Варшаве с начальником Восточного департамента МИД Т. Шетцелем натолкнулись на «дело» Границкого; «известный своей враждебностью к СССР вообще и чрезвычайной непримиримостью к текущим делам», Шетцель ультимативно заявил, что сплав будет разрешен только в случае внеочередного персонального обмена солдата Корпуса погранохраны. Протестуя против установления связи между этими двумя вопросами и предъявив Польше устное обвинение в нарушение Рижского договора, НКИД был вынужден учесть заинтересованность наркомлеса в сплаве по пограничным рекам. Поэтому внешнеполитическое ведомство договорилось с Главным управлением пограничной охраны ОГПУ СССР о персональном обмене Границкого на «одного из советских пограничников, случайно попавших на польскую территорию». В ответ на сообщение об этом Шетцель потребовал безусловной выдачи Границкого, обещая при будущем общем персональном обмене «взять у нас на одного человека меньше». Обсудив создавшееся положение в середине мая 1932 г., Коллегия НКИД пришла к заключению, что принятие «наглого требования Шетцеля неизбежно создаст в польском МИД убеждение в полной безнаказанности для них политики шантажа» и явится «опасным прецедентом для наших отношений с Польшей», что в будущем может повлечь за собой «материальный ущерб, значительно больший, чем те убытки, которые Наркомлес понесет в советской валюте» при перегрузке леса на железные дороги. К этому примешивались и опасения ГУПО ОГПУ, что освобождение Я. Границкого «будет стимулировать переброску поляками на нашу границу с целью разведки или диверсии польских пограничников». НКИД предлагал послать МИД Польши «решительную ноту протеста против нарушения мирного договора и тактики Шетцеля», ужесточить пограничный режим и закрыть польские мельницы и плотины на пограничных реках, одновременно вступив с Польшей в переговоры о заключении генеральной сплавной конвенции[1061]. 17 мая Стомоняков информировал наркома лесного хозяйства Лобова о целесообразности отказаться в 1932 г. от сплава леса по Случу и Морочи. «Не входя по существу в состояние переговоров Наркоминдела с Польшей, – обращался С.С. Лобов к Генеральному секретарю ЦК ВКП(б), – мы приняли директиву тов. Стомонякова к исполнению». Изыскивая способы уменьшить неизбежные убытки, Наркомлес просил ЦК «дать Наркоминделу указание о быстрейшем урегулировании взаимоотношений с Польшей для того, чтобы иметь возможность как сплавить древесину этого года, так и дальнейшей эксплуатации богатых массивов этого района»[1062].
В связи с обращением Лобова председатель Валютной комиссии СНК СССР и Политбюро ЦК ВКП(б) Я.Э. Рудзутак отдал распоряжение Госбанку СССР приостановить платежи Польше по железнодорожным расчетам, предусмотренные майским постановлением Политбюро[1063]. В руководстве НКИД, однако, полагали, что под влиянием нажима Польша не только не откажется от взятой линии, но «может осуществить свою угрозу о прекращении приема транзитных советских товаров в кредит в счет будущих ж[елезно] д[орожных] расчетов». Поэтому Стомоняков просил Политбюро утвердить директивы по дальнейшим переговорам с Польшей о сплаве и «деле» осужденного Границкого, пригласив на обсуждение начальника ГУПО ОГПУ Быстрых[1064].
Решение Политбюро дезавуировало действия Рудзутака, однако в части разрешения сплавного конфликта в нем оказались учтены не все предложения НКИД. Просьба санкционировать до 1933 г. отказ от сплава в районе Мозыря была отклонена, и НКИД был ориентирован на энергичные шаги по скорейшему разрешению этой проблемы. Одним из главных обстоятельств внесения корректив являлись валютные затруднения. Советское руководство надеялось смягчить их остроту путем перенесения части внешнеторговых грузов с железных дорог на воду. Временная Комиссия Политбюро по валютным резервам под председательством Л.М. Кагановича к концу июня выработала предложения о путях снижения валютных накладных расходов. 23 июня они были одобрены Политбюро. АО «Экспортлес» и Наркомвнешторгу, в частности, предписывалось активизировать пограничный сплав на Тильзит, Мемель, другие торговые центры Северо-Запада и соответственно уменьшить объем древесины, перевозимой по литовским, польским, германским и финляндским железным дорогам. Таким путем предполагалось получить около трети валютной экономии по лесному экспорту (230 из 665 тыс. рублей)[1065]. Решение проблемы оплаты перевозок, вновь поднятой в представлении НКИД, могло в этих условиях быть только половинчатым. Политбюро, судя по всему, решило создать впечатление, будто задержка платежей железным дорогам в прошлом и временное ограничение перевозок в будущем являются реакцией на действия польских властей по сокращению сплава леса по пограничным рекам (о возможности подобной увязки в материалах НКИД не упоминалось, а сама проблема платежей возникла много ранее этих действий). Вероятно, осознавая уязвимость такой позиции Политбюро сочло нецелесообразным выступать с «заявлениями по этому поводу».
Другая сфера двусторонних конфликтов была связана с положением польских консульств в Ленинграде, Харькове, Киеве, Тифлисе и польской миссии в Москве.
В середине мая Наркомат юстиции РСФСР внес в возглавляемую Калининым Комиссию Политбюро по судебным делам вопрос «Об оскорблении Пуполь и Верзиным польского консула Войтовского». Комиссия предложила председателю Ленсовета наложить на виновных (очевидно, ответственных работников Ленгорисполкома) «административное взыскание до 3 месяцев принудительных работ»[1066].
Польские дипломаты многократно передавали в НКИД жалобы на то, что над всеми приходящими в миссию установлен «неослабный надзор, доходящий до фотографирования всех посетителей», а все советские граждане, приходящие в соприкосновение с сотрудниками миссии, «арестовываются или, как минимум, вызываются в ОГПУ, где им делается предложение стать секретными сотрудниками» этого учреждения[1067]. Контроль за польской миссией сопровождался резким обострением наметившегося в 1931 г. конфликта по поводу использования курьерской службы для поездок в Москву офицеров Главного штаба и лиц, желавших попасть в СССР по личным делам. В августе 1931 г. заведующий 1 Западным отделом обратился к советнику польской миссии Зелезинскому с предложением «обсудить вопрос относительно дипкурьеров»[1068]. 5 марта 1932 г. в центре Москвы советский гражданин И.М. Штерн обстрелял из револьвера автомобиль, в котором находился советник посольства Германии фон Твардовский. Согласно обнародованному вскоре коммюнике об этом инциденте, «покушение имело целью вызвать обострение отношений между СССР и Германией» и было подготовлено «группой террористов, выполнявших задания неких иностранных граждан»[1069] – «задание некоторых польских граждан», уточнялось несколько дней спустя[1070]. В результате последующего протеста польской миссии Крестинский поспешил заверить посланника Патека, что не следует придавать этой части коммюнике какого-либо политического значения, однако обвинению польского представителя вскоре был придан официальный характер. Открытый судебный процесс уточнил распределение ролей: Штерн являлся лишь исполнителем, а его сообщник и «непосредственный организатор» С.С. Васильев был связан с сестрой В. Любарского, который в качестве дипкурьера «прибыл из Варшавы с дипломатическим паспортом Польской Республики». Именно Любарский стал подлинным организатором покушения на германского дипломата, а осужденные на смерть Васильев и Штерн лишь осуществляли «приказы польского фашизма»[1071]. Сотрудники и руководители НКИД явно испытывали чувство неловкости по поводу брошенных полякам обвинений[1072], даже Стомоняков предпочитал называть Любарского лишь «проходимцем». Руководствуясь «исключительно опасением, что наше молчание может быть неверно истолковано поляками и другими и нанести нам еще больший вред, чем тот вред, который нанесло бы нам обращение к польскому правительству с выводами из дела Штерна», Стомоняков предложил Коллегии НКИД не уклоняться от выполнения этой «очень неприятной» обязанности. В середине апреля Литвинов и его заместители «признали нецелесообразным форсировать в настоящее время разрешение вопроса о польских дипкурьерах». Спор вышел за пределы НКИД и обсуждался «с некоторыми членами правительства», «было решено, однако, в настоящее время с демаршем к польскому правительству пока не обращаться»[1073].
Затрагивалась ли на заседании Политбюро 1 июня именно эта тема, или директивы «НКИД и ОГПУ» были вызваны нервозностью на советско-польской границе, выяснить не удалось. Во всяком случае, принятое Политбюро решение (и его фактическое игнорирование советской тайной полицией) позднее дало исполнявшему обязанности наркома по иностранным делам Н.Н. Крестинскому возможность не только направить заместителю председателя ОГПУ памятную записку о заявленных миссией протестах, но и указать, что «у поляков есть некоторые основания жаловаться на грубость применяемых при наблюдении за польской миссией и при ее охране ее приемов», и выразить пожелание об устранении «моментов, могущих вызвать протесты и жалобы польской миссии и поль[ского] пра[вительства][1074]. Через несколько месяцев Я. Границкий, находившийся в тюрьме в Красной Вишере, был возвращен в Польшу в рамках персонального обмена[1075].
В январе 1933 г. ОГПУ, однако, сумело взять реванш и получить санкцию Политбюро на создание в отношениях с Польшей нового инцидента по «мелкому вопросу»[1076].
1 июня 1932 г.
52. – О соглашении по пиломатериалам (т.т. Розенгольц, Краевский, Ланда).
Принять предложение НКВнешторга (см. приложение).
Выписка послана: т.т. Розенгольцу.
Приложение к п. 52 (о.п.) пр. ПБ № 102
Постановление ПБ ЦК ВКП(б) от 1 июня 1932 г.
О соглашении по пиломатериалам.
Разрешить Народному комиссариату внешней торговли заключить соглашение со шведами и финнами по урегулированию лесного экспорта на следующих условиях:
1) Согласиться в крайнем случае на квоту для СССР в 35 % всего экспорта пиломатериалов мягких пород из СССР, Швеции и Финляндии на все рынки Европы и Южной Африки, за исключением Италии и Греции.
2) Включить в соглашение пункт об обязательстве сторон в течение 1932 г. не идти на понижение цен.
В целях закрепления цен в 1932 г. и во избежание оплаты нами разницы, обусловленной в договорах с покупателями, при понижении цен, – считать возможным идти на фиксацию нашего вывоза пиломатериалов мягких пород в вышеуказанные страны на 1932 г. в количестве не ниже 740–750 тыс. стд.
3) В качестве обязательного условия соглашения требовать, чтобы квота для Швеции и Финляндии на 1932 г. исчислялась не только по экспорту организаций, вступающих в соглашение, но по всему экспорту мягких пиломатериалов Швеции и Финляндии в целом.
4) Согласиться с организацией контрольного комитета из представителей лесоэкспортных организаций для ежемесячной взаимной информации участников соглашения о заключенных запродажах и об отгрузках.
5) Соглашение заключить на 2–3 года
6) Принять меры к тому, чтобы соглашение со шведами и финнами было заключено до предстоящей конференции в Вене
7) Если, тем не менее, конференция 9 июня состоится, принять в ней участие.
8) Разрешить НКВТ вести переговоры с Польшей, Юго-Славией и Румынией по вопросу регулирования рынка по твердым породам.
9) Ведение переговоров со шведами и финнами поручить тов. Краевскому В.
Делегатом на Венскую конференцию назначить т. Брона С.Г.
Протокол № 102 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.6.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 153,163.
Вопрос был внесен в повестку дня Политбюро в срочном порядке главой НКВТ А.П. Розенгольцем. Ссылаясь на постановление Политбюро от 5 апреля 1932 г. (вероятно, он имел в виду постановление от 8 апреля[1077]), нарком констатировал, что достичь соглашения с финскими и шведскими лесоэкспортерами не удалось, поскольку они не согласились предоставить советской стороне квоту в размере 38 % от общего объема экспорта Швеции, Финляндии и СССР на пиломатериалы мягких пород на европейском рынке (за исключением Италии и Греции), но готовы одобрить 35-процентную квоту (что, по оценке «Экспортлеса», при прогнозируемом объеме экспорта трех стран в 1933 г. должно было составить около 700 тыс. стандартов). Глава советской делегации Краевский обещал участникам переговоров дать окончательный ответ в конце мая, что определило сроки обращения Розенгольца и его рассмотрения Политбюро.
Нарком приводил следующие аргументы в пользу принятия условий конкурентов. Во-первых, располагая крупными товарными запасами, шведские и финские лесоэкспортеры при отсутствии соглашения способны в ближайшее время пойти на резкое понижение цен (на 15–20 шиллингов со стандарта). Между тем, во всех заключенных советской стороной контрактах специально оговаривалось соответственное понижение цен в случае их снижения шведами и финнами. Валютные потери СССР в 1932 г. в этом случае могли достигнуть 600–800 тыс. фунтов стерлингов (4,3–5,6 млн. руб.). Во-вторых, отсутствие соглашения экспортеров будет способствовать сохранению тенденции к понижению цен и в 1933 г., тогда как его заключение позволило бы сохранить ценовой уровень 1932 г. В этом случае при продаже 700 тыс. стандартов СССР получил бы 1050—400 тыс.ф. ст., а сокращение объема советского экспорта составило бы около 150–160 тыс. стандартов, при продаже которых в Европе (что проблематично), можно было бы выручить лишь 650–700 тыс. ф. ст. Кроме того, эти 150 тыс. стандартов останутся на внутреннем рынке, крайне нуждающемся в лесе. В-третьих, достижение договоренности способствовало бы и изменению к лучшему ситуации с финансированием советских лесоэкспортных операций со стороны европейских банков. Наконец, заключение соглашения с финскими и шведскими конкурентами обещало ослабить международную кампанию против советского экспорта.
Внесенный Розенгольцем проект постановления полностью совпадал с первыми пятью пунктами рассматриваемого решения Политбюро[1078].
В нашем распоряжении нет материалов о дальнейшем ходе советско-финско-шведские переговоров о квотах на экспорт лесоматериалов. Несомненно, однако, что расчеты на скорое их завершение, которые отразились в постановлении Политбюро, не оправдались. В конце июня 1932 г. член Коллегии НКИД сообщал полпреду И.М. Майскому, что происходившие в последнее время в Берлине переговоры «Экспортлеса» с финнами и шведами привели, наконец, к обмену официальными предложениями и стороны приступили к их изучению. «Больше, к сожалению, сегодня сообщить Вам не могу, ибо сам мало информирован об этих переговорах»[1079].
Вторая часть обращения Розенгольца к Сталину и Молотову была посвящена полученному НКВТ приглашению принять участие во Второй международной конференции по проблемам лесной торговли, которая должна была состояться в Вене 9 июня. В предложения Розенгольца Политбюро внесло лишь редакционную правку, при этом из пункта 7 выпало упоминание о предусматривавшемся Розенгольцем обращении советских, шведских и финских органов к правительству Австрии с просьбой отсрочить проведение конференции (поскольку за оставшуюся до начала конференции неделю им не удастся придти к окончательному соглашению)[1080].
Намечавшаяся международная конференция в Вене по проблемам лесного рынка вызывала негативную реакцию в Москве не только из-за цели ее созыва (раздел европейского рынка), но и в связи с активной ролью в подготовительной работе Польши и Франции, ограничившей доступ советских пиломатериалов на свой внутренний рынок. Конференция в Вене с участием 17 европейских стран и США состоялась 9—11 июня 1932 г. Официально на ней обсуждались заключение конвенции о сокращении лесного производства и лесного экспорта и создание бюро по торговле лесом и аграрного института в Риме, который занимался бы статистическим анализом лесоэкспорта.
С.Г. Брон находился на конференции в качестве наблюдателя, а не в качестве делегата. Швеция также ограничилась посылкой наблюдателя.
Фактически все крупнейшие лесоэкспортеры, включая СССР, выступили против инициатив Польши, поддержанных Югославией, Чехословакией, Австрией и Латвией, о создании специальной комиссии по подготовке конвенции о сокращении лесоэкспорта и подписании этой конвенции. Выступая 9 июня на конференции, С.Г. Брон мотивировал советскую позицию тем, что международные контрольные организации не могут гарантировать СССР беспристрастного отношения к его экспорту, поэтому этот вопрос должен оставаться предметом лишь непосредственных коммерческих переговоров отдельных стран. Единственным, на что соглашалась Москва, было предложение Германии о создании международного статистического центра по проблемам лесного хозяйства[1081].
На конференции были созданы две подкомиссии по подготовке конвенции, но в их работе приняли участие только представители Польши и поддерживавших ее стран Южной и Центрально-Восточной Европы[1082]. Как и аналогичная конференция в Варшаве в предшествующем 1931 г., Венская конференция 1932 г. завершилась без достижения существенных результатов.
8 июня 1932 г.
29. – О Балтийской геодезической конференции (т. Межлаук).
а) Принять участие на конференции.
б) Состав делегации на конференцию поручить определить Секретариату ЦК.
Протокол № 103 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 8.6.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 887. Л. 7.
31 декабря 1925 г. прибрежными государствами Балтийского моря была подписана Балтийская геодезическая конвенция, согласно которой, создававшийся специальный комитет с местопребыванием в Хельсинки, должен был заниматься проведением на единообразной основе и единообразными методами выполнением геодезических работ, главным образом триангуляции первого порядка, измерением базисов и определением астрономических пунктов в Балтийском регионе.
Постановка данного вопроса на Политбюро была вызвана необходимостью дать срочный ответ генеральному секретарю Балтийской геодезической комиссии профессору Илмари Бунсдорфу о персональном составе советской делегации на созываемой в Варшаве 14–18 июня VI геодезической конференции. СССР присоединился к Балтийской комиссии 9 февраля 1929 г., через пять лет после ее создания по инициативе Бунсдорфа, и принимал участие в ее работе до 1937 г.[1083].
Запрос финской стороной был сделан еще 9 мая, однако, вопрос попал в повестку дня Политбюро только за неделю до начала конференции; Секретариат ЦК, которому Политбюро поручило определение состава делегации, не проявил спешки в рассмотрении этого вопроса. В результате НКИД только 13 июня (накануне открытия конференции) смог сообщить, что представлять СССР должен член Балтийской геодезической комиссии профессор Феодосий Николаевич Красовский[1084].
11 июня 1932 г.
Опросом членов Политбюро
68/10. – Предложение т. Стомонякова.
а) Отклонить требования Латвии, а также Эстонии и Польши о внесении в Согласительные Конвенции с ними постановлений о праве Согласительных Комиссий собирать всякие информации и вызывать для этой цели свидетелей.
б) Разрешить т. Свидерскому ответить министру Зариньшу на его письменный запрос, что мы по этому вопросу не уступим не только Латвии, но также Эстонии и Польше.
Выписки посланы: т. Крестиискому.
Протокол № 104 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 16 июня 1932 г. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 183.
Постановка вопроса со стороны Наркоминдела перед Политбюро обусловливалась тем, что латвийская делегация предприняла попытку использовать «промах» Майского, который на переговорах с финским правительством фактически согласился на придание согласительной комиссии права вызова свидетелей, что фактически способствовало процедуре повторного рассмотрения дел, по которым в СССР были приняты не устраивающие его партнеров судебные и административные решения[1085]. Когда латвийские дипломаты предложили положить в основу согласительной конвенции советско-финский вариант, в Москве еще не знали о «промахе» Майского и дали полпреду А.И. Свидерскому указание принять это предложение[1086]. После внимательного изучения текста конвенции с Финляндией НКИД был вынужден изменить прежнее решение и заручиться санкцией ЦК ВКП(б) на проведение единой выдержанной линии на переговорах с Ригой и Таллином, а также на откладывавшихся до ноября переговорах с Польшей о согласительной конвенции.
На следующий день после принятия постановления Политбюро советская позиция была доведена до сведения МИД Эстонии и Латвии. 13 июня эстонский посланник Ю. Сельямаа вручил Б.С. Стомонякову проект согласительной конвенции, полностью устраивавший СССР. В результате ни согласительная конвенция с Латвией (18 июня 1932 г.), ни конвенция с Эстонией (10 августа 1932 г.) не содержали формулировок, имевшихся в советско-финляндской конвенции.
28 июня 1932 г.
Решение Политбюро
40/9. – О пакте с Румынией (т. Крестинский)
Послать т. Литвинову через НКИД следующую телеграмму (см. приложение).
Выписка послана: т. Крестиискому.
Приложение к 40/9 рс (о.п.) пр. ПБ № 106.
«Заявите Залескому, что, поскольку в предложенном проекте советско-румынского пакта нет оговорки о том, что спорные между СССР и Румынией вопросы пактом не задеваются, и что стороны сохраняют по ним свои позиции, его формулировка для нас неприемлема. Вместе с тем скажите, что вы принимаете предложение Титулеску о возобновлении переговоров о пакте. Принимайте меры к тому, чтобы задержка заключения пакта с Румынией не имела своим последствием отсрочки подписания и ратификации пакта с Польшей. По поручению инстанции Крестинский».
Протокол № 106 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 28.6.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 3,9.
Рассматриваемое постановление является первым из трех известных решений Политбюро относительно заключения пакта ненападения с Румынией, переговоры о котором были начаты в январе и продолжались до ноября 1932 г. Политбюро не принимало специального решения о вступлении СССР в переговоры с Румынией в декабре 1931 г. Это обстоятельство отчасти может объясняться тем, что согласие с польским предложением о заключении пакта о ненападении между Советским Союзом и Польшей прямо подразумевало открытие параллельных переговоров с Румынией[1087]. По существу же, «пакт с Румынией самостоятельной ценности для нас никогда не имел и не имеет», напоминал Стомоняков в письме Сталину, «он нас всегда интересовал лишь постольку, поскольку заключение его нужно для заключения пактов с Францией и Польшей»[1088]. Замечания о неразрывности советских пактов ненападения с Польшей и Румынией и о подчиненной значимости договора с Румынией интересам урегулирования отношений с Парижем и Варшавой могут с не меньшим основанием быть отнесены и к проблематике переговоров между СССР и странами Балтии, по поводу которых Политбюро принимало специальные решения (см. выше).
Между тем, с момента установления первых прямых контактов между советскими и румынскими дипломатами в Анкаре и Варшаве не только принципиальные установки, но и тактика ведения переговоров согласовывались руководителями НКИД с Генеральным секретарем ЦК ВКП(б)[1089].
Насколько удалось установить, члены Политбюро (за исключением секретаря ЦК ВКП(б) Кагановича в период летне-осеннего отпуска Сталина) не получали специальной информации НКИД о состоянии переговоров с Румынией. По всей вероятности, если основные решения относительно пакта о неагрессии с Польшей и условий его подписания принимались Политбюро и созданной им «комиссией по советско-польским делам», то по проблеме советско-румынского пакта – лично Сталиным. Известно лишь о трех обращениях НКИД в ЦК ВКП(б) с просьбой поставить вопросы отношений с Румынией на Политбюро, причем все они относятся к июню-августу 1932 г., т. е. ко времени пребывания Сталина в отпуске (установить его точные сроки не удалось[1090]). По двум из этих обращений были приняты официальные постановления (от 28.6.1932 и 19.8.1932), одно из предложений НКИД было утверждено без привлечения членов Политбюро[1091]. Таким образом, постановление «О пакте с Румынией» составляет своеобразное исключение из складывавшегося порядка, в соответствии с которым эта проблема была выведена из ведения Политбюро.
Рассматриваемое решение относится к началу второй стадии переговоров с Румынией. В ходе первой стадии (на переговорах Б.С. Стомонякова и кн. М. Стурдзы в Риге 7-20 января 1932 г.) удалось разрешить второстепенные разногласия относительно содержания пакта. С самого начала переговоры уперлись в возражение советской стороны против формулировки 2-го абзаца ст. 1 румынского проекта, в которой констатировалась недопустимость какого-либо насильственного акта против «целостности и неприкосновенности территории, находящейся в настоящее время под суверенитетом другой договаривающейся стороны». Стомоняков указал, что это положение «не может не быть истолковано как признание нами суверенитета Румынии над Бессарабией», а потому «неприемлемо и недискутабельно». Не смущаясь тем, что официальная позиция СССР состояла в необходимости свободного волеизъявления населения Бессарабии для определения ее государственной принадлежности[1092], советский уполномоченный заявил М. Стурдзе: «Мы никогда не признавали и не признаем аннексии Бессарабии и рассматриваем ее как нашу территорию». Румынский делегат имел основания ответить, что таким образом, вопреки предварительной договоренности оставить бессарабскую проблему «в стороне» на переговорах о пакте ненападения, она поставлена, причем не Румынией, а СССР. Согласно аргументации Стурдзы (в записи Стомонякова), «в румынском проекте Бессарабия даже не названа, а второй абзац первой статьи предложен не для того, чтобы получить наше признание нынешнего статута Бессарабии, а для того, чтобы распространить наше обязательство ненападения также и на Бессарабию. Пакт не имел бы для Румынии никакой цены, если бы не было зафиксировано, что мы будем респектировать нынешние границы Румынии. Это не означает, что Румыния добивается в этих переговорах нашего признания воссоединения с Румынией Бессарабии, которая была незаконным образом оторвана царским правительством от остальной Румынии». 11 января «по поручению советского правительства» Стомоняков сделал заявление, которым даже полный отказ Бухареста от упомянутой формулы первой статьи объявлялся недостаточным, Москва «настаивала и настаивает на зафиксировании того обстоятельства, что существующий между сторонами территориальный спор является неразрешенным». Два последующих заседания оказались бесплодными: румынская сторона требовала упомянуть в пакте об охране им «интегритета» территории Румынского королевства, советская – отказывалась продолжать переговоры без прямой констатации в тексте договора наличия спорных вопросов между СССР и Румынией[1093]. Эпилогом рижских переговоров явились интервью М.М. Литвинова и М. Стурдзы. Нарком подробно охарактеризовал советскую позицию, утверждая, что согласие определить в договоре «какие бы то ни было попытки разрешения насильственным путем существующих между обеими сторонами территориальных и иных споров» является доказательством «доброй воли» Москвы и потому исход приостановленных переговоров зависит отныне только от Бухареста[1094]. Стурдза откликнулся заявлением о том, что «представленный Москвой проект пакта является лишь средством для ослабления тех обязательств внешнего характера, которые уже существуют между сторонами в виде пакта Келлога и Протокола Литвинова», и «румынское правительство предпочитает оставаться в формальных границах правовых норм», созданных этими соглашениями «до тех пор, пока Москва не изменит своей позиции»[1095].
Несмотря на парафирование 25 января 1932 г. советско-польского пакта о ненападении, правительство Румынии на протяжении последующих месяцев не проявляло заинтересованности в возобновлении переговоров с Москвой, требуя вначале аннулирования январского письма Стомонякова Стурдзе, в котором излагались основы советского подхода. В конце февраля А. Залеский предупредил Литвинова, что, хотя поляки рекомендуют Румынии «не настаивать на своих требованиях», Варшава «не введет в силу» пакт ненападения с СССР, пока его переговоры с Эстонией и Румынией не получат благополучного завершения[1096]. В середине марта английский посланник в Бухаресте поинтересовался у главы румынского МИД, не было ли на него оказано давление со стороны Варшавы, чтобы во время пребывания в Женеве возобновить советско-румынские контакты. Князь Гика ответил, что Залеский открыто сказал ему, что более не испытывает интереса к инициированному польским правительством пакту. Гика также добавил, что французский премьер А. Тардье заявил ему и Титулеску: вопрос советско-французского пакта всецело в руках Вертело и Бриана[1097]. Две недели спустя в беседе с английским послом в Москве Литвинов оценил состояние советско-румынских переговоров о пакте как «practically dead»[1098].
Уклончивость Румынии вызвала беспокойство руководителей французской и польской дипломатии, перешедшее в апреле 1932 г. в попытку посредничества между СССР и Румынией для выработки взаимоприемлемых условий пакта (Москве и Бухаресту были предложены услуги правоведов МИД Франции, а затем и содействие министра иностранных дел Польши Залеского[1099]). 1 апреля в беседе с английским послом польский министр иностранных дел заявил, что, возможно, Пилсудский проведет неделю-две в Румынии (возвращаясь из Египта на родину) и воспользуется этим для того, чтобы оказать нажим на короля ради достижения договоренности с советским правительством[1100].
Дальневосточный конфликт не оказал видимого воздействия на поведение советского руководства в отношении заключения пактов с Францией, Польшей и Румынией. 17 апреля 1932, опросом членов Политбюро была утверждена телеграмма полпреду в Токио, в которой откладывание Ямамото встречи с Трояновским интерпретировалось как «дипломатическая болезнь» – «японцы, видимо, предпочитают военный союз с Румынией и Польшей против СССР переговорам с нами». «Нам сообщают, что японцы уже оформляют военный союз с Польшей и Румынией, о чем Вы должны открыто заявить в очередной беседе с представителями правительства, сказав им, что нам не страшны никакие военные союзы»[1101].
Подписание 4 мая договора о ненападении между СССР и Эстонией сделало состояние советско-румынских переговоров единственным препятствием к подписанию парафированных пактов с Польшей и Францией. В Москве убедились, что правительство Тардье не пойдет на подписание без Польши и Румынии, а «маршал Пилсудский пригрозил Румынии самостоятельным подписанием пакта с нами в случае дальнейшего упорства»[1102]. Вдогонку неофициально выехавшему в Берлин Литвинову была направлена телеграмма с указанием не отказываться от польского посредничества для возобновления переговоров о договоре ненападения с Румынией[1103]. На встрече Литвинова с Залеским было условлено, что МИД Польши побудит нового министра иностранных дел Румынии Н. Титулеску, зарекомендовавшего себя ярым защитником прав Румынского Королевства на Бессарабию, согласиться официально возобновить советско-румынские переговоры. В преддверии польско-румыно-советских консультаций 2-м Западным отделом НКИД был подготовлен текст Договора о ненападении между СССР и Румынией, в котором были зафиксированы положения, согласованные в Риге окончательно или ad referendum, а также предложения сторон. Этот документ был сообщен в ЦК ВКП(б) и явился дополнительной основой дальнейших бесед между Литвиновым и Залеским.
23 июня 1932 г. польский министр сообщил о готовности Титулеску к поиску компромисса и вручил Литвинову выработанный МИД Польши новый проект пакта ненападения между СССР и Румынией. Ознакомившись с ним, нарком обратил внимание собеседника на «неприемлемость 1-й статьи и на отсутствие всякого упоминания о спорных вопросах». «Когда я сказал Залескому, что если Румыния будет настаивать на неупоминании спорных вопросов, то из переговоров ничего не выйдет и что придется вернуться к вопросу подписания советско-польского пакта, Залеский промолчал, из чего заключаю, – докладывал Литвинов в Москву, – что он такую возможность предусматривает»[1104]. Нарком намеревался при последующей встрече с министром вручить ему заготовленный контрпроект договора.
После получения телеграммы Литвинова о беседе с польским министром Н.Н. Крестинский обратился к Секретарю ЦК ВКП(б) с краткой запиской, в которой от своего предлагал «принять предложение т. Литвинова, именно разрешить ему сообщить Залескому о неприемлемости для нас предложенного им текста польско-румынского пакта». В пользу этого и.о. наркома выдвигал две группы аргументов. Во-первых, в тексте Залеского «нет требуемой нами оговорки о Бессарабии» и «некоторые статьи» согласованного в Риге текста «для нас выгоднее, чем польско-советский пакт, который Залеский положил в основу своего проекта. Во-вторых, «независимо от неприемлемости для нас предложенного Залеским проекта, в настоящее время нет необходимости ускорять ценой уступок заключение пакта с Румынией».
Крестинский напоминал, что вступление в переговоры с Бухарестом было обусловлено настоянием Польши, «теперь же, как мы знаем из самых разнообразных источников, Польша заявила Румынии, что она не станет дожидаться ее и оформит заключение пакта с нами, чтобы не оторваться от прибалтов». Поведение же Таллина, Риги и Хельсинки показывает, что они «решили не ждать Румынию», и «Польша при создавшемся положении пойдет с прибалтами, а не с румынами»[1105].
Постановление Политбюро не означало заметных перемен в советской тактической линии. Утвержденный Политбюро текст телеграммы (немедленно переданной в Женеву)[1106] вносил в предложения Крестинского новый момент – Литвинову поручалось заявить о готовности возобновить прямые переговоры с Румынией. Видимое смягчение директивной формулы, по сравнению с проектом Крестинского, привело к обратным результатам в дипломатическом поведении Литвинова. Получив эти указания, он воздержался от передачи Залескому советского контрпроекта, заявив вместо этого, «что врученный им документ все еще отражает непримиримость Румынии, нисколько не изменившись после рижских переговоров», и «поэтому какие-либо предложения с моей стороны послужили бы… новому затягиванию переговоров». «Единственным средством» избежать этого является скорейшее подписание Польшей пакта с СССР, «после чего румынское правительство станет более разумным». «Сейчас же после подписания» нарком обещал вручить Залескому «контрпроект для Румынии»[1107]. Таким образом, Литвинов интерпретировал решение Политбюро «О пакте с Румынией» как направленное главным образом на ускорение подписания договора с Польшей (что вполне согласовывалось с пожеланиями его первого заместителя).
5 июля министр иностранных дел Польши сообщил, что Пилсудский принял предложение о подписании парафированного 25 января текста договора о ненападении с СССР. Литвинов передал Залескому советский вариант сводного текста Договора; после чего, продолжая беседы с Литвиновым и Штейном, польская делегация выработала несколько частных и общих вариантов советско-румынского компромисса[1108]. Исчерпав средства воздействия на Румынию, Варшава решилась на подписание пакта о ненападении с СССР (25 июля 1932 г.) без каких-либо гарантий, что за этим актом последует аналогичный договор с ее единственной союзницей в Восточной Европе.
1 июля 1932 г.
28. – Об увеличении наших закупок в Литве.
Отложить.
Протокол № 106 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.7.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 890. Л. 5.
Вопрос был включен в повестку дня Политбюро по инициативе наркомвнешторга А.П. Розенгольца. В конце июня 1932 г., обращаясь с запиской в Политбюро по вопросу о торговых отношениях с Литвой, он констатировал обоснованность недовольства литовского правительства их состоянием. Традиционное для советско-литовской торговли отрицательное для Каунаса сальдо должно было в 1932 г. еще более возрасти, поскольку планом предусматривалось экспортировать в Литву на 4,6 млн. руб., а импортировать всего на 0,3 млн. Для смягчения этого дисбаланса Розенгольц предлагал закупить в Литве на 350 тыс. рублей товаров широкого потребления для последующей реализации через Торгсин[1109], что позволило бы в кратчайшие сроки не только вернуть затраченную валюту, но и получить 100–200 % прибыли.
Несмотря на, в целом, мизерный размер запрошенных ассигнований и перспективу их быстрого возврата, руководство Политбюро и СНК СССР предпочло воздержаться от санкционирования этой меры. Как показывает обращение Н.Н. Крестинского к Л.М. Кагановичу в конце июля 1932 г., вопрос по-прежнему оставался открытым. Вероятно затруднения создавались не только существом дела, но и возражениями процедурного характера. В июле-августе 1932 г. комиссиями Политбюро и Совнаркомом велась работа по уточнению импортного плана на 1932 г.[1110]
26 июля 1932 г.
Опросом членов Политбюро
29/2. – О Совпольторге.
Принять предложение НКВТорга о денонсировании договора по Совпольторгу.
Выписки посланы: т.т. Боеву, Крестиискому, Керженцеву.
Протокол № 110 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.8.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 50.
По соглашению о продлении учредительного договора Совпольторга на 1932—начало 1933 г.[1111], этому смешанному обществу передавалась большая часть запланированных к размещению в Польше советских заказов (4 млн. рублей из общей суммы 5,8 млн. рублей). Взамен «Совпольторг» принял обязательство обеспечить экспорт советских товаров (в Польшу – на 2,7 млн. рублей, в другие европейские страны – на 2,4 млн. рублей)[1112]. В результате положение торгпредства в Польше пошатнулось. По импортному плану СССР на 1932 г. варшавскому торгпредству оставалось разместить лишь треть (и притом наименее привлекательных для польских хозяйственников) заказов, главным образом, на черные металлы. Положение обострили действия польского правительства по «постепенному вытеснению торгпредства и усилению позиций “Совпольторга”», которому НКВТ пришлось передать реализацию экспортируемой в Польшу рыбы. Москва оказалась перед возможностью, что, «сосредоточив в Совпольторге работу по основным видам нашего экспорта, поляки сумеют затормозить экспорт тех из них, каковые им нежелательны, увязать экспорт остальных с работой местных синдикатов»[1113]. Внешнеторговое ведомство попыталось остановить процесс перераспределения полномочий в пользу смешанного товарищества, прекратив в апреле-мае 1932 г. выдачу ему лицензий и возложив на торгпредство переговоры с правительством Польши о получении СССР экспортных контингентов на рыбу, пушнину и табак в обмен на советские заказы металлургической промышленности. Антонов-Овсеенко, наряду с торгпредом Абелем стремившийся объединить усилия по продвижению советского экспорта в Польшу, оценивал эти шаги НКВТ как правильные, но недостаточные для вывода торгпредства из «почти ликвидного состояния», тем более, что переговоры о выдаче заказов силезской промышленности были вновь перенесены в Берлин и они не могли эффективно использоваться для давления на министерство торговли и промышленности Польши. «Отсутствие элементарной сговоренности и централизации в данном случае ведет к еще большему ослаблению подорванных позиций торгпредства», – писал полпред в НКИД и НКВТ[1114]. Он утверждал, что дальнейшее укрепление СПТ позволит полякам установить фактический контроль над «всей нашей экономической работой в Польше, подчиняя ее своим частным и политическим интересам», приведет к созданию «фактически монопольного объединения «русских дел» в противовес нашей монополии внешторговли».
Нарекания вызывали также высокие организационные расходы и невысокая эффективность Совпольторга. Обследование СПТ Заграничной инспекцией наркомата РКИ побудило признать его работу за 1932 – начало 1933 гг. неудовлетворительной. Отмечалось «плохое знание фирм, плохое использование европейской конъюнктуры, излишние уступки, неповоротливость, слабое продвижение советского экспорта в Польшу, рост накладных расходов, административных расходов» и др.[1115]. Вероятно, в связи с этими чертами деятельности Совпольторга и заинтересованностью в прямых oneрациях на польском рынке некоторые крупные внешнеторговые организации («Цветметимпорт», «Экспортхлеб», «Рыбоэкспорт», «Союзпромэкспорт» и другие) отказались продолжать уплату взносов в СПТ и выбыли из его членов[1116].
Во второй половине мая проблемы распределения функций между варшавским торпредством и Совпольторгом подверглись обсуждению в НКВТ с участием торгпреда Абеля. Однако лишь спустя несколько недель заместитель наркома внешней торговли И.В. Боев внес на утверждение Политбюро предложение о денонсировании заключенного четырьмя месяцами ранее договора о деятельности Совпольторга. 25 июля секретарь ЦК ВКП(б) Каганович направил по этому поводу срочный запрос в наркомат по иностранным делам[1117]; в ответ Крестинский сообщал, что «НКИД присоединяется к предложению т. Боева денонсировать договор по Совпольторгу, предложив польской стороне вступить в переговоры о заключении нового договора»[1118]. По всей вероятности, как предложение НКВТ, так и постановление Политбюро подразумевали, что расторжение продленного учредительного договора не означает ликвидацию советско-польского акционерного общества.
В какой форме и в какие сроки было выполнено решение Политбюро установить не удалось. С середины 1932 г. активность СПТ, по всей вероятности, пошла на спад. По итогам 1932 г. экспортный план НКВТ был выполнен Совпольторгом на 58 %, а план по импорту – на 58,9 %. Если общий– «уточненный план» Наркомвнешторга по экспорту в Польшу в 1932 г. был выполнен на 93 %, то приходящаяся на СПТ часть этого плана – лишь на 82 %[1119].
После длительных переговоров учредительный договор об СПТ 17 февраля 1933 г. был продлен на последующие два года, «причем польская сторона взяла на себя обязательство предоставить «Совпольторгу» кредит в сумме 1250 тыс. долларов и право ввоза советских товаров в рамках импортного плана; признать за «Совпольторгом» право на снижение пошлин по новому тарифу, снижение железнодорожных тарифов для советских товаров и возможное предоставление дополнительных товарных кредитов». Экспортный план СПТ был сокращен до 2,2 млн. рублей, тогда как размеры импорта в СССР в феврале 1933 – январе 1934 г. были установлены на прежнем уровне (4 млн. рублей). Наркомвнешторга обязался «разместить через А/О «Совпольторг» заказов в Польше до 15-го июля 1933 г. на сумму… два миллиона рублей»[1120].
В начале 1934 г. договор о Совпольторге по инициативе советской стороны был окончательно расторгнут, и смешанное общество прекратило свое существование.
1 августа 1932 г.
18. – О Польше (т. Крестинский).
Принять предложение НКИД.
Выписка послана: т. Крестиискому.
Протокол № 110 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.8.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 49.
На основании дополнительного протокола к соглашению о репатриации, заключенного РСФСР и Польшей 21 февраля 1921 г., в течение последующих лет между Советским Союзом и Польшей происходил персональный обмен политическими заключенными. 3 января 1928 г. был произведен обмен последней партии заключенных, подпадавших под действие этого соглашения. При этом польская сторона «недополучила несколько человек в счет установленного в 1921 г. контингента», и в феврале 1928 г. правительство Польши выступило с предложением о дополнительном обмене. Коллегия НКИД дала согласие на него «в качестве заключительного обмена по Мирному договору» при условии паритета («голова за голову»). Переговоры о новом обмене велись до середины 1929 г. Советская сторона считала, что поведение Варшавы в деле Войцеховского (в 1928 г. покушавшегося на жизнь торгпреда Лизарева) не дает оснований для уступок по различным аспектам обмена и затягивала переговоры. С осени 1929 г., вероятно под влиянием нарастания политического кризиса и ужесточением правительственных репрессий, режим Пилсудского счел продолжение переговоров о персональном обмене заключенными неуместным. Лишь в июле 1931 г. польский посланник в Москве передал НКИД предложение о возобновлении переговоров на этот счет.
Дискуссии о персональном обмене фактически возобновились в начале декабря 1931 г. и проходили в обстановке начавшейся нормализации политических взаимоотношений СССР и Польши. Польская сторона, прежде стремившаяся расширить список обмениваемых заключенных, согласилась с его сокращением с шестидесяти до сорока человек с каждой стороны, как то предусматривали предложения ОГПУ СССР, согласованные им с Представительством ЦК КПП в Москве и переданные польской миссии через Наркоминдел[1121]. Советская сторона дала согласие на освобождение и выезд в Польшу кс. Теофила Скальского как «оставшегося от предыдущего обмена». Арест Скальского и судебный процесс над ним играли роль сильного раздражителя в польско-советских отношениях и стали одним из факторов, приведших к срыву торговых переговоров в 1928 г.; освобождая из заключения кс. Скальского, Москва избавлялась от созданного ею и отягощавшего двусторонние отношения «инцидента». Единственное крупное разногласие касалось судьбы Бронислава Тарашкевича – «виднейшего деятеля коммунистической партии Западной Белоруссии и вождя Белорусской Громады», как аттестовал его в письме Сталину Крестинский. Тарашкевич, переданный в СССР по предыдущему персональному обмену 1928 г., тремя годами позже был арестован польскими властями при проезде через Данциг. Польское правительство отказалось от включения Тарашкевича в список подлежащих обмену политзаключенных, указывая, что тот совершил «преступление» после предыдущего обмена и потому должен рассматриваться как «рецидивист». К тому же суд над Тарашкевичем откладывался и официально он являлся подследственным, а не заключенным. «НКИД, в согласии с Представительством Коммунистической Партии Польши, придавал большое значение обмену Тарашкевича, – докладывал Крестинский Секретарю ЦК ВКП(б). – Для нас Тарашкевич представляет ценность не только как видный работник Польской Компартии вообще, но и особенно как признанный вождь рабоче-крестьянских масс Западной Белоруссии. Его пребывание на советской территории имеет огромное значение на случай войны с Польшей. Тов. Тарашкевич принес бы нам в этом случае огромную пользу не только в агитационно-пропагандистской работе на Белорусском фронте, но, вероятно, сыграл бы большую роль в органах революционной власти в случае занятия нами Западной Белоруссии». Возможно, сходным образом оценивали потенциальную роль Б. Тарашкевича и в Варшаве, и советские настояния натолкнулись на категорический отказ. В результате Представительство КПП и ЦК КП(б) Белоруссии согласились с необходимостью более не откладывать обмена политзаключенными, «ввиду важности получения остальных товарищей по списку» (включая членов ЦК КПП и депутатов польского Сейма).
Подводя итог переговорам о персональном обмене, исполняющий обязанности наркома по иностранным делам просил Политбюро «разрешить заключить с поляками соглашение об обмене 40 человек с каждой стороны, по спискам, предложенным Представительством Компартии Польши и ОГПУ». НКИД обязывался «добиваться у поляков или обмена Тарашкевича теперь, или согласия на обмен после суда», прося взамен санкции «не срывать из-за этого всего обмена». Крестинский также предлагал закрепить решением Политбюро недопустимость «возвращения обмененных товарищей на нелегальную работу в Польшу», как на то рассчитывают «польские товарищи». Осуществление таких проектов «дало бы в руки польского правительства доказательство, что советское правительство производит обмен для того, что посылать обмененных на нелегальную работу в Польше, и затруднило бы возможность нового обмена» («если бы возникла необходимость такового), а «кроме того», означало бы для Москвы «неизбежные политические осложнения с Польшей»[1122].
Предложения НКИД получили санкцию Политбюро лишь после подписания 25 июля пакта о ненападении между СССР и Польшей. Не исключено, впрочем, что промедление с реагированием на запрос Наркоминдела от 15 июля и постановка вопроса о персональном обмене на заседании ПБ, было вызвано тем, что он затрагивал интересы Коминтерна и Компартии Белоруссии. К тому же, двухнедельная пауза могла потребоваться руководившему работой Политбюро Кагановичу для того, чтобы запросить мнение находившегося в Сочи Сталина (вероятно, Генеральный секретарь был единственным членом политического руководства, которому НКИД и ОГПУ докладывали о ходе переговоров о персональном обмене[1123]).
3 августа заведующий 1 Западным отделом НКИД Райвид и польские уполномоченные Куликовский и Понинский подписали соглашение, которым утверждались списки лиц, подлежащих обмену. В приложенных к протоколу заседания списках были указаны имя и фамилия заключенного, а также место его содержания. Советские власти освобождали из мест заключения пятнадцать ксендзов. Шестнадцатым освобожденным священнослужителем был Т. Скальский, имя которого было внесено в текст самого протокола. Персональный обмен заключенных и членов их семей назначался на 15 сентября в пограничном пункте Негорелое-Столбцы. Дополнительный протокол заседания 3 августа констатировал согласие сторон с тем, что «находящийся в советском списке Тарашкевич Бронислав снимается со списка как находящийся под следствием» и после окончания суда над ним, «если суд вынесет обвинительный приговор», они вступят в переговоры о его обмене[1124].
Обмен был проведен в назначенный срок на станции Колосово[1125]. Передача СССР Б. Тарашкевича, в октябре 1932 г. осужденного на восемь лет исправительных работ, произошла годом позже. 6 сентября на станции Колосово он был обменен на находившегося в заключении в СССР Олехновича[1126].
И. Дворчанин, Ю. Гаврилик, П. Волошин и Ф. Волынец, прибывшие в Советский Союз по обмену в сентябре 1932 г., спустя полгода были арестованы ОГПУ и обвинены в создании в БССР контрреволюционной националистической организации – «банды провокаторов Луцкевича – Дворчанина»[1127].
16 августа 1932 г.
23. – О наших закупках в Литве (ПБ от 1.VII.-32 г., пр. № 106, п. 28) (т.т. Элиава, Крестинский)
Разрешить НКВТоргу произвести закупку продовольственных продуктов на 200 т.р. в Литве, с тем, чтобы в 4 квартале эти товары были реализованы через Торгсин.
Выписки посланы: т.т. Элиаве, Литвинову.
Протокол № 112 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.8.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 59.
Принятие решения по внесенному в конце июня А.П. Розенгольцем в Политбюро вопросу о закупках в Литве было отложено[1128]. НКИД был обеспокоен сложившейся в области торговых связей с Литвой ситуацией, поскольку отказ СССР от закупок сельскохозяйственных продуктов (подобного рода закупки, хотя и на незначительные суммы, делались в Финляндии и Латвии) и сокращение транзита через Литву создавало в политических и общественных кругах этого дружественного СССР государства тяжелое впечатление[1129]. (Вероятно, Н.Я. Райвид имел в виду именно это письмо Крестинского, когда сообщал полпреду Карскому, что НКИД «уже написал и отправил в инстанцию» письмо о закупке сельскохозяйственных продуктов в Литве, и что ответ ожидается «на днях»[1130], однако прошло почти четыре недели, прежде чем поднятый НКИД вопрос вновь был включен в повестку заседания Политбюро). Крестинский обращал внимание на то, что на протяжении трех последних лет Литва имела «резко пассивный» баланс в торговле в СССР. Обращает на себя внимание, что Политбюро значительно сократило запрошенную Розенгольцем сумму заказов – с 350 до 200 тыс. рублей. Возможно, причиной этого сокращения было рассмотрение в тот день на заседании Политбюро вопроса об импортном плане на 1932 г., обсуждение которого не могло не повлечь острой межведомственной борьбы, в которой НКИД не приходилось рассчитывать на удовлетворение всех запросов.
16 августа 1932 г.
24. – О торговых переговорах с Латвией (т.т. Крестинский, Элиава).
а) утвердить делегацию по торговым переговорам с Латвией в составе т.т. Стомонякова (председатель), Дволайцкого (зам. пред.), Райвида, Лоренца и представителя НКПС.
б) разрешить НКИД довести до сведения Латпра, что мы готовы приступить к переговорам в Москве в середине сентября.
Выписки посланы: т. Литвинову – все; т.т. Керженцеву, Благонравову, Стомонякову – п. «а».
Протокол № 112 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.8.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 59–60.
Вступление СССР в переговоры о заключении нового торгового договора с Латвией было предусмотрено постановлением Политбюро, принятым четырьмя месяцами ранее[1131]. По получении официального известия о сформировании латвийской делегации (руководитель – министр финансов Ансис Петревиц, члены – В. Мунтерс, К. Блоднекс и Э. Озолиньш), 7 августа и.о. наркома H.H. Крестинский направил Л.М. Кагановичу письмо, в котором просил Политбюро утвердить прилагаемый к письму проект постановления. Этот проект без изменений вошел в решение Политбюро[1132].
Утвержденный главой делегации член Коллегии НКИД Стомоняков находился в отпуске за границей и должен был вернуться в начале сентября. Крестинский исходил из того, что двух недель Стомонякову будет достаточно для подготовки к переговорам. В состав делегации позднее был введены также торгпред в Латвии Позднышев и начальник Центрального Управления по Международным Делам НКПС И.Д. Умрихин[1133].
Переговоры обещали быть трудными, тем более, что А. Петревиц воспринимался в НКИД как «наш злейший враг» и назначение его главой делегации вызывало удивление: будто латыши не понимают, что сулит им такое назначение? НКИД рекомендовал полпредству посоветовать латвийским социал-демократам уклониться от включения своего представителя в состав делегации[1134], а заместитель наркома внешней торговли Ш.З. Элиава предлагал НКИД оказать нажим на правительство Латвии, чтобы оно заменило Петревица другим кандидатом. Однако H.H. Крестинский полагал, что при обостренности политических отношений с Латвией (главным образом, из-за терпимого отношения правительства М. Скуенека к деятельности белоэмигрантских организаций и его отказа принять меры против антисоветской печати) для СССР выгоднее, чтобы во главе латвийской делегации стоял человек, имеющий репутацию врага Москвы[1135]. Впрочем, по сообщению полпредства в Риге, в латышских политических кругах понимали трудности предстоящих переговоров, поэтому даже второстепенные политические деятели уклонялись от предложений возглавить делегацию[1136].
На этом же заседании Политбюро был утвержден пересмотренный импортный план на 1932 г., внесенный комиссией В.М. Молотова. По статье «торгово-политического импорта» предусматривалось осуществление закупок в Латвии на сумму в 1 млн. руб.[1137]
Латвийская делегация прибыла в Москву 25 сентября 1932 г. Переговоры начались на следующий день. За десять дней до их открытия Политбюро утвердило директивы советской делегации[1138]. Поскольку расходы, связанные с приемом латвийской делегации, ранее не были предусмотрены, НКИД был вынужден обратиться в Совнарком и Политбюро с просьбой об их ассигновании. 14 октября 1932 г. Политбюро опросом утвердило постановление СНК СССР и СТО о выделении из резервного фонда Совнаркома 30 тыс. рублей на эти цели[1139].
19 августа 1932 г.
Решение Политбюро
51/14. – О Франции и Румынии.
а) поручить т. Довгалевскому дать следующий ответ французам:
1) В случае согласия Франции на подписание франко-советского пакта о ненападении, предложенные ими новые поправки к пакту препятствиями не явятся.
2) Т. Литвинов уже в Женеве заявил посредничавшим полякам и французам, что не возражает против перенесения упоминания о советско-румынских спорах из самого пакта в заключительный протокол. Предложение г-на Леже может, поэтому оказаться базой для соглашения. Тов. Довгалевский поэтому изъявляет согласие встретиться с г-ном Титулеско немедленно для достижения окончательного соглашения.
б) поручить т. Литвинову дать Довгалевскому инструкции для переговоров с Титулеско.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 113 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.8.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 76.
На протяжении января-июля 1932 г. требование СССР о включении в подготавливаемом договоре ненападения с Румынией упоминания о существующих спорах между сторонами являлось главным камнем преткновения в советско-румынских переговорах[1140]. В ходе бесед Литвинова с министром иностранных дел Польши Залеским, принявшим на себя миссию посредника между Москвой и Бухарестом, в конце июня – середине июля 1932 г. наркому удалось склонить его к признанию необходимости констатировать факт наличия споров между СССР и Румынией в подписываемом обеими сторонами тексте. 14 июля, заручившись согласием румынского и французского представителей в Женеве Титулеску и Массигли, Залеский предложил перенести формулировку, так или иначе касающуюся территориального спора, из текста пакта в сопровождающий его заключительный протокол. Литвинов фактически принял этот вариант, обусловив его лишь «открытым упоминанием остающихся спорных вопросов»[1141]. Двумя днями позже Массигли тщетно убеждал наркома «отказаться от формулы о «нападении на территорию, находящуюся под властью», но с тем, чтобы нигде не упоминались спорные вопросы, а в заключительном протоколе говорилось лишь, что пакт не может быть использован ни для каких других целей» (и в отношении Бессарабии обе стороны вольны придерживаться прежних позиций)[1142].
В конце июля, после встреч с Литвиновым и полпредом Довгалевским, в поиск компромиссного решения включился глава Совета министров Франции Э. Эррио. Возглавляемое им левоцентристское правительство высказалось в пользу возобновления прерванных годом ранее переговоров о подписании пакта ненападения и торгового договора между Францией и СССР. Едва ли не главной политической помехой для этого оказывалась неурегулированность отношений между Москвой и Бухарестом.
По предложению Алексиса Леже, сменившего Ф. Вертело на посту генерального секретаря МИД, 10 августа между ним и В.С. Довгалевским состоялся «пространный обмен мнениями» о политико-юридических проблемах советско-румынского договора. Леже, «подчеркивая неофициальный, а лишь официозный характер наших разговоров», предложил полпреду высказать свое отношение к компромиссу, в соответствии с которым из пакта устраняется как упоминание о споре, так и территории, находящейся под суверенитетом или под властью, а в заключительном протоколе будет констатировано, что «настоящий договор не может служить в иных целях, а именно для разрешения спорных вопросов, существующих между странами к моменту подписания договора». К тому же, при подписании пакта за советской стороной сохранилось бы право декларировать свою позицию по бессарабскому вопросу в сколь угодно резкой форме[1143]. Намеченные Леже условия простирались гораздо далее июльских предложений Залеского-Массигли-Титулеску, никогда ранее (и позднее) запросы Москвы не получали столь полного отражения в формулах посредников.
11 августа Довгалевский и Леже продолжили обсуждение проблем советско-французского и советско-румынского пактов о ненападении. Генеральный секретарь МИД, давая понять, что он, как и глава правительства, не предполагает выхода советско-румынских переговоров за рамки их нынешней стадии ранее конца каникулярного периода, т. е. конца сентября, одновременно спросил Довгалевского о согласии на встречу с Н. Титулеску, если бы тот приехал в Париж[1144]. С началом правления Кароля II вновь стала восходить звезда этого опытного политика и дипломата (до создания кабинета Маниу в 1928 г. занимавшего пост министра иностранных дел), и вступление в переговоры с Титулеску означало не только возвращение к прерванному в Риге прямому диалогу с Румынией, но и придание ему более высокого уровня. Полпред, однако, не располагал инструкциями Москвы: решение по запросу, содержавшемуся в его телеграмме от 10 августа, было принято руководством ЦК лишь девятью днями позже.
Причины этого промедления неясны. Само по себе пребывание Сталина в Сочи не могло столь существенно затянуть выработку решения. Возможно, при его подготовке обнаружились противоречия между наркомом и членом Коллегии НКИД Стомоняковым относительно тактики на переговорах с Румынией и предела допустимых уступок СССР – противоречия, которые, как и в октябре 1932 г.[1145], могли потребовать арбитража Генерального секретаря ЦК ВКП(б) и его коллег. Принятое ими решение подтверждало линию поведения, намеченную Литвиновым в беседе с польским министром иностранных дел 14 июля. Официально утвердить ее у Политбюро было тем более оснований, что из бесед с Леже полпред вынес убеждение: для Парижа «основное сейчас в том, чтобы мы в ответ на последнее предложение Румынии (о заключительном протоколе) сделали свое разумное и примиряющее предложение. В этих условиях были бы возможны два выхода: или было бы достигнуто соглашение с Румынией или же румыны тянули бы и держали себя непримиримо – в обоих случаях французское правительство получило бы возможность подписать пакт»[1146]. Директивы Политбюро относительно дальнейших переговоров с Францией и Румынией соответствовали, по крайней мере, внешне, высказанному МИД Франции пожеланию о проявлении СССР «благоразумия».
Телеграмма Литвинова с изложением «решения инстанции» была отправлена в Париж 20 августа. Одновременно дополнительной телеграммой нарком поручал Довгалевскому внести добавление к французской редакции заключительного протокола пакта с Румынией – «каковые споры настоящим договором не затрагиваются»[1147]. Судя по опубликованному фрагменту телеграммы, к тому времени в НКИД стало известно, что на Кэ д’Орсэ пришли к заключению о чрезмерности предложенных Леже 10 августа уступок. «Вторая формула Леже» от 23 августа упоминала, как и формула Залеского от 14 июля, о территории, находящейся под властью Румынии (хотя вместо sous l’autorit? значилось sous l’administration)[1148], и, таким образом, существенно расходилось с предшествующим вариантом, который советские вожди были готовы признать «базой для соглашения». Противоречие между констатацией территориального спора и признанием контроля Румынии над Бессарабией, изгнанное было из текста пакта, теперь вводилось в прилагаемый к нему протокол.
В течение следующей недели юридическим советником парижского полпредства был выработана новая редакция заключительного протокола, получившая одобрение Генерального секретаря МИД Франции («формула Дашкевича с поправкой Леже»). Тезис о том, что «существующие территориальные споры» не могут стать мотивом нарушения обязательств сторон по договору ненападения, получил в ней подробное развитие[1149]. 1 сентября МИД Франции направил румынскому правительству запрос о приемлемости для него этого «продукта совместного изучения»[1150]. Оно отклонило этот вариант как идущий вразрез с «той внутренней политической линией, которую ведет румынское правительство». «Румыния, однако, готова возобновить переговоры до 20-го [сентября. – Авт.] и договорилась с полковником Беком, в бытность его в Бухаресте, о формуле, которая максимально идет навстречу нашим пожеланиям», – передавал сообщение Леже временный поверенный в делах СССР по Франции. Леже оставалось констатировать, что его неофициальное посредничество закончилось неудачей и эта миссия вновь переходит к полякам[1151].
Третья («парижская») фаза переговоров о советско-румынском договоре ненападения не привела, таким образом, к преодолению возникшего в Риге тупика и перспектива возобновления прямых контактов между представителями СССР и Румынии[1152] вновь отдалилась.
25 августа 1932 г.
Опросом членов Политбюро
112/68. – О желдорконференции в Латвии.
Разрешить командировать т. Апсит А.К. (помощник начальника сектора Транспорта и снижения накладных расходов НКВТ) в Латвию для участия в советско-германско-латвийской Международной железнодорожно-грузовой конференции.
Протокол № 113 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.8.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 23.
В 1932 г. проблема обеспечения советского транзита через страны Северо-Восточной Европы приобрела повышенную значимость. Одним из средств сокращения валютных расходов на транзит грузов (и, одновременно, корректировки политических взаимоотношений в треугольнике Берлин-Варшава-Каунас) Москва считала перевод грузов с польского направления на иные маршруты[1153]. По сравнению с 1931 г. в 1932 г. НКВТ удалось сократить советские транзитные железнодорожные перевозки с Германией, Голландией и Бельгией через «третьи страны» (прежде всего через Польшу) на 73 %, при общем уменьшении грузооборота на 19,3 %[1154]. С возникающими в этой связи комбинациями и был, по всей видимости, связан созыв этой железнодорожной конференции.
До лета 1932 г. СССР являлся участником тройственной железнодорожной конвенции с участием Латвии и Эстонии, тогда как соответствующие соглашения СССР с Финляндией, Польшей, Литвой и Германией являлись двусторонними. 11 июля 1932 г. опросом секретарей ЦК было рассмотрено обращение НКПС о разрешении командировки И.Д. Умрихина и С.М. Журкина в Ригу на открывающуюся 17 июля 12-ю конференцию по делам прямого советско-латвийско-эстонского железнодорожного сообщения. Наиболее важным из вопросов, которые должны были быть рассмотрены на конференции, являлся вопрос о расторжении тройственной советско-латвийско-эстонской железнодорожной конвенции и разделении прямого советско-латвийско-эстонского сообщения на три самостоятельных сообщения. В качестве причин НКПС в своем обращении в ЦК ВКП(б) указывал следующие: 1) невозможность договориться о прямом грузовом тарифе, предоставляющем льготы советским торговым организациям по сравнению с действующим ломаным тарифом; разрыв конвенции будет способствовать тому, что в ходе конкурентной борьбы советским железным дорогам удастся привлечь на себя дополнительные грузы, и 2) необходимость провести конференцию до заключения торгового договора с Латвией, так как результат работ конференции окажет влияние на ход переговоров о договоре. Расторжение соглашения должно было превратить латвийские и эстонские железные дороги в конкурентов, которые стали бы бороться за привлечение советских грузов[1155].
С учетом того, что проблемы заключения нового советско-латвийского торгового договора и снижения тарифов на транзит советских грузов через Латвию в Мемель оставались нерешенными[1156], трехсторонняя советско-германско-латвийская конференция не имела серьезных шансов на успех. Сведений о том, что на конференции предполагалось пересмотреть условия соглашения о Советско-Балтийско-Среднеевропейском сообщении, а также о самом проведении этой конференции нами, не обнаружено.
16 сентября 1932 г.
18. – О заключении нового торгового соглашения с Латвией (т.т. Розенгольц, Карахан, Стомоняков).
Делегации по ведению переговоров о заключении нового торгового договора с Латвией руководствоваться следующими директивами:
а) общая сумма наших заказов не должна превышать 5 млн. руб.;
б) в основу положить принцип эквивалентного торгового баланса;
в) транзит в размере 150–200 тыс. тонн при условии заключения выгодного тарифного соглашения и
г) по вопросу о с.х. продуктах – поторговаться и, в крайнем случае, пойти на то, чтобы они составляли 50 % от общей суммы наших покупок.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Стомонякову.
Протокол № 116 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.9.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 98.
Вопрос был внесен в Политбюро наркомом внешней торговли А.П. Розенгольцем без согласования с членом Коллегии НКИД Б.С. Стомоняковым[1157], назначенным месяцем ранее главой советской делегации на переговорах с Латвией[1158]. Нарком Литвинов был поглощен женевскими переговорами (прибыв на неделю в Москву, 15 сентября он вновь выехал в Женеву), его первый заместитель находился в отпуске, сам Стомоняков вернулся из него 10 сентября (вместо 2-го); поэтому к рассмотрению вопроса о торговле с Латвией был привлечен и.о. наркома Карахан, не имевший, вероятно, самостоятельных взглядов на ведение переговоров. Б.С. Стомоняков склонялся к занятию на них жесткой позиции, с тем, чтобы в ходе их добиться от Риги крупных политических и экономических уступок. Эти расчеты строились на хозяйственных трудностях Латвии и возможности распада правительственной коалиции, поддерживающей премьер-министра Маргиса Скуенека (возможный приход к власти К. Ульманиса Стомонякова «не радовал», поскольку семилетний опыт ведения дел показал ему, что Ульманису решительно ни в чем нельзя верить, это «самый ненадежный из всех латвийских политиков», готовый «обманывать самым бессовестным образом»)[1159]. Руководитель советской делегации не забывал об указаниях Генерального секретаря на заседании Политбюро 23 апреля добиться принятия правительством Латвии мер против организаций белогвардейцев, периодических изданий и т. н. «рижских корреспондентов», информация которых о Советской России служила источником для появления в зарубежной печати неприятных Москве слухов и предположений[1160]. Известно также, что весной 1932 г. Стомоняков предлагал принять в качестве основы для переговоров более скромные показатели объемов закупок и транзита, чем внесенные НКВТ[1161].
Содержание внесенных Розенгольцем проекта директив советской делегации выяснить не удалось. В утвержденных Политбюро указаниях максимальный объем советских заказов был расширен по сравнению с предлагавшимся НКВТ в апреле (3 млн. р.), а размеры транзитных платежей снижены примерно двое. Установка Политбюро относительно размеров импорта сельскохозяйственной продукции с апреля по сентябрь не претерпела существенных изменений. Наконец, неизменной оставалась задача построения нового договора на принципах нетто-баланса.
Вероятно, наряду с зафиксированными постановлениями ПБ директивами, делегация СССР получила и иные указания политического руководства. Приехавшей в Москву 25 сентября латвийской делегации Стомоняков отказывался представить предложения об объемах транзита и заказов (ссылаясь на отсутствие директив правительства[1162]), пока правительство Латвии не приняло первые меры против деятельности белогвардейских организаций. В записке Генеральному секретарю руководитель делегации предлагал усилить нажим на Латвию для выполнения ею всех политических требований СССР, не открывая до тех пор обсуждения «материального содержания» торгового договора. От имени Коллегии НКИД он просил Политбюро принять специальное постановление об увязке заключения договора с выполнением политических требований, которым латвийскому правительству, в случае отказа от пересмотра своей политики в отношении печати и эмигрантских обществ, было бы предложено заключить обычный торговый договор (т. е. без материальных обязательств СССР, предусмотренных решением от 16 сентября)[1163]. В протоколах Политбюро нет упоминания о рассмотрении изложенной Стомоняковым просьбы.
Латвийская делегация попыталась добиться встречи одного из своих членов – Эрнеста Озолиньша (директор Банка Латвии) – с И.В. Сталиным (Озолиньш, якобы, до революции прожил два месяца вместе с будущим генсеком ЦК ВКП(б) в одной комнате в ссылке в Нарыме и даже вместе с ним занимался организацией побега), а также с А.И. Рыковым и А.П. Смирновым (с ними он также познакомился в ссылке)[1164]. На переданную через Стомонякова просьбу Сталин не отреагировал.
Проводя намеченную линию, Стомоняков оказывал давление на Петревица как заявлениями, что без политических уступок речи о заключении договора быть не может, так и ссылками на крайне неблагоприятное отношение советского правительства к развитию торговли с Латвией. Он сообщил, что имел беседы «с т. Караханом и пятью другими членами Совнаркома» (имелись в виду Дволайцкий, Райвид и Розенблюм), которые, якобы, высказались за обычный договор без установления количественных и качественных норм товарооборота. Двое из них, якобы, с большим трудом соглашались на заседании правительства поддержать советские заказы в Латвии на 3 млн. руб., двое – 4 млн. руб., и только один высказался за 5 млн. (а еще один был вообще против). Они, впрочем, благожелательно отнеслись к закупке в Латвии продукции сельского хозяйства, понимая, что необходимо обратить внимание и на интересы собственно латышского населения, а не только национальных меньшинств, в руках которых находится латвийская промышленность[1165].
Как зафиксированные в решении Политбюро цифры, так и данные, которыми оперировал Стомоняков, прикрывали стремление советской стороны избежать по возможности каких-либо четко зафиксированных обязательств в области экономических связей с Латвией. Это хорошо прослеживается в том обстоятельстве, что, как было хорошо известно обеим делегациям, реальные масштабы транзита через латвийскую территорию неизбежно должны были значительно превысить указывавшиеся пределы. Больший интерес представляют другие намерения советской стороны, выявившиеся уже в ходе осенних переговоров. Латвии предлагалось: закупать в СССР 80 % латвийского импорта пшеницы и ржи, 10 000 тонн сахара, предоставить СССР контингенты: по керосину – 85 %, бензину и мазуту, соли, электрическим лампам – 75 %, сельскохозяйственным машинам – 50 %, цементу – 30 000 бочек, антрациту – 20 000 тонн и т. д. Кроме того, особое внимание уделялось предоставлению СССР преференциальных пошлин[1166]. Поскольку одним из наиболее трудных пунктов переговоров обещал стать вопрос о размерах советского транзита через Латвию, НКИД и НКВТ загодя заручились выводами Центрального управления по международным делам и Группы грузовых сообщений наркомата путей сообщения. Исходя из запрашиваемых латвийским правительством 200 тыс. тонн транзита в год из СССР и 100 тыс. тонн в СССР, они считали, что при самом выгодном варианте это обойдется примерно в 760 тыс. американских долларов по действующему тарифу (664 тыс. по еще не введенному в действие тарифу). При транзите через Таллин затраты составили бы всего 375 тыс. долларов, а через Ганге или Або – соответственно 416 тыс. и 441 тыс.[1167]. Эти данные неоднократно затем использовались советской делегацией на переговорах для оказания давления.
Московские переговоры с самого начала оказались в тупике – советская сторона попросту ничего не сообщала об их «материальной базе». Поэтому латвийская делегация попыталась добиться пролонгации торгового договора 1927 г. вплоть до заключения нового соглашения. Советская сторона с этим не согласилась, и партнеры намекнули на возможность «окончательной переориентации» Латвии «на юг». Однако ни это, ни «фондирование по части максимальных пошлин» (по выражению полпреда Свидерского) не произвели на советскую сторону серьезного впечатления. А. Петревиц соглашался не настаивать на советских заказах латышской промышленности («ибо она национально не латышская», пояснял Свидерский) при условии ежегодных сельскохозяйственных закупок на 25 млн. лат (около 10 млн. руб.)[1168].
Через четыре дня после начала переговоров А.И. Свидерский на основе бесед с латвийскими политическими деятелями выдвигал предположение, что достижение соглашения потребует двух этапов переговоров. Правда, обоснование этого предположения (латыши считают, что из-за неуступчивости Стомонякова и Лоренца в Москве переговоры следует продолжить в Риге, где Свидерский доведет их до конца) было сочтено галиматьей[1169]. Тем не менее, в ноябре МИД Латвии сообщил о возможном отзыве делегации, поскольку каких-либо подвижек в обсуждении собственно экономических вопросов не происходило, но советская делегация выдвигала одно за другим политические требования. Латвийское правительство под давлением Москвы приняло ряд мер против эмигрантских организаций. Эти меры, как писал сам Стомоняков, по оценке ОГПУ вызвали панику в рядах белогвардейцев, организации которых были полностью разгромлены[1170]. Однако Стомоняков продолжал настаивать на еще более решительных действиях латвийского правительства, несмотря на то, что правительство Скуенека могло пасть из-за вызванного в политических кругах Латвии недовольства действиями в отношении русских эмигрантов. Более выгодного момента для достижения политических целей в Латвии не было и, вероятно, не будет, объяснял член Коллегии Сталину, поскольку Латвия находится в отчаянной экономической ситуации, а меры против русских эмигрантов нынешнему правительству националистов проводить легче. Стомоняков обратился в Политбюро с просьбой предоставить имеющийся в распоряжении ОГПУ материал о белогвардейских организациях Скуенеку, а чтобы заставить того пойти на еще более решительные меры, рекомендовал предложить заключение торгового договора без обязательных заказов и транзита, а в случае отказа Скуенека от выполнения дополнительных политических требований пойти на перерыв в переговорах. Стомоняков просил Политбюро срочно рассмотреть свое предложение на заседании 16 октября[1171]. Возможность отъезда делегации не вызывала в Москве опасений, так как считалось, что время работает против латышей. Материалы ОГПУ были немедленно переданы латвийским властям (в Москве настолько спешили, что, несмотря на допущенное при перепечатке множество неточностей и ошибок, советовали полпреду не терять времени на их исправление и сразу же передать документы). Скуенек, однако, не рискнул продолжать мероприятия против русских эмигрантов (вопрос приобрел к тому времени международный характер – польский и французский посланники в Риге потребовали прекращения этих мер).
13 ноября латвийская делегация выехала в Ригу, и в переговорах наступил перерыв. 9 декабря в Москву приехал новый глава делегации В. Мунтерс, задачей которого было ведение переговоров не только по проблемам торгового договора, но и заключение хозяйственного соглашения на 1933 г., поскольку стало очевидным, что даже при успешном завершении переговоров о договоре, тот не будет введен в действие с 1 января 1933 г. Перед Рождеством латвийская делегация, не добившись успеха, вернулась в Ригу. В 1933 г. советско-латвийские переговоры были продолжены[1172].
10 сентября 1932 г.
Опросом членов Политбюро
33/1. – Вопрос НКИД.
Принять предложение НКИД о том, чтобы ограничиться встречей освобожденных из польских тюрем коммунистов следующей программой: Во встрече не должны участвовать советские органы, а также Красная армия (не должно быть почетных караулов). В «Негорелом», а также в Дзержинске (Койданове) встреча ограничивается участием небольших делегаций местных рабочих и других организаций без устройства митингов и без приветственных речей.
На вокзале в Минске встречающих делегатов следует ограничить 100-150-ю без произнесения приветственных речей во избежание демонстраций.
Торжественное заседание может быть созвано только от имени МОПРа и профсоюзов. В газетах не публиковать текстов речей на этом заседании. О выступлениях польских коммунистов на предприятиях также не печатать подробных информации в минской печати.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Гикало.
Протокол № 116 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.9.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 100.
Решение Политбюро было принято в преддверии персонального обмена политических заключенных, намеченного на 15 сентября[1173]. Предложение НКИД, по всей вероятности, мотивировалось состоянием политических отношений с Польшей после подписания 25 июля советско-польского пакта о ненападении и перед началом переговоров о согласительной процедуре разрешения двусторонних споров. Дополнительное обстоятельство в пользу воздержания от новых антипольских пропагандистских акций состояло в одновременном проведении в непосредственной близости от места обмена VI съезда Компартии Польши (оказавшийся последним съезд КПП проходил под Могилевом с 8 по 18 сентября 1932 г.).
4 октября 1932 г.
Опросом членов Политбюро
48/28. – Телеграмма т. Литвинова.
Послать следующую телеграмму т. Литвинову:
«На номер 10703 сессия считает формулировку Кадере приемлемой. Подписывайте договор».
Выписка послана: т. Карахану.
Протокол № 118 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 8.10.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13. Л. 119.
Постановление Политбюро знаменовало кульминационный пункт четвертого этапа переговоров о заключении между СССР и Румынией договора о ненападении[1174]. В начале сентября 1932 г. роль посредника в этих переговорах вновь перешла к польской дипломатии. Посланник С. Патек 13 сентября вручил М.М. Литвинову новый вариант заключительного протокола, в котором констатировалось, что «договор не имеет другой цели кроме ненападения и не может быть истолкован для других целей, не [sic] нанести ущерба позиции каждой из сторон в спорах между ними». Несмотря на то, что это указание могло быть истолковано как относящееся к возможным спорам в будущем (против чего возражала советская сторона), нарком не мог не признать, что «новая формулировка заключительного протокола является некоторым шагом вперед»[1175]. В письменном заявлении (возможно, согласованном с руководством ЦК), врученном польскому посланнику на следующий день, она называлась даже «базой, на основе которой можно рассчитывать на скорое достижение соглашения». Единственным препятствием к устройству «встречи уполномоченных обеих сторон, хотя бы на один день, чтобы можно было рассчитывать на заключение пакта», являлось сопровождавшее новый документ предложение вернуться к июльскому (польскому) проекту договора о ненападении, отвергнув, таким образом, согласованный в январе 1932 г. в Риге текст большинства его статей.
В результате обмена мнениями 13–15 сентября Литвинов согласился по пути в Женеву встретиться с Виктором Кадере (опытным юристом и румынским посланником в Варшаве), если тот заручится полномочиями правительства на возвращение к прежней базе переговоров[1176]. В дороге от Белостока до Варшавы Литвинов и Кадере обговорили условия прямых переговоров, после чего нарком продолжил внушения о необходимости «держаться старой базы» в беседах с А. Залеским и его заместителем Ю. Беком[1177]. На встрече с Литвиновым в Женеве 27 сентября румынский уполномоченный подтвердил согласие с принятыми в Риге (окончательно или ad referendum) введением и статьями пакта ненападения. На включение в текст договора ранее предлагавшейся Стомоняковым в Риге ст. III (о недопущении деятельности организаций, имеющих целью вооруженную борьбу против другой стороны) В. Кадере согласился «лишь при условии добавления абзаца относительно недопущения организаций, вызывающих политические и иные беспорядки». В ст. IV (о сохранении в силе ранее принятых сторонами международных обязательств) в Женеве были внесены небольшие поправки.
В «весьма срочной» записке Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) Стомоняков о достигнутых наркомом успехах, фактически предлагая принять к сведению оправданное, на его взгляд, намерение Литвинова вовсе «выкинуть» ст. III и принять редакцию ст. IV. «Наибольшие затруднения при вчерашней беседе вызвал, по-видимому, вопрос о сроке пакта. В Риге я согласовал с румыном, – напоминал член Коллегии НКИД, – заключение пакта на срок в 3 года с продлением его на последующие 2 года, если он не будет денонсирован за 6 месяцев до истечения 3-летнего срока. Такой же срок установлен ныне в пактах с Польшей и Францией. Автоматическое продление пактов, являющееся положительным для нас в пактах с Латвией и другими странами, конечно, нежелательно в пакте с Румынией. Тов. Литвинов, однако, справедливо указывает на то, что разрыв по этому вопросу и дискуссия в печати о нем были бы нам невыгодны». Поскольку нарком «просил директивы только по последнему пункту», Стомоняков предлагал «сообщить ему, что, если все спорные вопросы будут удовлетворительно разрешены, он может уступить Румынии по вопросу о продолжительности пакта».
В записке Сталину дополнительно упоминалось о требовании включить в формулу С. Патека о «спорах» между сторонами определение «существующие территориальные». Эта установка соответствовала советской позиции в переговорах с Румынией, начиная с января 1932 г., а конкретное дополнение было, по всей вероятности, согласовано с Кремлем до отъезда наркома в Женеву. «Из телеграммы видно, – отмечал Стомоняков, – что тов. Литвинов будет настаивать на этой нашей редакции»[1178]. Новая редакция, составленная из вариантов Лашкевича и Патека, на которую к 29 сентября под давлением Франции дало согласие румынское правительство требуемые Москвой слова не включала[1179]; 1 октября Кадере предложил Литвинову «ряд новых формулировок, но везде отсутствовало слово “существующих”»[1180].
Положение на переговорах, происходивших за пределами Женевы, дабы сохранить их в тайне от прессы (и румынской миссии в Швейцарии), резко осложнилось громким заявлением посланника Румынии в Лондоне и ее делегата при Лиге Наций Н. Титулеску о своей отставке в знак протеста против капитулянтской политики правительства в бессарабском вопросе. Нарком понимал, что в силу влияния Титулеску на Кароля II, он «имеет от короля мандат на контроль всей внешней политики Румынии» («Ни один внешнеполитический вопрос не решается Румынией без его участия») и, «кроме того, вообще пользуется большим влиянием в стране»[1181]. Титулеску острее других румынских либеральных политиков сознавал неполноценность международно-правового признания прав Румынии на Бессарабию и считал безответственным усугублять ее, подписывая пакт с констатацией спорности статуса этой территории; сохранение в силе взаимных обязательств СССР и Румынии по пакту Келлога представлялось ему более предпочтительным[1182]. Публичные высказывания Титулеску о готовящемся предательстве интересов страны сильно встревожили румынское правительство и резче обозначили пределы его возможных уступок. При новом свидании с Литвиновым Кадере занял более осторожную позицию, заявив, что рассматриваемый вариант заключительного протокола («формула Патека») не была согласована с Румынией и никогда ею не принималась – и нарком «согласился как на крайнюю уступку на исключение слова территориальных», настаивая, однако, на внесении слова «существующих». Румынский представитель заявил, что пределом возможного компромисса с его стороны явилось принятие сентябрьской формулы Патека, Литвинов заявил Кадере, польским и французским дипломатам (и лично Э. Эррио), что, хотя он «дошел до последней степени уступок» и «пакт нами полностью согласован», «остался спор об одном слове», но пока Бухарест на это слово не согласится, «дальнейшие переговоры с румыном бесцельны»[1183]. Накануне намеченного на 4 октября отъезда Литвинова из Женевы румынский дипломат официально передал ответ своего правительства: Бухарест более не настаивает на бессрочности пакта и соглашается ограничить его действие пятью годами, но «окончательно отклоняет слово “существующие”». Уже при расставании Кадере предложил следующую формулу заключительного протокола: «Стороны согласны, что пакт имеет целью лишь обеспечение существующего мира взаимным обязательством ненападения и не может быть истолкован ни для каких других целей, не предрешить настоящие и будущие споры между ними». Литвинов отказался высказать свое отношение к «какому бы то ни было личному предложению», и его партнер по переговорам обещал 4 октября сообщить, получило ли оно санкцию Бухареста[1184]. «Я считаю эту формулу приемлемой, но не дам согласия до Вашего ответа», – телеграфировал нарком Сталину, обходя молчанием тот факт, что «во всем остальном пакт согласован, и мы вряд ли окажемся в лучшем положении, чем Румыния, если станет известно, что переговоры прерваны и задержано подписание французского и ратификация польского пактов из-за трудноуловимой разницы между “существующие” и “настоящие”»[1185]. Разница между этими понятиями (как и между les diff?rends existants и les diff?rends pr?в оригинальных текстах) действительно была несущественной, и постановление Политбюро, содержащее положительный ответ на запрос Наркоминдела, носило оттенок торжественного повеления, пригодного для цитирования будущими историографами (предложение Литвинова было сформулировано гораздо прозаичнее: «Кадере послезавтра уезжает, поэтому прошу Вас завтра же ответить мне клером словом “получено” или “не получено”, из которого первое будет означать согласие, а второе несогласие»).
К концу дня 4 октября выяснилось, что Кремль поспешил с распоряжением о подписании договора: «Кадере не только взял назад свое вчерашнее предложение, но и стал возражать против всей формулы Патека, даже без слова “существующие”», вернувшись к последней редакции Леже (комбинации формул Лашкевича и Патека), «в которой ни слова не говорится, что пакт не наносит ущерба позициям [сторон. – Авт.] или не предрешает спорных вопросов, а лишь, что эти спорные вопросы не ограничивают действия пакта». Кадере и Литвинов разъехались, намереваясь вернуться в Женеву в середине октября[1186].
После срыва переговоров и возвращения Литвинова в Москву разногласия, скрытые между строк шифрованных сообщений, выступили наружу. «Выводы и предложения» наркоминдела, направленные Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) (и испещренные негодующими пометами члена Стомонякова), гласили: «Румынское правительство несомненно очутилось в трудном положении – между молотом и наковальней. Ему остается либо признать в пакте наличие существующих споров и таким образом подтвердить обвинение Титулеско в том, что оно в официальном документе признало незаконность операции по присоединению Бессарабии, рискуя быть свергнутым, либо же отказаться от пакта, признав правоту Титулеско… Надо думать, что оно предпочтет вторую часть дилеммы. Давление Франции и Польши не пойдет так далеко, чтобы подвергать риску существование румынского правительства. Я считаю поэтому мало вероятным, чтобы при последующих переговорах румынское правительство признало формулу Патека без нашего добавления, и еще менее вероятным с добавлением слова “существующих”. Поскольку, однако, был такой момент, когда спор сводился к слову “существующих”, можно рассчитывать на поддержку Франции, если мы от этого слова откажемся. Французы не понимают, почему мы так настойчиво добиваемся этой вставки и почему румыны так упорно возражают против нее. Они, очевидно, рассуждают так же, как и я, что если говорится о ненанесении ущерба позиции сторон в спорах между ними, то речь идет только о существующих, а не будущих спорах. По будущим спорам совершенно неизвестного характера не может быть еще позиции у сторон. Я понимаю, что слово «существующие» еще больше подчеркивает наличие спорных вопросов, но не вижу, чтобы это подчеркивание было абсолютно необходимо. В конце концов формула будет различно толковаться нами и румынами. Поскольку слово “территориальные” отсутствует, румыны будут говорить, что имеются в виду споры о золоте, о военном имуществе, картинах и т. д., между тем как мы будем утверждать, что в формулу включена также Бессарабия. Ни мы, ни румыны ничем не можем доказать правильность того или иного толкования и слово “существующие” ничего в том или ином толковании не меняет».
В записке ставился под сомнение и другое настояние, с января 1932 г. являвшееся частью советской переговорной позиции, – вручение, при подписании пакта, особой ноты с подтверждением неизменности отношения СССР к проблеме Бессарабии. «Румыния на одностороннюю ноту ни в коем случае не согласится», объяснял Литвинов, и поскольку «инициатива обмена нот исходит от нас, румынская нота считалась бы ответом на нашу и таким образом последнее слово осталось бы за Румынией». Перечислив вытекающие из этого невыгоды, нарком заключал: «считаю поэтому обмен нот вредным»[1187].
Литвинов предлагал основывать решение о дальнейшем поведении Москвы не на споре о словах («вопрос о Бессарабии не будет решаться на основании пакта о ненападении или того или иного его истолкования»), а исходя из «политического эффекта от пактов с Румынией, Польшей, в особенности с Францией». Он не исключал, что «через некоторое время» в новых переговорах с Бухарестом удастся добиться принятия им и сакраментального определения «существующие». «Возможна, однако, другая конъюнктура. Нынешнее румынское правительство весьма слабо, оно может уступить место другому, в котором будет еще сильнее влияние или даже руководство Титулеско, тогда договориться вообще невозможно будет. Не вечно также правительство Эррио». Нарком предлагал поэтому в переговорах с Кадере вернуться к формуле Патека, и, если дополнить ее словом «существующие» окажется невозможно, отказаться от него, а также снять советское условие о возможности односторонних заявлений при подписании пакта[1188].
Записка наркома стала, во всей вероятности, предметом обсуждения не только в НКИД, но и в Кремле. Аргументации Литвинова член Коллегии Стомоняков противопоставил «категорическое утверждение, что “Румыния уступит”» и заверения, что в «ближайшее время» обстановка для переговоров с Францией и Румынией для СССР улучшится. Предложения Литвинова о пересмотре условий заключения пакта ненападения были политическим руководством отвергнуты. Последующие дни подтвердили прогноз Литвинова о том, что предел уступок Бухареста уже достигнут и его позиция будет лишь ужесточаться. 14 октября правительство А. Вайды-Воевода подало в отставку, капитулировав перед Титулеску. Триумфально поддержанный Палатой депутатов, 20 октября Титулеску был назначен министром иностранных дел Румынии в новом правительстве Ю. Маниу, и сообщения из Бухареста не оставляли сомнений, что оно потребует от СССР новых уступок по всем статьям пакта.
Переговоры о заключении договора о ненападении между СССР и Румынией были по существу закончены, и Москве оставалось «использовать последние недели существования кабинета Эррио», чтобы изыскать пути преодоления установленной Парижем взаимосвязи между заключением Францией и Румынией пактов ненападения с СССР[1189]. Выход был найден в письменном обязательстве полпреда Довгалевского о готовности СССР подписать – в любой момент в течение четырех месяцев – согласованный ранее текст пакта ненападения с Румынией, «включая Заключительный протокол, предложенный г-ном Кадере» (тем самым оставалось в силе требование определить «споры» между сторонами как «существующие»)[1190]. 29 ноября договор о ненападении между СССР и Францией был подписан; Польша согласилась более не откладывать ратификацию пакта ненападения с Советским Союзом.
Вопреки внешнему впечатлению от формулировки постановления Политбюро от 4 октября 1932 г., оно по существу перечеркнуло последнюю реальную возможность заключения договора ненападения между СССР и Королевством Румыния, поскольку основывалось на всепоглощающем стремлении утвердить характеристику споров между двумя странами как existants или, по меньшей мере, pr?sents. Мотивы этой настойчивости, как показывает записка наркома Литвинова Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) от 10 октября, вряд ли сводились в убежденности советского руководства в том, что отказ от такого определения нанесет ущерб позиции СССР по бессарабской проблеме (во что, судя по всему, верил Стомоняков). Возможно, Сталин и другие члены высшего руководства, выступавшие в качестве авторитетных представителей Политбюро при решении международных вопросов (Молотов, Каганович), делали ставку на то, что жесткостью своей позиции СССР либо добьется однозначной дипломатической победы, либо, при срыве пакта, усугубит противоречия между Румынией и ее союзницами – Францией и Польшей. С другой стороны, упорство в переговорах с Румынией компенсировало «необыкновенно быструю уступчивость, которую мы, после долголетних споров, проявили в переговорах с Польшей о заключении пакта ненападения»[1191], вынужденное согласие с принципом «круглого стола» – взаимосвязанностью переговоров о ненападении со всеми западными соседними государствами возмещалось отсутствием такого договора на одной из самых неспокойных границ Европы – «линии Днестра». Ущерб, наносимый тем самым международным позициям Румынии, должен был подтолкнуть Польшу и другие сопредельные государства к большей уступчивости перед растущей силой СССР.
К этой интерпретации рассматриваемого решения склоняет и тот факт, что девятью месяцами позже СССР и Румыния стали инициаторами региональной («Лондонской») конвенции об определении агрессии, при заключении которой вопрос о Бессарабии был совершенно оставлен «в стороне», чего тщетно добивалось румынское правительство в 1932 г. В преамбуле констатировались равные права государств «на защиту своих территорий», и на комментарий Литвинова – «подписав конвенцию, мы вручили вам Бессарабию», Титулеску мог горделиво ответствовать: «Господь, а не вы, предоставил нам Бессарабию»[1192].
30 октября 1932 г.
Опросом членов Политбюро
55/27. – О взаимоотношениях с Эстонией.
Принять предложение НКВТ о закупке в Эстонии в течение 4 квартала товаров для Торгсина на сумму в 200 тыс. р.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Куйбышеву.
Протокол № 121 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.11.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. On. 162. Д. 13. Л. 141.
Вопрос о торговых отношениях с Эстонией стал актуальным в первой половине 1932 г. Возникшее в эстонских политических кругах недовольство уровнем торговых отношений с СССР вылилось в требование денонсации торгового договора 1929 г. и критику бывшего главы государства К. Пятса, при поддержке которого он был заключен. Осенью 1932 г. создались благоприятные Москве возможности для возвращения к проблемам советско-эстонских торговых отношений. Прежде всего, эстонское правительство отказалось от денонсации советско-эстонского торгового договора 1929 г.; многолетнее «дело Пертселя» завершилось в пользу торгпредства СССР в Таллине[1193]. С другой стороны, зашли в тупик советско-латвийские переговоры о заключении нового торгового договора, что побеждало оживить экономические связи с Эстонией, прежде всего за счет увеличения транзитных перевозок[1194] (преградой явилась решимость НКПС развивать транзитные операции в первую очередь через советские порты – Ленинград и Мурманск).
Вопрос был внесен в Политбюро по инициативе А.П. Розенгольца, просившего решить его опросом. Глава Наркомвнешторга полагал, что благополучный исход в деле Пертселя «открывает возможность» для налаживания нормальных экономических отношений с Эстонией. К осени 1932 г. эти отношения находились на таком уровне, что даже всегда скептичный в отношении торговли с прибалтийскими государствами Розенгольц признавал необходимость внесения «некоторого корректива в наш баланс с Эстонией» и закупить в Эстонии товаров для Торгсина в четвертом квартале на 250 тыс. руб. Предупреждая возможную негативную реакцию со стороны представителей промышленности (НКВТ предлагал израсходовать валюту на товары широкого потребления), Розенгольц отмечал, что валютная выручка от продажи через Торгсин превысит стоимость товаров в 2–3 раза[1195].
Накануне обсуждения вопроса в Политбюро член Коллегии НКИД Б.С. Стомоняков официально поддержал предложения Наркомвнешторга. Стомоняков особо указывал, что эстонское правительство не пошло на денонсацию торгового договора (19 октября истек срок для официального заявления об этом), хотя этот договор практически ничего не дал Эстонии. Возможность денонсации не устранена полностью, предупреждал Стомоняков, и через полгода, если Эстония так ничего и не получит, она потребует заключения нового договора на условии предоставления определенных контингентов, что обойдется СССР дороже, чем выдача некоторых заказов по собственной воле. Отказ же от торгового договора закрыл бы доступ советских товаров на эстонский внутренний рынок[1196]. Среди этих товаров советская сторона особое внимание обращала на экспорт сельскохозяйственных машин, выражая готовность осуществлять их запродажи даже «путем товарообмена на сельскохозяйственные продукты»[1197]. Активность НКИД в этот период в вопросах развития экономических отношений с Эстонией была обусловлена во многом тем, что пост Главы государства снова занял К. Пятс. Его правительство, как писал Стомоняков, являлось для СССР «из всех возможных эстонских правительств наиболее благоприятным с точки зрения советско-эстонских отношений». Именно поэтому следовало «сделать все возможное для всестороннего улучшения советско-эстонских отношений»[1198].
Предлагаемая НКВТ и поддержанная НКИД мера являлась обычной практикой в отношениях Москвы с Прибалтийскими государствами и Финляндией, к которой прибегали, когда – при отсутствии валюты и возможностей для наращивания объемов импорта – требовалось достижение краткосрочного политического эффекта. Тем не менее, Политбюро «урезало» запрошенную сумму закупок на 50 тыс. руб.
19 ноября 1932 г.
Опросом членов Политбюро
59/35. – О посылке хозяйственной делегации в Финляндию.
1. Поручить НКВТ послать в Финляндию ответную делегацию с целью ознакомления с финляндским рынком для выяснения возможностей расширения нашего экспорта в Финляндию.
Состав делегации ограничить пятью или четырьмя человеками представителей основных экспортных и импортных объединений. Председателем делегации назначить т. Дволайцкого Ш.М.
2. Состав делегации утвердить т.т. Розенгольцу и Постышеву.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Литвинову, Постышеву.
Протокол № 123 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25.11.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. On. 162. Д. 14. Л. 15.
Поездка советской хозяйственной делегации была ответной на визит финской делегации, совершенный в феврале 1932 г.[1199] Незаинтересованность НКВТ в расширении импортных операций с Финляндией являлась, по-видимому, главной причиной неторопливости Москвы при подготовке данной поездки. Двусторонняя торговля продолжала переживать не лучшие времена. В октябре 1932 г. представители созданного в Финляндии общества по распределению среди финских коммерсантов советских товаров (на вырученные от этих товаров средства советская сторона закупала продукцию сельского хозяйства) П. Корписаари (депутат эдускунты от коалиционной партии, председатель финансового комитета эдускунты) и Э. Пуллинен (депутат эдускунты от Аграрного союза) направили обращение А.С. Юрье-Коскинену, указывая, что общество столкнулось с большими препятствиями. Русские предлагали товары такого качества, которые никто не хотел покупать (даже если не упоминать об их несуразно высокой цене), и, вместе с тем, предъявляли завышенные требования к финским товарам. Тем не менее, авторы обращения выступили за поддержание торговли с Ленинградом как перспективным рынком сбыта финских продуктов[1200]. Пуллинен и Корписаари не довольствовались обращением к Юрье-Коскинену. Еще в 20-х числах октября 1932 г. поверенный в делах Н.Г. Поздняков сообщал в НКИД, что заместитель торгпреда Торский имел беседу с группой финских дельцов, обвинивших торгпредство в игнорировании недавно созданного общества по торговле с СССР. В ходе беседы, Торскому, в вежливой форме, пригрозили, что, если отношение к обществу не изменится, то его представители предпримут усилия для того, чтобы добиться у финского правительства повышения пошлин на ввозимый в Финляндию лес и т. п. мер. Помимо этого была затронута и тема торгового договора[1201]. Угроза повышения пошлин на сплавляемый для переработки в Финляндию карельский лес, скорее всего, не была воспринята в Москве серьезно. В этом сплаве были заинтересованы обе стороны. Поверенный в делах Поздняков, оценивая вероятность принятия репрессий против сплава леса из СССР, считал, что сами финские заводчики предпримут меры, чтобы сорвать их, как это было в 1931 г.[1202]
Совершенно иным было отношение в Москве к возможности очередной дискуссии с Хельсинки о заключении торгового договора. В середине ноября заведующий экономической частью НКИД Л.Э. Березов направил в НКВТ, НКПС, Наркомвод, Внешторгтранс, ГУПО ОГПУ и IV Управление Штаба РККА письма с приглашением на созываемое НКИД совещание по вопросу о торговом договоре с Финляндией. Совещание состоялось 19 ноября, – в тот же день, когда было принято опросом данное постановление Политбюро. Представители ОГПУ и Штаба РККА не присутствовали. Ни НКВТ, ни НКПТ не проявили особой заинтересованности в заключении торгового договора. Позицию внешнеторгового ведомства представитель последнего сформулировал следующим образом: «возражений против заключения с финнами договора, основанного на принципе наибольшего благоприятствования, не имеется. Однако НКВТ не может согласиться ни на какие компенсации в виде каких бы то ни было обязательств по закупкам, заказам и т. п. Договор может дать нам известные выгоды в виде снижения пошлин лишь на наши второстепенные товары. По основным нашим экспортным товарам мы уже сейчас имеем достаточно льготные таможенные условия». Представитель Наркомата путей сообщения склонен был рассматривать эвентуальное понижение тарифов на перевозки по финским железным дорогам в качестве способа оказания давления на Латвию и Эстонию, но был против предоставления финской стороне гарантий на увеличение или простую фиксацию объемов советского транзита[1203]. В результате обсуждения на заседании было принято постановление из четырех пунктов:
– заключение с Финляндией торгового договора, основанного на какой-либо материальной базе (обязательства по закупкам, транзиту и т. п.), нецелесообразно;
– возможно заключение договора обычного типа, основанного на принципе наибольшего благоприятствования;
– просить НКВТ выяснить возможность расширения товарообменных операций с Финляндией;
– просить НКВТ выяснить возможность получения советской стороной таможенных льгот[1204].
Следовательно, есть основания для предположения, что посылка советской хозяйственной делегации в Финляндию была своего рода паллиативом, позволяющим избежать, обсуждения темы заключения торгового договора. В состав делегации помимо члена Коллегии НКВТ Ш.М. Дволайцкого, вошли Адамский (председатель правления «Электроимпорта»), Хилков (и.о. председателя правления «Маштрансимпорта»), Турбин (заместитель начальника сектора Импорта оборудования НКВТ), Дедя (заместитель председателя правления «Продэкспорта»), Аккерман (член правления «Союзнефтеэкспорта»). Приезд делегации в Хельсинки был приурочен ко Дню независимости Финляндии. В связи с поездкой советской делегации Б.С. Стомоняков предложил поверенному в делах СССР в Финляндии Н.Г. Позднякову воздержаться от участия в чисто деловых переговорах с финскими коммерческими кругами[1205]. Вероятно, это указание было обусловлено не только желанием избежать придания визиту делегации правительственного уровня (и иметь возможность при возникновении затруднений с осуществлением возможных договоренностей отклонить претензии официальных финских властей), но и известной ревностью руководства НКВТ к сохранению информации о подобного рода переговорах в секрете от остальных центральных советских органов власти. Хотя во время визита была проявлена «весьма повышенная внимательность» со стороны части финских деловых кругов, «которые сидят в металлической и судостроительной промышленности»[1206], результатом поездки делегации не стало даже временное оживление советско-финской торговли.
7 декабря 1932 г.
Опросом членов Политбюро
42/36. – Об обеспечении экспорта в Эстонию.
Передать на разрешение в Валютную комиссию.
Протокол № 125 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.12.1932. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 910. Л. 11.
Обращение Политбюро к теме экономических связей с Эстонией в конце 1932 г. подтверждает, что как НКВТ, так и политическое руководство продолжали придерживаться утвержденной в конце октября установки на активизацию этих связей после ликвидации «дела Пертселя»[1207]. Незадолго до принятия этого решения, НКИД обратился к Наркомату путей сообщения с просьбой об усилении транзита через Эстонию. Такое внимание к состоянию советско-эстонских экономических отношений во многом объяснялось тупиковой ситуацией на московских переговорах с Латвией[1208]. «Усиление транзита и заказов [в Эстонии], – по признанию Стомонякова, – получает дополнительное значение ввиду состояния наших экономических отношений с Латвией»[1209].
Точное содержание внесенных в Политбюро предложений установить не удалось. Несоответствие формулировок этого пункта повестки дня и принятого решения («обеспечение экспорта» поручалось рассмотреть Валютной комиссии Политбюро, обычно занимавшейся разрешением проблем, связанных с импортом), вероятно, объясняется тем, что речь шла об оплате транзита через территорию Эстонии. Именно в увеличении объемов советского транзита было заинтересовано эстонское правительство. Однако «под давлением затруднений, испытываемых нашей внешней торговлей вследствие мирового кризиса, НКВТ и НКПС имеют директиву правительства всемерно направлять наши экспортные и импортные грузы на Ленинград и Мурманск вместо Риги, Ревеля, Мемеля и Кенигсберга», – сообщал полпреду в Таллин Стомоняков[1210]. Летом 1933 г. Коллегия НКВТ с удовлетворением констатировала достижения в работе Объединения «Внешторгтранс»: «Использование перевалочных иностранных портов – Ревеля и Риги – значительно сокращено. Грузооборот по Риге и Ревелю составил в 1931 г. 269 000 тонн, или 1,13 %, а в 1932 г. только 90 000 тонн, или 0,5 % по отношению к общему грузообороту по западной границе». В результате было сэкономлено 750 тыс. золотых рублей[1211].
16 января 1933 г.
4. – О Польше (т. Литвинов).
а) Предложить ОГПУ представить НКИД список лиц по Польше, въезд которых в СССР в качестве дипкурьеров нежелателен и запретить выдачу виз таким лицам.
б) Предложить полпреду в Варшаве принять к строгому руководству распоряжение НКИД о невыдаче местных виз без санкции НКИД.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Ягоде.
Протокол № 128 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.1.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 14. Л. 43.
В начале 1930-х гг. II Отдел Главного Штаба Польши расширил практику направления своих офицеров в Москву в качестве дипломатических курьеров[1212], что в советских кругах объясняли стремлением активизировать разведывательную работу ввиду возможности военного столкновения Советского Союза и Японии. Эти опасения не были безосновательными, однако решение Политбюро вело к изменению сложившейся дипломатической практики и не учитывало политического влияния, которым пользовались офицеры II Отдела (в том числе бывшие) в правительственных кругах. Сообщение о новом порядке выдачи виз на кратковременное пребывание дипкурьеров в СССР вызвало яростную реакцию начальника Восточного отдела МИД (в прошлом – начальника II Отдела) полковника Т. Шетцеля. «Заострение на этом пункте отношений с польским генштабом, за которым стоит маршал, наступило не ко времени, когда в Варшаве мы сделали несколько удачных шагов навстречу этому штабу, – докладывал Антонов-Овсеенко. – И в результате Шетцель вне всякой моей инициативы предложил мне устроить свидание с маршалом. Ныне… это свидание отпадает»[1213]. Член Коллегии НКИД осудил предпринятые без санкции Центра попытки полпреда сгладить остроту конфликта из-за невыдачи виз офицерам польской разведки, добавив: «Нам и в голову не приходило, что из-за этого может получиться обострение в наших отношениях с Польшей»[1214].
В феврале 1933 г., ужесточая линию на противодействие разведывательной и политической работе Главного Штаба в Москве, советские представители потребовали отзыва из Москвы военного атташе полковника Я. Ковалевского. Оправдывая в беседе с Ю. Лукасевичем действия СССР, Литвинов заявил, что НКИД «приходилось считаться с материалами, представленными нам соответственными советскими ведомствами», в частности, «о разговорах между Ковалевским и японским военным атташе, которые трудно было не квалифицировать как поощрение японской агрессии. Подозрения вызывала также польская организация курьерской службы». Предлагая посланнику завершить обсуждение мер, принятых Москвой в январе-феврале 1933 г., нарком примирительно заметил: «Но в общем подозрительность не есть сама по себе болезнь, а только симптом, и я не сомневаюсь, что с улучшением наших отношений уменьшится и подозрительность»[1215]. Действительно, с середины апреля надзор ОГПУ за передвижениями польского посланника и исполняющего обязанности военного атташе был существенно ослаблен[1216].
11 апреля 1933 г.
Опросом членов Политбюро
40/16. – О поездке в Польшу торговой делегации.
1. Поручить НКВТ командировать делегацию в составе семи товарищей для ознакомления с производством и торговыми возможностями Польши.
2. Председателем делегации назначить т. Тамарина.
3. Состав делегации представить на утверждение ЦК.
Протокол № 136 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 23.4.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 921. Л. 12.
Кризис советско-германского партнерства в начале 1933 г. и осложнения в отношениях СССР с Италией и Францией в связи с переговорами о «пакте четырех держав» стимулировали тенденции к позитивному взаимодействию между Москвой и Варшавой. В начале апреля руководители НКИД с удовлетворением (и едва ли не удивлением) констатировали «все более очевидное стремление Польши если не к улучшению, то, по крайней мере, к манифестированию улучшений отношений с нами»[1217], несмотря на то, что с начала 1933 г., как отмечал посланник Ю. Лукасевич, Москва возбуждала «один за другим такие вопросы, которых обсуждение никак не может быть полезным»[1218]. Особенно подкупающее впечатление произвело на Москву отсутствие критики советских властей в деле «Метро-Виккерс», приведшего в марте-апреле 1933 г. к разрыву всех экономических связей СССР с Великобританией. Несмотря на подозрения, что такое поведение Варшавы имеет целью усилить свои позиции перед соглашением с Германией, руководство НКИД решило «по всем текущим вопросам наших отношений, где это только допускается нашими интересами, идти навстречу польским предложениям», как для того, чтобы «укрепить наши отношения с Польшей», так и для того, чтобы «так же манифестировать перед внешним миром их улучшение»[1219].
В какой степени в Политбюро разделяли эти взгляды, в точности неизвестно. Однако оно согласилось с инициативой Б.С. Стомонякова «послать в самое ближайшее время в Польшу авторитетную хозяйственную делегацию». Член Коллегии рассматривал этот шаг, как паллиативное решение в условиях, сложившихся после того, как в Москве было отвергнуто его предложение о заключении с Польшей торгового договора[1220]. Выезд советских хозяйственников в Польшу рассматривался как ответный визит на посещение СССР группой польских промышленников во главе с председателем «Левиафана» А. Вежбицким весной 1931 г., а отчасти и как ответный жест на запланированный на начало мая приезд в Москву влиятельного пилсудчика Б. Медзинского. Накануне проведения опроса о посылке торговой делегации член Коллегии НКВТ А.М. Тамарин был утвержден торгпредом СССР в Польше[1221], что, вероятно, не было учтено в проекте постановления о назначении его главой делегации НКВТ и вызвало необходимость внести соответствующее изменение. Персональный состав делегации из ведения Секретариата был передан на усмотрение Политбюро. 15 апреля «во изменение» предшествующего решения Политбюро назначило председателем делегации Боева, заместителем председателя Тамарина, членами делегации Киселева, Бармина, Хазанова[1222]. Тем самым при сокращении первоначально установленной численности представителей СССР официальный статус делегации повысился: ее новый председатель И.В. Боев занимал пост заместителя наркома внешней торговли СССР. Другие члены делегации являлись представителями советских внешнеторговых организаций («Союзметимпорт», «Станкоимпорт», «Техноимпорт»).
Делегация Боева прибыла в Польшу 1 мая и была встречена в Столбцах главным директором «Совпольторга» Ю. Зябицким и директором Торговой палаты Польши и СССР С. Яблоньским. Перед отъездом советской делегации (14 мая) в ее честь был дан банкет, на котором с речью выступил министр торговли и промышленности Ф. Зажицкий. Проявленная к делегации вежливость «граничила с открытой симпатией»[1223]. В течение десяти дней советские хозяйственники посетили шесть промышленных центров, проявляя интерес преимущественно к металлургическим и машиностроительным предприятиям. В ходе визита были заключены лишь небольшие контракты на поставку в СССР металла и станков[1224]. Согласно публичным разъяснениям руководителей делегации, ее главная цель состояла в том, чтобы «устранить существующие недостатки в товарообмене с Польшей, который должен быть значительно расширен», ознакомиться с производственными возможностями Польши и собрать информационный материал для представления центральным органам планов развития двусторонней торговли[1225]. По утверждению Боева, эти задачи были выполнены, а его длительная беседа с Зажицким «проходила в атмосфере сердечности и понимания необходимости углубить экономические взаимосвязи между Польшей и СССР»[1226]. От обсуждения перспектив торгового договора[1227] члены советской делегации уклонялись. По данным информаторов британской миссии в Варшаве, Боев и его коллеги не скрывали, что расширение торговых связей с Польшей они рассматривают как результат изменения политико-экономической конъюнктуры – напряженных отношений СССР с Соединенным Королевством и «менее благоприятных отношений с Германией, вызванный антисоциалистической политикой правительства Гитлера»[1228].
Визит советской торговой делегации широко освещался польской и советской печатью. Польская пресса акцентировала свое внимание на посещении делегацией Гдыни и заявлении Боева о том, что «польский народ может и должен гордиться» этим новым портом, «ибо такая работа является огромным вкладом в дело укрепления независимости польского государства». Политический смысл приезда советских хозяйственников был подчеркнут также приемом в МИД, где с И.В. Боевым и В.А. Антоновым-Овсеенко встретился министр Ю. Бек (12 мая 1933 г.).
15 апреля 1933 г.
Опросом членов Политбюро
50/36. – Вопросы комиссии обороны.
[…]
2. а) В целях проверки и дублирования наших конструкторских работ разрешить НКВМору произвести закупку дивизионных пушек Шкода.
Для закупки выделить особые средства в размере до 200 тыс. ам. долларов сверх контингента НКВМ.
Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Ворошилову, Орджоникидзе, Розенгольцу.
Протокол № 136 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 23.4.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. On. 162. Д. 14. Л. 121.
Сведений о подготовке, принятии и выполнении этого постановления получить не удалось; соответствующие материалы в делах Отдела внешних заказов НКВМ отсутствуют (возможно, закупки были проведены через Берлинский центр НКВТ).
В начале 30-х гг., признавая значимость военной промышленности Чехословакии – «тыловой базы» и «арсенала» ближайших противников СССР, Москва вместе с тем предпочитала осуществлять основные закупки военной техники в Германии, Италии, Великобритании, а также Швеции (концерн «Бофорс» производил едва ли не лучшие в мире артиллерийские установки). Впервые явно обозначившееся внимание советских органов к продукции Шкоды ограничивалось преимущественно возможностью приобретения тяжелых орудий. (Неофициальное предложение правительства ЧСР в сентябре 1933 г. о поставках РККА шкодовских пулеметов, напротив, было отвергнуто)[1229]. Интерес к орудиям дивизионной, корпусной и горной артиллерии, выпускавшимся концерном Шкода, сохранился и в последующие годы, однако вопреки запросам армии и флота вместо сотен орудийных установок по-прежнему разрешалось закупать «только исключительно важные образцы вооружения, если они имеются у чехов»[1230].
Принятию решения о закупке в ЧСР крупной опытной партии дивизионных пушек, вероятно, способствовало изменение атмосферы политических взаимоотношений Москвы и Праги после предложения министра иностранных дел Э. Бенеша о заключении пакта ненападения между Малой Антантой и СССР, которое 7–9 марта было доведено до сведения советского руководства[1231].
14 апреля на протяжении полутора часов Сталин беседовал с членами Комиссии обороны Молотовым и Ворошиловым, наркомом Литвиновым и его заместителем Караханом; 15 апреля Литвинов посетил кабинет Сталина дважды – с курировавшим отношения со странами Средней Европы Крестинским. и позднее провел около двух часов вместе с Молотовым и Караханом[1232]. Не исключено, что в ходе этих встреч был затронут «вопрос Комиссии обороны».
14 мая 1933 г.
Опросом членов Политбюро
45/24. – Вопросы грузового сообщения между СССР, Финляндией, Польшей и Германией.
а) разрешить НКПС послать в Финляндию на ж.д. конференцию по прямому советско-финляндскому грузовому сообщению сроком на 25 дней делегацию в составе: т. Арнольдов (пред.), Журкин, Петров.
б) не возражать против проведения в Москве с 15.V. съезда по советско-польско-германскому грузовому ж.д. прямому сообщению и с 25.V. конференции по советско-польскому грузовому ж.д. прямому сообщению.
в) разрешить приезд на съезд и конференцию пяти представителей польского министерства путей сообщения и четырех представителей германских железных дорог.
Протокол № 138 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.6.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 923. Л. 11.
В апреле 1933 г. наркомат путей сообщения и дирекция Правительственных железных дорог Финляндии согласовали вопросы для железнодорожной конференции по прямому советско-финляндскому грузовому сообщению. Главными из них являлись размеры тарифов за транзит, переход с оплаты транзита в долларах США на национальные валюты и придание решениям предыдущей IX конференции (Ленинград, май-июнь 1932 г.) законодательного оформления[1233]. Это определило необходимость подписания президентом Финляндии еще до начала конференции закона о внесении изменений в ст. 3 советско-финляндской конвенции 1924 г. Президент П.Э. Свинхувуд подписал этот закон 9 мая.
Десятая советско-финляндская конференция проходила в Хельсинки с 22 мая по 18 июня 1933 г. Советскую сторону представляли начальник Октябрьских железных дорог А.М. Арнольдов, старший экономист Центрального управления по международным делам НКПС С.М. Журкин, начальник подвижного состава Октябрьских железных дорог М.В. Петров и военно-морской атташе Д. Булгари. Финскую делегацию возглавлял Обер-директор Финляндских Правительственных железных дорог В. Янссон.
О съезде и конференции по советско-польско-германскому грузовому сообщению и советско-польской конференции сведений не обнаружено.
В первый день 1934 г. опросом членов Политбюро был разрешен приезд польской делегации в составе семи человек для участия в открывшемся в начале января Х-го съезда по делам советско-польского прямого сообщения[1234].
23 мая 1933 г.
Опросом членов Политбюро
86/65. – О переговорах с Латвией.
а) Принять следующее предложение НКИД: Возобновить переговоры с Латвией на основе нетто-баланса, но без твердых формальных обязательств в отношении цифр. Дать Латвии обещание в порядке джентльменского соглашения в меру возможностей, максимально поднять сумму заказов нашего экспорта.
б) до вступления в переговоры произвести зондаж о приемлемости варианта для Латвии; а т. Розенгольцу обязать тем временем произвести в Латвии закупки на 300 000 руб.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Розенгольцу.
Протокол № 138 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.6.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Oп.162. Д. 14. Л. 144.
Продолжавшиеся с конца сентября 1932 г. советско-латвийские переговоры о заключении нового торгового договора не привели к позитивным результатам[1235]. Столкнувшись с жесткой позицией советской стороны, фактически отказывавшейся от закрепления в будущем соглашении обязательств в отношении объемов советских закупок в Латвии, представители латвийского правительства попытались найти иные возможности для сохранения и расширения торговых связей с СССР. В конце декабря 1932 г. коммерческий атташе миссии в Москве Ф. Зоммерс в беседе с юрисконсультом «Совпольторга» М.Л. Минцем зондировал возможность создания аналогичного «Совпольторгу» совместного советско-латвийского акционерного общества. Тем временем Рига заняла твердую позицию в вопросе обложения пошлинами советских товаров, что фактически являлось ее единственным козырем в затянувшемся торге о заключении договора, и вдвое подняла импортные тарифы. Советская сторона лишилась не только особых преимуществ, но и прав наибольшего благоприятствования. Москва, в свою очередь, полностью перестала размещать в Латвии заказы (в декабре 1932 г. импорт в СССР составил всего 37 тыс. лат)[1236]. 2 февраля 1933 г. правительству Латвии была направлена нота, в которой констатировалось, что денонсация торгового договора означает автоматическое возвращение к положениям Мирного договора от 11 августа 1920 г., статьей 17 которого предусматривается минимальная база для обложения. Рига отвергла эту аргументацию, сославшись на то, что период действия режима наибольшего благоприятствования в торговле с СССР определялся утратившим силу торговым договором[1237].
Передаче вопроса о торговле с Латвией в Политбюро предшествовало очередное обострение противоречий между НКВТ и НКИД по проблемам экономических отношений с государствами Прибалтики, включая Латвию. В конце декабря 1932 г., вслед за отъездом из Москвы латвийской делегации, начальник 1 Западного сектора – член Коллегии НКВТ Ш.М. Дволайцкий подготовил для наркома А.П. Розенгольца специальную записку, в которой указывал на желательность изменения прежних директив, категорично настаивая на серьезном сокращении объемов советских заказов в Латвии. 1 января 1933 г. в НКВТ было созвано специальное совещание, на котором члену Коллегии НКИД Б.С. Стомонякову удалось убедить Розенгольца в том, что предлагаемые Дволайцким меры нецелесообразны и способны нанести большой политический вред. Как показали дальнейшие события, Ш.М. Дволайцкий решил не отступать. 11 февраля у А.П. Розенгольца состоялось повторное обсуждение этой проблемы договора с Латвией. Дволайцкий представил свои аргументы: экспорт СССР в Латвию неизбежно сократится из-за отсутствия свободных экспортных фондов зерна на продажу и незначительности планируемых продаж нефтепродуктов, а общая кризисная ситуация в советской внешней торговле повлечет сокращение объемов транзитных перевозок, особенно на латвийские порты. Во избежание пассивного сальдо в торговле с Латвией, доказывал Дволайцкий, необходимо заключить договор на основе нетто-баланса[1238]. Убедительность аргументации члена Коллегии наркомата вынудила А.П. Розенгольца радикально изменить свою прежнюю позицию, и он решил передать в Политбюро предложения НКВТ об отказе от предусматривавшихся ранее обязательств по советским закупкам в будущем договоре с Латвией[1239].
Этот подход вызвал упорное сопротивление внешнеполитического ведомства, которое рассматривало заключение торгового договора в качестве единственной меры, способной предотвратить «окончательное ослабление политического влияния СССР в Латвии» и ее сближение с Польшей. Полпреду А.И. Свидерскому поручалось, в частности, выяснить, готово ли латвийское правительство сделать заверения в том, что после подписания договора Латвия не станет добиваться образования польско-прибалтийского блока наподобие Малой Антанты[1240]. С начала 1933 г. старые опасения все больше переплетались с новыми, вызванными национал-социалистической революцией в Германии. «Значение торгового договора с Латвией сильно выросло для нас по сравнению с осенью прошлого года, – повторял Стомоняков доводы НКИД при обращении к Сталину в начале июня. – В Прибалтике чрезвычайно усилилась в последнее время борьба за влияние со стороны Франко-Польского блока и Германии. Немецкое предложение о заключении с Эстонией и Латвией таможенного союза «есть первый шаг политики Розенберга проникновения на Восток, и в «такой момент мы должны активизировать нашу политику в Прибалтике»[1241].
В марте-апреле 1933 г. НКИД и НКВТ не раз пытались сблизить свои позиции; компромисс был достигнут лишь в решении Политбюро. Само обсуждение вопроса на Политбюро последовало вслед за обращением с запиской к И.В. Сталину М.М. Литвинова, Поскольку записка датирована тем же числом, что и принятое опросом решение Политбюро, можно предположить, что изложенные в ней аргументы были признаны исчерпывающими. Литвинов выступил категорически против изменения «переговорной базы» на переговорах с Латвией о торговом договоре, выдвинув в качестве обоснования своей позиции два бесспорных – для членов Политбюро – положения: 1) «в Прибалтике ожили ранее заглохшие было толки и переговоры о возможных блоках, союзах и политической переориентации», усилилась активность Германии и Польши; 2) «Латвия не возражает против нашего экспорта и готова предложить нам всяческие возможности расширения его». Предложение Розенгольца (активный баланс в двусторонней торговле в пользу Латвии), без установления минимальной суммы советских заказов для Риги не приемлемо, ибо может сложиться ситуация, когда СССР будет экспортировать на какие-нибудь 40 000 руб., а импортировать всего на 50 000 руб. Глава Наркоминдела предлагал компромиссное решение: предложить Латвии установить в торговом договоре только принцип нетто-баланса с тем, чтобы уровень импорта и экспорта устанавливался особыми соглашениями на каждый год, что позволило бы из года в год «контролировать политическое поведение Латвии». Литвинов был против предложения Розенгольца об изменении состава делегации на переговорах. Вместе с тем, учитывая, что позиции НКВТ более прочны при обсуждении торгово-политических вопросов, чем у НКИД, Литвинов предлагал два варианта решения Политбюро: а) предложение переговоров на базе директивы Политбюро от 16.9.1932 и б) возобновление переговоров на базе нетто-баланса[1242]. Политбюро предпочло одобрить второй вариант. Журнал посетителей кабинета И.В. Сталина в Кремле 23 мая зафиксировал имя Ш.М. Дволайцкого; вызывался ли он в том числе и в связи с вопросом о переговорах с Латвией, неизвестно[1243].
Во исполнение решения Политбюро Б.С. Стомоняков уже 26 мая проинформировал латвийского посланника Альфредса Бильманиса о готовности СССР немедленного возобновить переговоры и об изменениях в позиции советской стороны, подчеркнув, что в намерения советской стороны не входит поддержание торговых отношений на искусственно низком уровне[1244]. Стомоняков проинформировал Генерального секретаря об этой беседе и о получении 7 июня официальном ответе латвийского правительства. При этом он, не поднимая вопроса о дополнительном обсуждении вопроса на Политбюро, все же обращал внимание Сталина на желательность возвращения к зафиксированному решению Политбюро от 16 сентября прошлого года положению, о согласии СССР на установление минимальных объемов транзита в торговом договоре (150–200 тыс. тонн в обоих направлениях)[1245]. НКВТ также предпринял некоторые шаги к исполнению решения Политбюро. Торгпред С.И. Фридштейн привез во второй половине июня в Ригу заказы на 326 тыс. руб. (предполагалось закупить для Торгсина сыр, масло, смалец, трикотаж, кильку и др.). Впрочем, временный поверенный в делах СССР в Латвии И.М. Морштын был уверен, что номенклатура товаров нарочно составлена таким образом, чтобы под предлогом высокой цены большую часть заказов не удалось разместить[1246].
13 июня 1933 г.
Опросом членов Политбюро
104/87. – О Латвии.
Передать на рассмотрение в комиссию тов. Молотова по внешнеторговым связям.
Протокол № 139 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.6.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 924. Л. 22.
Желание НКИД завершить начатые еще в сентябре 1932 г. переговоры о торговом договоре с Латвией, наталкивалось на жесткую позицию руководства НКВТ. Несмотря на принятие Политбюро 23 мая решения по этому вопросу, со стороны наркомата внешней торговли, вероятно, последовали дополнительные возражения, смысл которых мог сводиться к тому, что необходим пересмотр статей т. н. «торгово-политического контингента, за счет которого в условиях дефицита экспортных товаров только и возможно выделение (или перераспределение в рамках этого контингента) требуемых объемов товаров для экспорта в Латвию.
Комиссия Политбюро «по внешнеторговым связям (или «по внешней торговле») под председательством В.М. Молотова была образована, по всей видимости, в октябре 1932 г. Ее состав (за исключением двух членов комиссии – В.В. Куйбышева и Г.Ф. Гринько) установить не удалось. Результаты рассмотрения вопроса комиссией Молотова не известны. Можно предположить, что поводом для постановки вопроса на Политбюро послужила записка Стомонякова Сталину от 8 июня[1247].
1 июля 1933 г.
5. – О мемельском лесном договоре (т.т. Крестинский, Стомоняков, Розенгольц).
а) поставить на вид тов. Розенгольцу недопустимость денонсирования договора Экспортлеса с Мемельским лесным синдикатом без санкции ЦК и СНК.
б) обязать тов. Розенгольца добиться улучшения положения дела с продажей леса Мемельскому лесному синдикату.
Протокол № 140 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.7.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 925. Л. 2.
Рассмотрение вопроса на Политбюро состоялось по настоятельным просьбам НКИД отменить принятое руководством НКВТ решение о денонсации заключенного в 1931 г. соглашения между АО «Экспортлес» и Мемельским лесным синдикатом «АО Клайпедос Медзис Синдикатас Акцин Бедрове» о поставках советского леса. Недовольство условиями соглашения наличествовало у руководства НКВТ с момента подписания соглашения. Непосредственной причиной, вынудившей НКВТ в начале 1933 г. в категорической форме поставить вопрос о его денонсации, стали требования мемельских хозяев лесопилок изменить условия соглашения, поскольку заметное падение курса английского фунта негативно сказалось на финансовых итогах 1932 г., а также нежелание правления синдиката выплатить задолженность в размере 9000 фунтов. Ужесточение требований политического руководства СССР в вопросе выполнения плана валютных поступлений, при происходившем фактическом сокращении объемов лесного экспорта, могло только усилить желание НКВТ денонсировать соглашение. В феврале 1933 г. состоялась встреча А.П. Розенгольца со Стомоняковым, на которой был детально обсужден вопрос о возможной денонсации. Главный аргумент Стомонякова – мемельское соглашение является своего рода компенсацией Литве за пассивное сальдо в торговле с СССР – Розенгольц парировал заявлением, что в таком случае лучше пойти на сокращение советского экспорта в Литву[1248]. Сотруднику 1-го Западного отдела НКИД оставалось констатировать, что полпред Карский и секретарь полпредства Фехнер не вполне осознают силу сопротивления советских хозяйственных органов. В наркомате подумывали о разрешении проблемы путем передачи спора в «сессию», но Стомоняков решил, что обращение за поддержкой в “правительство рискованно”»[1249].
В этих условиях член Коллегии НКИД делал ставку на то, что хорошие личные отношения Карского с премьер-министром Тубялисом позволят найти выход из сложного положения. Полпреду удалось при личной встрече с Тубялисом добиться согласия литовского правительства оказать синдикату финансовую поддержку для немедленной выплаты «Экспортлесу» 9000 фунтов. Однако претензии «Экспортлеса» не ограничивались этим платежом и включали гарантии на получение в течение 1933 г. предоплаты (не менее 1 пенса за кубофут леса) и на выплате 4000 фунтов за остаток леса за 1932 г.[1250] Перелома удалось добиться, только внеся раскол в руководство синдиката, которое, в конце концов, решило удовлетворить эти требованиями, при условии, однако, что советское экспортное объединение немедленно начнет переговоры о пролонгации договора о поставках леса в Мемель на 1934 г. «Экспортлес» согласился провести подобные переговоры не ранее мая 1933 г.[1251]
В преддверии переговоров Карский намеревался прибыть в Москву, чтобы согласовать свою линию поведения с руководством НКИД. По неизвестным причинам Стомоняков телеграммой 23 апреля отложил вызов полпреда, который немедленно снесся с новым членом Коллегии НКИД Сокольниковым, курировавшим экономическую проблематику. На первый план Карский выдвинул новое обстоятельство – введение Лондоном эмбарго на ввоз советских товаров, что, по его мнению, обуславливало необходимость сохранения договора с Мемельским синдикатом и через его посредство проникновения на британский рынок[1252]. В противоположном направлении на позицию Москвы влияло улучшение конъюнктуры на европейском лесном рынке, укреплявшее решимость НКВТ и «Экспортлеса» отказаться от поставок леса в Мемель.
Полпредство в Каунасе еще в начале мая было предупреждено о неизбежности денонсации договора со стороны «Экспортлеса». Б.С. Стомоняков не отвергал возможности того, что новый раунд переговоров с Мемельским синдикатом может состояться, однако, считал, что их исход «при господствующих в НКВТ и нынешнем составе Правления «Экспортлеса» настроениях не будет положительным. Единственной тактикой, к которой в такой ситуации можно было, по его мнению, прибегнуть, являлось простое выжидание: «вопрос возникнет потом сам собой, когда в результате ликвидации этого договора случится осложнение в наших отношениях с Литвой»[1253]. Тем не менее, направление 16 июня в Мемель официального письма НКВТ с извещением о денонсации соглашения с мемельским синдикатом оказалось неожиданным для внешнеполитического ведомства.
Тремя днями позже в «сессию» был направлен запрос НКИД о разборе этого дела. По неизвестным причинам вопрос не был внесен в повестку дня ближайшего заседания, что потребовало повторного обращения – 26 июня. Крестинский, не предлагая проекта постановления Политбюро, попросил в своей записке Сталину «в ближайшие дни поставить вопросы, связанные с переговорами о торговом договоре с Латвией (транзит) и с нашими экономическими отношениями с Литвой (договор о поставке леса Мемельскому синдикату)»[1254]. В тот же день руководство НКИД поручило Карскому обратиться к литовскому правительству с предложением подписать протокол об определении агрессора. Вероятно, на заседании Политбюро и.о. наркома Крестинский и Стомоняков использовали эту акцию, выросшую из польско-румыно-советских консультаций в Женеве и Лондоне, для акцентирования международно-политического значения мемельского соглашения, его важности для сохранения советского влияния в Литве, чему угрожало как сближение СССР с Польшей, так и охлаждение отношений между Москвой и Берлином. В июне 1933 г. НКИД сообщил германскому посольству об отклонении предложения Германии предоставить кредит для финансирования импорта в Советский Союз свиней из Литвы. Немецкая инициатива была продиктована желанием осложнить отношения СССР с Польшей, а отрицательная реакция Москвы означала уклонение «от сотрудничества с Германией в сфере литовской политики»[1255].
По существу Политбюро согласилось с подходом НКИД и сочло, что значимость рассматриваемого вопроса выходит за рамки компетенции наркомата внешней торговли. Вместе с тем, в постановлении не упоминались условия нового соглашения, что оставляло вопрос об удовлетворении возможных требований мемельских предпринимателей открытым и предоставляло НКВТ пространство для маневра в будущих межведомственных баталиях. Что касается предъявленного А.П. Розенгольцу требования улучшить дело с продажей леса Мемелю, то, судя по публикациям литовской печати, в 1933 г., в отличие от предшествующего года, удалось избежать финансовых потерь, а поставки леса сократились незначительно (в 1932 г. – 220 тыс. фестметров, в 1933 г. – 210 тыс.)[1256].
2 июля 1933 г.
Опросом членов Политбюро
1/2. – Предложение Литвы.
Разрешить обмен 18 белых литовцев на коммунистов, сидящих в литовских тюрьмах.
Выписки посланы: т.т. Пятницкому, Стомонякову, Ягоде.
Протокол № 141 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.7.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 1.
Подобные обмены между СССР и Литвой проводились в 1921 и 1922 г.[1257], после чего обе стороны долгое время не проявляли желания возобновлять обсуждение этой проблемы. Так, в августе-сентябре 1929 г., когда в Литве были приговорены к смерти пятеро литовских коммунистов, Москва добивалась отмены смертного приговора, но не предлагала проведения обмена политзаключенными. В конце мая 1933 г. посланник Литвы в Москве Ю. Балтрушайтис обратился в НКИД с предложением «обменять 18 белых литовцев, в том числе ксендзов, которые осуждены и сидят в изоляторах и концлагерях в нашем Союзе, на 24 коммунистов, содержавшихся в литовских тюрьмах»[1258].
К концу июня 1933 г., когда перед отъездом в отпуск Ю. Балтрушайтис напомнил о предложении правительства Литвы, Коминтерн и советские ведомства пришли к выводу о целесообразности обмена. «ЦК КП Литвы обратился к нам с просьбой содействовать этому обмену, – докладывал заведующий Отделом международных связей ИККИ 1 июля 1933 г. – Тов. Ягода, ознакомившись со списком белых, не возражает против обмена. Не возражает против обмена и т. Стомоняков. Поэтому прошу ПБ дать разрешение на этот обмен и поручить т.т. Стомонякову и Ягоде провести его». Ввиду отъезда посланника из Москвы 2 июля, И.А. Пятницкий просил «решить этот вопрос не позднее завтрашнего дня», т. е. 2 июля[1259].
Этот запрос был удовлетворен, однако оформить соглашение об обмене политзаключенными удалось лишь после окончания периода отпусков. Подписание протокола об обмене политзаключенными состоялось в Москве 5 октября[1260]. Обмен был осуществлен 19 октября 1933 г.[1261].
3 июля 1933.
Опросом членов Политбюро
73/64. – О торговых переговорах с Латвией.
Подтвердить постановление Политбюро от 16.IX.-32 г. в отношении обязательств железнодорожного транзита через Латвию в размере 150–200 тыс. тонн при условии выгодных железнодорожных тарифов.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Крестинскому.
Протокол № 141 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.7.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 2.
Несмотря на отсутствие в заголовке постановления ссылки на решение Политбюро «О Латвии» от 13 июня 1933 г., есть основания полагать, что оно являлось результатом рассмотрения в комиссии Молотова по внешнеторговым связям запроса НКИД о дополнительных условиях к переговорам с Латвией о заключении торгового договора.
На предварительном обсуждении этого вопроса глава Наркомвнешторга отсутствовал, что способствовало успеху НКИД, с точки зрения которого сохранение в силе первоначальных директив к советско-латвийским переговорам являлось необходимым условием борьбы с германским и польским влиянием в Латвии. Преувеличенное значение, которое Москва придала откровениям германского министра А. Гутенберга на Лондонской экономической конференции в июне 1933 г., впервые со времени прихода Гитлера к власти приводило к выводу о превращении Германии в главного европейского противника СССР[1262], что подстегивало внешнеполитическое ведомство в его усилиях обеспечить, по меньшей мере, сохранение советского присутствия в Прибалтике.
Вместе с тем НКИД на протяжении нескольких недель не решался воспользоваться «правительственным» решением в своих контактах с МИД Латвии, ожидая его «опротестования» А.П. Розенгольцем. Уже 8 июля Стомоняков поспешил направить Сталину обстоятельную записку по вопросу о транзите, в которой доказывал несостоятельность позиции Розенгольца (в письме Политбюро от 19 июня тот ссылался на то, что в связи с прекращением действия (16.9.1933) договора с Мемельским синдикатом не следует соглашаться на фиксацию обещания 150–200 тыс. тонн транзита Латвии), поскольку 1 июля Политбюро приняло решение не денонсировать договор с синдикатом. Стомоняков считал необходимым учитывать тот факт, что за январь-май 1933 г. транзит через Латвию достиг 129 000 тонн, из которых 99 000 тонн составили поставки леса в Мемель. Таким образом, считал он, «нет абсолютно никакого риска принять на себя обязательства провоза транзитом через Латвию 150–200 тыс. тонн» и предлагал опросом принять еще одно решение, подтверждающее решение от 16 сентября 1932 г. об объемах транзита[1263]. Судя по всему, эта просьба еще раз подтвердить прежнее решение не была услышана. Возможный протест главы НКВТ продолжал тревожить руководство НКИД. Именно поэтому, 13 июля Н.Н. Крестинский на заседании «комиссии тов. Молотова» снова поставил вопрос о транзите и добился положительного решения. Отсутствовавший на заседании Розенгольц прислал срочную телеграмму из Архангельска, в которой требовал отложить решение до своего возвращения. Крестинский был вынужден направить письмо Розенгольцу: «Чтобы у Вас не получилось впечатления, что я воспользовался Вашим отсутствием для проведения этого вопроса, я откладываю сообщение латышам нашего решения по вопросу о транзите еще на 2 дня, т. е. до 17-го»[1264]. Принятое решение Розенгольцем опротестовано, скорее всего, не было.
При последующем обмене мнений латвийская сторона дала согласие на построение договора на принципе нетто-баланса. В. Мунтерс в середине июля предложил направить в Ригу советского представителя для предварительной проработки нерешенных частных вопросов. После проведения этой работы, по его мнению, в сентябре можно было бы начать переговоры в Москве. Первоначально дав согласие на предварительные переговоры, Москва через неделю изменила свое решение, заявив, что данная стадия переговоров не является необходимой. Поверенный в делах И.М. Морштын считал подобный шаг ошибкой, поскольку торговые переговоры – это «не есть покупка “кота в мешке”»[1265].
Возобновленные в Москве осенью 1933 г. переговоры проходили трудно. По-прежнему основным препятствием являлся вопрос о транзите. Латвийское правительство стремилось теперь не столько к получению гарантий минимальных объемов транзита, сколько к определению направления грузопотоков по своей территории, сохранению привязки советского транзита к своим портам. С этой целью в ноябре 1933 г. Рига неожиданно подняла железнодорожные тарифы на участке, соединявшем Литву и СССР. Член Коллегии НКИД поручил полпреду С.И. Бродовскому предупредить латышей, что «они добьются лишь одного – фактического прекращения транзита через Латвию вообще»[1266].
Торговый договор и дополнявшее его Хозяйственное соглашение были подписаны в Москве 4 декабря 1933 г. Спустя три дня Стомоняков инструктировал советских представителей в Латвии (полпреда и торгпреда) «попридержать имеющиеся заказы хотя бы до введения в действие нового договора: предстоящее дальнейшее значительное сокращение имплана заставляет опасаться, что объем торговли с Латвией будет весьма невелик»[1267].
Установление Политбюро минимального объема советских перевозок через территорию Латвию затрагивало и другую область советской политики в Прибалтике, вызывавшую противоречия между внешнеторговым и дипломатическим ведомствами. Неожиданная денонсация НКВТ договора с Мемельским лесным синдикатом 16 июня ставила под сомнение выполнение предполагаемых обязательств СССР по объемам транзита через Латвию, что не могло не затруднить урегулирование торговых отношений с нею. В результате подтверждения старого решения Политбюро, НКВТ оказывался перед необходимостью либо отказаться от денонсации мемельского соглашения, либо обеспечить объемы транзитных перевозок иными способами.
4 июля 1933 г.
18/9. – О поездке тов. Ганецкого в Польшу.
Разрешить тов. Ганецкому поездку в Польшу сроком на две недели по делам архива Ленина.
Протокол № 141 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.7.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 926. Л. 5.
Член Коллегии НКВТ Я. Фюрстенберг-Ганецкий с начала 1920-х гг. вел переговоры с польскими властями о передаче в СССР архива В.И. Ленина, конфискованного летом 1914 г., при его аресте австрийской полицией в Поронине. В 1924 г. Ганецкому удалось получить лишь «незначительную часть» этого архива, который, по сведениям официальных польских лиц, находился в распоряжении II Отдела Генерального (Главного) Штаба и составлял около 10 центнеров книг и рукописей различных лиц[1268]. В начале 1933 г. Ганецкий возобновил контакты с польской миссией в Москве по этому поводу, вероятно, рассчитывая, что ему удастся использовать свои добрые отношения с посланником и репутацию «одного из наиболее искренних сторонников» сближения СССР и Польши для возвращения поронинского архива. К апрелю польская миссия располагала согласием Варшавы на архивную экспедицию Я.С. Ганецкого[1269]. Со своей стороны, в июне 1933 г. Ганецкий обеспечил сбор «очень интересной» коллекции документов, «относящихся к личности Коменданта», которую намеревался передать Польше[1270]. Вероятно, Институт Маркса-Энгельса-Ленина (или же сам Ганецкий) обратились с просьбой в ЦК ВКП(б) разрешить ему поездку в Польшу задолго до июля 1933 г., но вынесение окончательного решения откладывалось.
В ходе предпринятой в конце июля – начале августа поездки в Варшаву и Краков Ганецкий был принят ближайшим сподвижником Пилсудского, бывшим премьер-министром Валерием Славеком. 22 июля Ганецкий передал Славеку (с которым был знаком по прежней революционной деятельности) 578 документов царских архивов о ранних этапах политической биографии Ю. Пилсудского и деятельности его сотрудников[1271]. Ганецкий встречался с другими официальными и частными лицами, имевшими отношение к судьбе поронинского архива. Тем не менее, результаты миссии оказались разочаровывающими. Ганецкому были переданы лишь разрозненные страницы рукописей Ленина, протоколов Пражской конференции 1912 г. и фотокопии некоторых других партийных документов. Ему было отказано в разрешении лично участвовать в разборе австрийских полицейских архивов. По возвращении в Москву Я. Ганецкий через Ю. Лукасевича вновь возбудил ходатайство о продолжении поисков документов Ленина в архивохранилищах Главного Штаба[1272].
15 июля 1933 г.
Опросом членов Политбюро
63/97. – О полете наших самолетов в Польшу.
а) Для ответного визита в Польшу считать возможным 18 июля послать 2 самолета Р-5 с экипажами: первый – помкомвойск УВО Ингаунис и инж. инспекции ВВС РККА Мезинов; второй – командир 252 авиабригады Туржанский и бригад. инж. Павлов по маршрутам: для первого – Москва – Гомель – Львов – Варшава – Лида – Витебск – Москва (с посадкой во Львове и Варшаве), для второго самолета – Москва – Витебск – Полоцк – Вильно – Варшава – Брест – Гомель – Москва (с посадкой в Варшаве)
б) ассигновать на перелет 372 доллара.
Выписки посланы: т.т. Ворошилову – все; Артузову, Крестинскому – а; Гринько – б.
Протокол № 141 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.7.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. On. 162. Д. 15. Л. 3.
В середине мая 1933 г., в рамках перелета в Вену, польские летчики капитан Е. Баян и капитан П. Дудзиньски совершили полет над советской территорией, сделав кратковременные остановки в Харькове и Ленинграде. Поскольку перелет польских летчиков преследовал спортивные цели, ответной акции с участием старших командиров ВВС РККА был также придан полуофициальный и «гражданский» характер. По существу полет делегации под руководством помощника командующего войсками Украинского военного округа Ф.А. Ингауниса (т. е. начальника авиационных сил крупнейшей группировки РККА мирного времени) имел самостоятельное и гораздо большее значение, нежели скромный визит польских летчиков в СССР.
Посещение советскими летчиками Кракова и Варшавы состоялось 18–22 июля 1933 г., полет они совершили на почтовом самолете Р-2. Полпред СССР и директор департамента гражданской авиации Польши Ю. Филипович устроили приемы по этому случаю. Делегация осмотрела заводы по производству авиационных двигателей и учебный центр летного состава в Демблине. В ходе бесед Ингауниса с Филиповичем обсуждался вопрос о желательности установления постоянной воздушной связи между двумя странами[1273]. Перед вылетом из Варшавы Ф. Ингаунис дал интервью официозной «Газете Польской», в котором, в частности, заявил, что члены делегации «полны восхищения польской авиацией», СССР и Польша могли бы «организовать совместные воздушные рейсы и обмениваться своим опытом в области авиации»[1274].
Находившийся в те дни в Варшаве заведующий Бюро международной информации ЦК ВКП(б) К. Радек оценил «встречу, которую устроили в Польше нашим летчикам как, «необычайную», что, по его мнению, отражало «поворот в польской внешней политике в пользу сближения с СССР»[1275].
31 июля 1933 г.
Опросом членов Политбюро.
106/92. – а) о мемельском лесном договоре б) о торговом договоре с Польшей (ПБ от 7.III.33 г., пр. № 132, п. 73/50).
Передать на рассмотрение в комиссию т. Молотова.
Протокол № 142 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.8.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 927. Л. 23.
Повторная постановка вопроса на Политбюро о соглашении с мемельским лесным синдикатом была продиктована достаточно откровенным нежеланием НКВТ и «Экспортлеса» выполнить решение Политбюро от 1 июля. «Экспортлес» предпринял своеобразные шаги к выполнению решения высшей инстанции. Директивы правления «Экспортлеса» торгпреду в Каунасе Кушнеру оказались «резко расходящимися» с решением советского правительства (скорее всего, имелось в виду решения, принятые после постановления Политбюро от 7 июля) и с основанной на этом решении информации НКИД. Приезд мемельской делегации в Москву для переговоров о пролонгации договора на 1934 г. увязывался не только с отказом синдиката от требований по ассортименту леса, но и с согласием на выплату минимальной гарантии в размере 6–7 пенсов за кубофут, вместо 1/2 пенса в 1933 и намечавшихся на 1934 г. 2 пенсов. Карский был прав, когда писал, что эти требования равносильны отказу от переговоров[1276]. Одним из факторов, оказывавших серьезное негативное влияние на финансовую сторону соглашения «Экспортлеса» с мемельским синдикатом лесопереработчиков, являлись железнодорожные тарифы на том участке транзита леса в Мемель, который проходил по латвийской территории. Латвийские власти прилагали максимальные усилия к тому, чтобы транзит был направлен на латвийские порты, а не по железным дорогам на Мемель. Отказ Риги пойти на уступки в вопросе о тарифах делал затруднительным разрешение проблем валютных поступлений от поставок леса в Мемель для НКВТ. Усилия советских дипломатов в Латвии успехов не приносили. Тем самым, процесс согласования позиций с мемельским синдикатом оказался для НКВТ крайне трудным. По всей видимости, А.П. Розенгольц продолжал считать наилучшим разрешением проблем денонсацию соглашения. Позднее, когда осенью 1933 г. все же наметился прогресс в переговорах с мемельским синдикатом, рассматривалось предложение одного из «отцов-создателей» синдиката – Волсонка – о «личной компенсации соответствующих лиц латвийского железнодорожного управления за снижение тарифа на 11 %»[1277].
30 июля 1933 г. полпред Карский сообщал в НКИД, что торгпред Кушнер до сих пор не получил «по своей линии директив для предварительных разговоров с правлением мемельского синдиката» и что, якобы по словам торгпреда, вопрос еще раз будет обсуждаться сессией. Судя по вопросительному знаку на полях данного доклада Карского, в 1 Западном отделе не были осведомлены об обращении НКВТ в Политбюро[1278]. По всей видимости, в комиссии Молотова требования «Экспортлеса» были урезаны, поскольку на состоявшихся в Москве в начале сентября переговорах с делегацией синдиката речь уже шла не о 6–7 пенсах минимальной гарантии за кубофут, а о 2 пенсах. Однако НКВТ сдавал позиции крайне неохотно. Уступая в вопросе о размере минимальной гарантии, наркомат сокращал объемы годовых поставок (с 200 до 150 тыс. фестметров), а также настаивал на изменениях в спецификации, которые вели к «уменьшению выхода готовой продукции[1279]. Лишь когда осенью 1933 г. наметилось повышение цен на пиломатериалы на европейском рынке, переговоры «Экспортлеса» с мемельским синдикатом стали продвигаться более успешно. Но только в начале декабря торгпреду Кушнеру удалось подписать текст нового соглашения.
В декабре 1932 г., вслед за ратификацией советско-польского пакта о ненападении, полпред Антонов-Овсеенко «выдвинул предложение предусмотреть выдачу в Польшу заказов в двойном размере по сравнению с 1930 г., т. е. 60 мил. руб. в год, и на этой основе повести с Польшей переговоры о заключении торгового договора». Полпред настаивал на безотлагательном «внесении вопроса в Сессию». Анализ данных НКВТ «о наших экспортных и импортных предположениях» убеждал, что заключение торгдоговора на предложенной Антоновым-Овсеенко базе было бы «крайне трудным и невыгодным», поскольку «жертвы, на которые мы должны были бы пойти для заключения такого договора, в настоящее время были бы непосильны для нас» и «не оправдывались бы значением, которое польский рынок имеет для наших экспортных товаров в настоящее время». Член Коллегии НКИД не мог, однако, не оценить «крупное политическое значение», которое имело бы заключение такого договора и выражал уверенность, что под воздействием спада польского экспорта «теперь и Пилсудский изменил свое отношение к этому делу». Поэтому Стомоняков призвал коллег в НКИД и НКВТ «все же попытаться поискать возможности» заключить торговый договор с Польшей. Поскольку контингент заказов для Польши из «нормальных импортных планов и планов Торгсина» в любом случае оказался бы «неизбежно скромным», он предлагал компенсировать эту слабость предоставлением ей почтового и железнодорожного транзита в страны Востока, чему Варшава «придавала всегда чрезвычайно большое (и преувеличенное) экономическое и политическое значение». Кроме того, Стомоняков предлагал обсудить предоставление Польше особых контингентов за счет освобождения для экспорта в третьи страны соответственных количеств наших товаров, предназначенных для внутреннего рынка[1280]. Результаты обсуждения предложений Стомонякова в Коллегии НКИД и на различных уровнях НКВТ, вероятно, оказались мало обнадеживающими, и на полгода проблема заключения торгового договора с Польшей ушла в тень.
Наконец, 26 июня Стомоняков от имени руководства НКИД официально поставил этот вопрос перед Политбюро[1281]. Политические мотивы этого и других предложений Наркоминдела по улучшению отношений с Польшей, заместитель наркома Н.Н. Крестинский объяснял необходимостью «форсировать сближение с Польшей», что в свою очередь диктуется задачей «заставить ее занять определенную позицию и оборвать направленные против нас переговоры [Польши] с Германией» Один из главных сторонников советско-немецкого сближения, Крестинский летом 1933 гг. констатировал: «Мы должны сейчас приложить все старания к углублению и расширению наших отношений с Польшей во всех решительно областях, т. е. в области политической, экономической, культурной и военной»[1282]. С другой стороны, от тех или иных директив Политбюро относительного торгового договора с Польшей, отмечал заведующий 1 Западным отделом НКИД, зависело разрешение всех вопросов экономических взаимоотношений с Польшей[1283].
Постановление о передаче вопроса о торговом договоре с Польшей в комиссию Молотова по внешнеторговым делам[1284] свидетельствовало об отсутствии у руководства Политбюро возражений против его политической целесообразности и о, по меньшей мере, серьезных сомнениях относительно экономической оправданности такого договора.
На протяжении августа-сентября 1933 г. комиссия Молотова не приступала к рассмотрению предложения НКИД, несмотря на посланное в середине сентября напоминание НКИД о соответствующем решении Политбюро. В конце лета – начале осени 1933 г. министром торговли Зажицким и коммерческим атташе польской миссии в Москве Жмигродским были высказаны пожелания о проведении полномасштабных торговых переговоров с СССР. «Несомненно, – делал вывод Стомоняков, – вопрос о заключении торгового договора назрел с обеих сторон»[1285]. Несмотря на надежды руководителей НКИД в октябре-декабре 1933 г. получить в скором времени положительное решение о торговых переговорах с Варшавой и на попытки подтолкнуть к этому Политбюро (Литвинов направлял соответствующие запросы 14 сентября, 5 и 10 октября, Крестинский – 25 ноября, «несколько раз писал дополнительно в Политбюро» Стомоняков), предложения о заключении такого договора оставался без движения (как, впрочем, и некоторые другие инициативы НКИД по расширению сотрудничества с Польшей)[1286].
В марте и мае 1934 г. М.М. Литвинов предпринимал попытки убедить руководство ЦК ВКП(б) пересмотреть свою позицию. «Наше отрицательное отношение к заключению торгового договора, несмотря на многократные к нам обращения, ослабляют нашу позицию в польской общественности. Заключение торгового договора укрепит наши позиции в Польше и кроме того позволит использовать для целей нашего экспорта и без того выдаваемые, но без достаточной компенсации, крупные заказы польской общественности [sic], – резюмировал он аргументы, звучавшие на протяжении предшествующих 11 месяцев. – Как я уже сообщал в моем письме от 16 марта с/г. за № 9608, соображения НКВТ против торгового договора совершенно неубедительны. НКВТ всегда утверждал, что для заключения торгового договора у нас нет ни заказов, ни экспорта на Польшу. Между тем… ежегодно, также и в этом [1934. – Авт.] году, всегда внезапно и без политического и достаточного хозяйственного использования, нами выдаются крупные заказы в Польшу. Нарком ссылался также на значительные поставки советского хлопка текстильным предприятиям Польши и другие внешнеторговые операции, проводимые без всякого плана. «Я прошу, – обращался Литвинов к руководителям ЦК, – принять по этим вопросам предложения, изложенные в моем письме от 16 марта»[1287] (их точное содержание прояснить не удалось).
Это обращение, по всей вероятности, оказалось последним; проблема торгового договора с Польшей на несколько лет сошла с повестки дня. Советско-польский торговый договор был подписан лишь в ноябре 1938 г. – в иной международной ситуации и под влиянием иных мотивов, нежели выдвигавшиеся НКИД в 1933–1934 гг.
26 сентября 1933 г.
Опросом членов Политбюро
130/94. – О прилете латвийской эскадрильи в Москву.
а) разрешить прилет латвийской эскадрильи в Москву.
б) считать возможным на прилет латвийской эскадрильи ответить соответствующим нашим полетом в Латвию.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Тухачевскому, Уншлихту, Артузову.
Протокол № 146 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.10.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. On. 162. Д. 15. Л. 84.
Со стремительным ухудшением отношений СССР с Германией неполнота (если не ущербность) политических связей между Москвой и Ригой становилась нетерпимой, тем более, что латвийские общественные круги проявили наличие у них иммунитета против затронувшего соседние страны национал-социалистического поветрия. Одним из факторов, сказавшихся на прочности позиций советской дипломатии в регионе, являлось состояние контактов с военными кругами Латвии, Литвы и Эстонии. С конца 1928 г. СССР не имел военного атташе в Риге, а Латвия – в Москве. В 1933 г. взаимное выжидание проявления инициативы со стороны партнера продолжалось. К тому же, после кончины в начале мая полпреда А.И. Свидерского, Москва к сентябрю 1933 г. еще не остановила свой выбор на какой-либо кандидатуре преемника и довольствовалась поверенным в делах.
Развитие событий в Германии тревожило Ригу. В сентябре 1933 г. эти тревоги оказались достаточно сильными, чтобы латвийское правительство отказалось от занимаемой ранее принципиальной установки в вопросе об обмене военными атташе и развитии связей в военной области с СССР, а именно, что Москва должна сделать первый шаг навстречу. Латвийский посланник Бильманис в середине сентября в беседе с бывшим полпредом в Риге И.Л. Лоренцом сделал предложение о возможности прилета в Москву латвийской эскадрильи. Глава Наркоминдела немедленно обратился с запиской к секретарю ЦК ВКП(б) Л.М. Кагановичу в срочном порядке рассмотреть вопрос на Политбюро. Литвинов предлагал, учитывая заинтересованность СССР «в приближении к нам Латвии и в частности в установлении связи с латвийской армией», неофициально ответить посланнику, что необходимо официальное предложение, на которое будет дан положительный ответ. Нарком считал, что вполне возможен и ответный визит советской эскадрильи; единственное «возражение против этого предложения, – писал он, – я вижу в том, что прилет латвийской эскадрильи мог бы дать повод и другим государствам обратиться к нам с аналогичными предложениями», но они могут быть отклонены ссылкой на позднее время года[1288].
В переписке НКИД с полпредством в Риге возможность активизации военно-политических отношений с Латвией путем обмена визитами эскадрилий не обсуждалась. В начале ноября 1933 г. НКИД, получив от латвийской стороны официальное предложение об обмене военными атташе, настойчиво обращался к Ворошилову с просьбой ускорить решение данного вопроса, мотивируя это тем, что «в связи с начавшимся процессом фашизации Латвии» «политическое влияние латвийской армии в ближайшее время вырастет еще больше», в силу чего необходимо укреплять с ней связи[1289].
По погодным и техническим условиям[1290] подготовка визита не могла быть осуществлена ранее весны следующего года. Вероятно, он так и не состоялся, как и дебатировавшиеся в Москве планы продажи Латвии некоторых видов оружия и военного снаряжения.
29 сентября 1933 г.
Решение Политбюро.
32/140. – О польской выставке живописи.
Подтвердить прежнее решение. Не возражать против организации выставки в Ленинграде при желании поляков.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 146 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.10.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 77.
Успех советского раздела на Венецианской художественной выставке (1932 г.) подтолкнул ВОКС к организации выставок советского изобразительного искусства в нескольких европейских столицах[1291]. 14 февраля 1933 г. первый секретарь полпредства СССР и уполномоченный ВОКС в Варшаве Б.Н. Николаев достиг соглашения с представителями Института пропаганды искусства Вл. Скочилясом и Ст. Возницким об организации «обменных выставок» советского искусства в Варшаве и польского искусства в Москве. Выставка советского изобразительного искусства была открыта в Институте 4 марта, на организацию польской выставки отводился один год[1292]. Спустя месяц Б.С. Стомоняков от имени НКИД направил на имя Секретаря ЦК ВКП(б) Кагановича официальное письмо, в котором поддерживалась просьба ВОКС разрешить проведение в Москве выставки польского искусства[1293]. По этому запросу было принято положительное решение (вероятно, санкция была дана без рассмотрения Секретариатом, Оргбюро или Политбюро, что объясняет отсутствие точной ссылки на это решение в протоколе ПБ).
Вскоре планы культурного обмена были расширены. 25 марта выставка в Варшаве была преобразована в экспозицию произведений художников и графиков Советской Украины (составлявших часть советской коллекции, привезенной из Венеции). Это позволяло польской стороне рассчитывать на устройство аналогичной польской выставки в столице УССР. По договоренности проф. Яроцкого с руководителями ВОКС обменная выставка польской живописи, скульптуры и графики должна была быть организована как в Москве (в октябре 1933 г.), так и в Харькове и Киеве (с 15 мая по 15 июня); затем проведение выставки на Украине было перенесено на осень 1933 г.[1294] Однако летом 1933 г. в советском руководстве обострились опасения относительно подрывной деятельности Польши на Советской Украине в связи с развернутой по указанию Москвы кампанией против «правонационалистического уклона» и его идейного вдохновителя – члена Политбюро КП(б)У, наркома просвещения УССР М. Скрыпника. Самоубийство Скрыпника 7 июля 1933 г. внесло новый трагический элемент в изменение положения на Украине. В июне-июле 1933 г. Кремль сигнализировал польским руководителям, что критерием оценки искренности польской политики в отношении СССР и Германии будет служить для него отношение Варшавы к мерам по консолидации Советской Украины[1295].
Пока же советские вожди (вероятно, с учетом пожеланий ЦК КП(б)У) решили приостановить планы культурного сотрудничества между УССР и Польшей. В конце июля руководство харьковского отделения ВОКС сообщило секретарю польской миссии С. Забелло о невозможности устроить выставку польского искусства из-за нехватки помещений[1296]. Вслед за этим в первой половине августа 1933 г. «инстанцией» были даны «директивы», из которых вытекал «отказ в организации польской выставки в Харькове» «в связи с событиями на Украине»[1297]. (Возможно, эти указания появились в итоге беседы Сталина с заведующим Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и руководящим сотрудником IV Управления Штаба РККА – бывшим военным атташе в Польше 4 августа 1933 г.)[1298] По согласованию с НКИД Бюро Правления ВОКС отменило свое прежнее решение об устройстве в Харькове экспозиции польского искусства[1299].
В первой половине сентября представитель СНК УССР М.П. Любченко и уполномоченный НКИД в Харькове С.И. Бродовский сообщили генеральному консулу Каршо-Седлевскому об окончательном отказе в устройстве польской выставки в Харькове и Киеве, как и прежде мотивируя его «нехваткой помещений». Польские дипломаты полагали, что за этим отказом «почти наверняка кроются опасения перед пропагандистским эффектом выставки и связанных с нею торжеств», на которых симпатия к Польше украинской интеллигенции могла бы проявиться «слишком ярко». Анализ поведения харьковских властей привел Каршо-Седлевского к убеждению, что в подавлении национального украинского духа они натолкнулись на большие трудности и потому, с одной стороны, стремятся предельно сократить общение представителей Польши с местной интеллигенцией и даже чиновниками, а с другой – намерены исключить любые мероприятия, ставящие под сомнение тезис о враждебном отношении Польши к Советской Украине. Поэтому планы посланника Ю. Лукасевича совершить поездку в Харьков и Киев в связи с предполагаемой выставкой не ослабляли, а, скорее, усиливали сопротивление проведению там выставки польского искусства[1300].
23 и 25 сентября состоялись «очень острые» беседы представителей польской миссии с членом Коллегии НКИД Стомоняковым, и руководителями 1 Западного отдела Березовым и Гайкисом, которым было указано на различное отношение правительств СССР и УССР к сотрудничеству с Польшей. Ю. Лукасевич потребовал, чтобы Союзное правительство разъяснило Харькову, «какой характер носит вся акция, связанная с выставкой, как сильно ее поддерживают самые высокие руководители Советского Союза». Стомоняков отложил ответ до вечера 27 сентября[1301], вероятно, надеясь, что к тому времени Политбюро либо разрешит устройство выставки польского искусства в УССР, либо примет иное решение. Вероятно, в связи с тем, что польскими дипломатами использовались аргументы о понесенных польской стороной расходах по организации двух («советской» и «украинской») выставок в Варшаве, возникла мысль о частичном удовлетворении претензий поляков путем устройства выставки в Ленинграде (для Ленинграда, как и Москвы, были установлены менее жесткие ограничения на контакты советской общественности с польскими дипломатами, нежели действовавшие в Тифлисе, Минске, Харькове и Киеве[1302]). 11 ноября Б.С. Стомоняков сообщил Ю. Лукасевичу, что «ему ничего не удалось сделать» по устройству выставки в Харькове, но выставку «можно было бы легко устроить в Ленинграде». Посланник выразил сомнение, что это предложение будет приемлемо для Варшавы; от этого варианта польская сторона отказалась[1303].
Выставка современного польского искусства в Москве, предусмотренная «прежним решением» марта 1933 г., состоялась. Польская сторона согласилась перенести ее открытие с 1 октября на 1 ноября, о чем нарком просвещения РСФСР Бубнов просил в связи с продлением экспозиции советского искусства в Историческом музее[1304]. В результате выставка современного польского искусства открылась в Третьяковской галерее 12 ноября 1933 г.; в конце ноября Москву также посетила группа польских скульпторов и историков искусства. 14 декабря 1933 г., в связи с закрытием выставки, Политбюро опросом постановило «выделить НКПросу РСФСР 2 тыс. рублей инвалюты на приобретение ряда картин и скульптур польских художников для наших музеев» (выписки были направлены Бубнову, Рудзутаку и Литвинову)[1305].
29 сентября 1933 г.
Решение Политбюро
36/144. – Вопрос т. Пятницкого.
Поручить тов. Ионову (НКВТ) при проезде остановиться в Риге по вопросу об издании там газеты. Тов. Пятницкому проинструктировать тов. Ионова.
Выписка послана: т. Пятницкому.
Протокол № 146 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.10.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 77.
На протяжении ряда лет (первые упоминания относятся к 1928 г.) НКИД предпринимал шаги к созданию собственного печатного издания в Риге. Другой рассматривавшийся вариант состоял в частичном или полном субсидировании одной из уже выходивших в Латвии газет, обеспечив тем самым возможность «лансирования желательной информации»[1306]. Судя по всему, в то время эти усилия остались безрезультатными; основным препятствием оказалась проблема финансирования. Возвращение к вопросу о просоветском печатном органе было продиктовано, скорее всего, значительным обострением внутренней и международной ситуации в Северо-Восточной Европе, что требовало расширения средств воздействия СССР на прибалтийских соседей, информационным центром которых считалась Рига.
Указание на инструктаж со стороны заведующего Отделом международных связей Коминтерна Осипа Пятницкого косвенно свидетельствует не только о конспиративном характере предстоящих в Риге встреч, но и о том, что предварительная разработка потенциальных партнеров (издателей) велась с использованием контактов этой организации. Вероятно, миссия сотрудника НКВТ в Риге была направлена на достижение деловой договоренности об условиях и размерах финансирования «нового предприятия[1307].
29 сентября 1933 г.
Опросом членов Политбюро
177/160. – О воздушных линиях Варшава – Москва и Париж – Москва.
Принять предложение НКИД об установлении воздушной линии Варшава – Москва и Париж – Москва.
Протокол № 146 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.10.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 931. Л. 32.
Вопрос об установлении авиационного сообщения между СССР и Польшей обсуждался в Москве с 1926 г. В мае 1929 г. польская миссия обратилась в НКИД с новым запросом относительно возможности заключения воздухоплавательной конвенции между СССР и Польшей[1308]. Это предложение было поддержано Коллегией НКИД, PBC, Осоавиахимом и ОГПУ, однако, сочли ведение переговоров об авиационной конвенции преждевременным и высказали опасения, что «Польша несомненно будет добиваться установления регулярных рейсов для ее судов на Киев, что для нас не может быть приемлемо»[1309]. Действительно, директива Генерального штаба Польши, связанная с «установлением коммуникации с Россией» требовала «признать область юга России и далее на восток, как пространство будущей экспансии политического и экономического влияния [Польши. – Авт.]»[1310]. В результате, не заявляя об отказе от переговоров с Польшей в будущем, советская сторона отдала предпочтение переговорам об установлении воздушного сообщения с Германией, которые завершились заключением соответствующей конвенции. В начале 1930-х гг. Германия оставалась единственным европейским государством, с которым Советский Союз имел соглашение о регулярном авиасообщении.
В июле 1933 г. в советско-польских доверительных беседах наметилось возвращение к проекту воздушной конвенции. Варшава предлагала рассматривать установление воздушного сообщения между двумя странами в качестве одной из мер постепенного расширения политического и военного сотрудничества и укрепления взаимного доверия. Активизации «старого вопроса» о регулярной авиалинии способствовал визит советских летчиков в Польшу в конце июля 1933 г. и оказанный им «прекрасный прием». По сообщению посетившего Варшаву начальника военно-воздушных сил УВО Ингауниса, Польша проявила готовность заранее отказаться от киевского маршрута. Сам Ф.А. Ингаунис выступил в пользу реализации проекта линии Варшава-Москва. Несколько ранее (20 июня) с таким предложением обратился в НКИД и Политбюро полпред Антонов-Овсеенко. Заведующий 1 Западным отделом Н.Я. Райвид в меморандуме, направленном Коллегии НКИД, поддержал идею переговоров с Польшей о регулярном авиационном сообщении[1311]. 10 августа Коллегия признала желательным установить регулярную воздушную линию Москва – Варшава[1312]. Неизвестно, внесли ли руководители НКИД соответствующее ходатайство в ЦК ВКП(б) уже в августе 1933 г. или же предпочли дожидаться официального запроса со стороны Польши.
5 сентября Ю. Лукасевич предложил Литвинову перевести вопрос об установлении воздушной линии между Варшавой и Москвой в стадию конкретных переговоров[1313]. Это официальное предложение было подтверждено польским посланником в беседах с Б.С. Стомоняковым, а также министром иностранных дел в разговоре с В.А. Антоновым-Овсеенко. В польской прессе появились зондажные публикации о желательности регулярного воздушного сообщения с Советским Союзом. В середине сентября Литвинов обратился к Кагановичу с просьбой «о скорейшей постановке [этого] вопроса», который «поляки ставят в центр всех наших переговоров», «на разрешение Политбюро».
В записке Литвинова отмечалось, что «при разрешении данного вопроса необходимо иметь в виду аналогичное предложение, сделанное нам спутниками П. Кота» (министра авиации Франции, посетившего Москву в начале сентября 1933 г.), и, в частности, беседы директора французской гражданской авиации Шомье с заместителем начальника ГУВФ Анвельтом и самим Литвиновым о продолжении воздушной линии Париж – Прага – Варшава до Москвы (через Минск). Согласно франко-польскому соглашению Франция получила бы право на продолжение существующей линии на восток только, если разрешение на это получала и Польша. «Таким образом, – заключал Литвинов, – при отклонении польского предложения отпало бы и французское. С другой стороны, в случае положительного ответа на их предложение мы получили бы либо две линии Варшава – Москва, либо же французы столковались бы с поляками об установлении единой линии». Литвинов полагал, что, ввиду проявленной обеими странами «большой заинтересованности», «они пойдут широко навстречу нашим условиям, в частности, касательно покрытия неизбежных убытков».
Народный комиссариат по иностранным делам высказывался в пользу принятия польского и французского предложений, поскольку установление воздушной линии с Варшавой «несомненно, содействовало бы укреплению наших взаимоотношений, как с Польшей, так и с Францией, а отчасти, может быть, и с Чехословакией». Литвинов отводил «обыкновенные» возражения ОГПУ и НКВМ по поводу появления в таком случае дополнительных возможностей для иностранных разведок указанием на то, что соответствующие ведомства проявляют немалый интерес к «подобным возможностям для нас». Наркомат по военным и морским делам «как будто бы стал склоняться к положительному разрешению вопроса, но выставил условием предоставление нам Польшей концессии на линию Ленинград – Вильно. «Такое контрпредложение, – заявлял Литвинов, – вряд ли было бы приемлемо для Польши, а, кроме того, совершенно непрактично, ибо пассажирское движение между Ленинградом и Вильно совершенно отсутствует»[1314]. Записка Литвинова не содержала ни проекта постановления Политбюро, ни изложения условий воздушной конвенции или схемы организации и управления авиалинией.
Одновременно с запиской Литвинова в Кремль поступил сигнал из польской дипломатической миссии о желании Варшавы урегулировать вопросы о воздушном сообщении с Москвой прежде, чем Польша достигнет сходного соглашения с Берлином. Информация была передана «через кого следует» (т. е., вероятно, через К. Радека) и, по мысли польских дипломатов, должна была послужить главным аргументом в пользу скорейшего открытия переговоров о воздушном сообщении[1315].
Ни в обращении НКИД, ни в решении Политбюро об условиях соглашения с Польшей о регулярном воздушном сообщении не упоминалось, что, наряду с содержанием советско-польских дискуссий, предопределило необходимость рассмотрения этой проблемы в Политбюро[1316].
3 октября член Коллегии НКИД сделал Лукасевичу сообщение о том, «что нам удалось, наконец, получить принципиальное согласие заинтересованных ведомств на принятие польского предложения об организации воздушной линии Варшава-Москва»[1317].
29 сентября 1933 г.
Опросом членов Политбюро
178/161. – О полете польской эскадрильи в Москву.
Не возражать против прилета польской эскадрильи в Москву.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Тухачевскому, Артузову, Уншлихту.
Протокол № 146 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.10.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 87.
Вопрос о визите представителей польской авиации – первой официальной военной делегации Польши в СССР был передан на голосование членов Политбюро вместе с вопросом об установлении воздушного сообщения между Варшавой и Москвой (см. выше).
3 октября руководство НКИД сообщило посланнику Польши в Москве о готовности соответствующих органов принять польскую эскадрилью во главе с директором департамента авиации военного министерства Л. Райским[1318]. В середине октября польское правительство решило направить в СССР не эскадрилью, а один самолет[1319].
В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями и плохим состоянием грунтовых посадочных полос в Москве, часть польских летчиков осталась в Минске, а руководители делегации прибыли в столицу СССР поездом. Их пребывание (6-13 ноября) совпало с национальным праздником Польши, открытием выставки современного польского искусства в Третьяковской галерее и концертами Турска-Бандровской и Шимановского и было ознаменовано серией приемов в PBC, НКИД и польской миссии, что давало основание говорить об этой неделе как о «польских днях в Москве»[1320]. Руководители делегации присутствовали на военном параде 7 ноября на Красной площади. В параде не приняла участие советская военная авиация, что в Польше было расценено как проявление любезности по отношению к польским летчикам, не сумевшим прибыть в Москву по воздуху[1321].
В ходе официальных встреч Л. Райский и Ю. Лукасевич обсуждали с Крестинским, Стомоняковым, Тухачевским, Уншлихтом и Егоровым возможность установления постоянной воздушной линии между Варшавой и Москвой[1322].
1 октября 1933 г.
4. – О соглашении с польским правительством о продаже лесных материалов (т. Элиава).
Согласиться с предложением НКВТ о вступлении в переговоры, согласно предложению польского правительства, с целью заключения соглашения о координировании продаж слиперов СССР и Польши.
Выписки посланы: т.т. Элиаве, Литвинову.
Протокол № 146 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.10.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 73.
Постановление Политбюро являлось частью мер по обеспечению координации советского лесного экспорта с балтийскими экспортерами. Ограниченность советско-польского сотрудничества в этой сфере объяснялась как политическими соображениями, так и различной номенклатурой вывоза двух стран, приводившей к отсутствию между ними острой конкуренции на рынке пиломатериалов[1323].
В начале ноября 1933 г. в Варшаве состоялись переговоры представителей акционерного общества «Экспортлес» с руководителями Главной дирекции государственных лесов, получившими необходимые полномочия от частных владельцев и экспортеров леса. На переговорах обсуждались «вопросы координации продажи некоторых ассортиментов древесины на тех рынках, где до сих пор польские и советские экспортеры конкурировали между собой»[1324]. Согласно протоколу Политбюро, НКВТ пришел к выводу о желательности ограничить такую координацию лишь одним видом лесоэкспортной номенклатуры (слипер – двойная шпала из сосны или лиственницы).
Соглашение было подписано представителями обеих организаций 6 ноября 1933 г. в Москве.
14 октября 1933 г.
Опросом членов Политбюро
149/126. – О Латвии.
Одобрить предложение НКИД о поддержке нового предприятия Л. с отпуском необходимых средств в размере 2.000 зол. рублей в месяц.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 147 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.10.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 103.
Во время посещения Латвии в сентябре 1933 г. в ходе инспекционной поездки в страны Западной и Центральной Европы сотрудник НКВТ Ионов урегулировал технические стороны организации «нового предприятия» – издания газеты[1325]. Выяснить название этого органа (вероятно, на латышском языке) и его издателей не удалось. Газета выходила вплоть до конца 1936 г. либо начала 1937 г. и закрылась в результате «многомесячного прекращения субсидий». Когда в конце весны 1937 г. полпредом все же были получены ассигнования на продолжение издания, оказалось, что это уже невозможно[1326].
15 октября 1933 г.
Опросом членов Политбюро
150/127. – О польских журналистах.
Предложить редакциям газет «Известия», «За индустриализацию», «Экономическая Жизнь» и «Соц. земледелие» послать приглашение польским журналистам, выступающим в пользу сближения Польши с СССР, совершить экскурсию по СССР. Все мероприятия по организации этой экскурсии согласовать с НКИД.
Выписки посланы: т. Литвинову; Редакторам газет «Известия» – т. Гронскому, «За индустриализацию» – т. Таль, «Экономическая Жизнь» – т. Маймину, «Соц. земледелие» – Грандову.
Протокол № 147 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.10.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 104.
Замысел поездки в СССР видных польских журналистов появился в связи с приездом в Москву на празднование 1 мая редактора «Газеты Польской» Б. Медзинского и поездкой заведующего Бюро международной информации ЦК ВКП(б) К. Радека в Варшаву, Гдыню и Краков 6-22 июля 1933 г. 7 июля в «Товарищеском клубе» журналистов Беспартийного блока был устроен завтрак в честь приезда Радека, в котором участвовали руководители «Газеты Польской» (Медзинский, Берсон), Польского телеграфного агентства, национал-демократического «Курьера Варшавского» (Стпичинский), а также вице-министр иностранных дел Я. Шембек и начальник Восточного отдела МИД Т. Шетцель; тремя днями позже в полпредстве для польских журналистов был устроен ответный прием[1327].
В ходе варшавских бесед заведующего БМИ с Медзинским и Беком было решено, что доверительное обсуждение ключевых проблем советско-польских отношений будет продолжено в ходе визита в Москву авторитетных польских журналистов. Первоначально планировалась поездка в СССР в сентябре 1933 г. директора агентства «Искра» полковника М. Счежинского (сопровождавшего Радека в поездке в Гдыню), но он отложил эту поездку «в связи с тем, что он должен лично повидаться перед отъездом с Пилсудским. В настоящее время этого сделать невозможно, т. к. еще не созрела достаточно надобность такого свидания». («Счежинский явно намекал на то, что не готова еще проработка некоторых вопросов, связанных с СССР»)[1328]. Месяцем позже к этой теме в беседе с Б.Д. Подольским вернулись редактор «Газеты Польской» Медзинский и директор Польского телеграфного агентства Либицкий. Медзинский сообщил о своем намерении в ноябре побывать в Москве, а «если бы он не сумел, то вместо него поедет Матушевский» – другой видный политический деятель и журналист, которому в 1932 г. Пилсудский поручил поддерживать неофициальные контакты с советскими представителями. Как и Счежинский, Медзинский дал понять, что польские руководители рассматривают поездку журналистов как важное средство укрепления прямых доверительных отношений с Кремлем[1329].
Получив сообщение замещавшего полпреда Б.Д. Подольского о его беседах с руководителями официозных средств массовой информации, Коллегия НКИД 2 октября повторно рассмотрела вопрос о приглашении польских журналистов на празднование годовщины Октябрьской революции (впервые он обсуждался в августе 1933 г.). Было решено направить персональные приглашения ведущим польским журналистам как из правительственного лагеря («вроде Медзинского, Матушевского»), так и национальным демократам («вроде сенатора Козицкого и Стронского»), Приглашение эндеков рассматривалось как жест признательности за помощь, оказанную ими ранее советской дипломатии[1330] (СССР, тем более, был заинтересован при наметившейся нормализации польско-немецких отношений в поощрении антигерманской позиции национальных демократов – наиболее влиятельной из оппозиционных партий Польши)[1331]. Решение Политбюро о посылке приглашений от имени различных, в том числе политически неавторитетных советских изданий и об обращении как к проправительственным, так и к оппозиционным журналистам, которые выступали за польско-советское сближение, фактически санкционировало предложения Коллегии НКИД. К тому же, представители «Экономической жизни» (редактор Таль и заведующий иностранным отделом Розовский) ранее не привлекались к контактам с поляками, а в газетах «За индустриализацию» и «Социалистическое земледелие» даже не существовало отделов иностранной информации. Тем самым, вольно или невольно, поездке, задуманной как визит эмиссаров Пилсудского, придавался характер экскурсии в СССР польских журналистов различных направлений. Не исключено, что одной из причин смещения акцентов в организации поездки журналистов являлось ревнивое отношение руководителей Наркоминдела к налаживанию связей между Сталиным и Пилсудским в обход советского дипломатического ведомства. На принятие Политбюро предложения Наркоминдела повлияло отсутствие в Москве Сталина в Москве (или его незаинтересованное отношение к планам активизации неофициальных контактов).
16 октября корреспондент ТАСС в Варшаве И. Ковальский известил о решении Москвы директора агентства «Искра» и председателя Союза журналистов Польши М. Счежинского. Он реагировал на него выражением сомнений, что «в такой короткий срок поездку удастся организовать»[1332]. Несколькими днями позже полковник Счежинский предоставил советской стороне список намеченной делегации, в который не были включены ни авторитетные пилсудчики (включая Матушевского и Медзинского), ни деятели оппозиции. НКИД и редакция «Известий» (т. е. близкие к Кремлю И.М. Гронский и С. Раевский) пришли к общему заключению: ответ Счежинского «является достаточно наглым, если учесть, что первоначальная инициатива исходила с польской стороны». О причинах такого поведения Москве оставалось гадать («Бек, очевидно, полагал, что присутствие делегации на празднествах 7 ноября придаст ее поездке характер большой политической манифестации, которую он, по-видимому, теперь считает несвоевременной»)[1333]. Обстановка, в которой проходил визит Л. Райского в Москву 6-13 ноября[1334], свидетельствует, что возникшие в НКИД и «Известиях» предположения были малоосновательны; польская сторона предпочла скорее пойти на срыв предварительной договоренности о визите представителя Пилсудского (будь то Медзинский, Матушевский или Счежинский), чем придавать задуманной акции характер экскурсии журналистов различной политической ориентации.
Дополнительным обстоятельством, приведшим к падению интереса поляков к организации визита журналистов (и возможно сказавшимся на решении «инстанции), явилось отсутствие в Москве Сталина и Радека, который с 7 октября по 7 ноября 1933 г. находился в отпуске[1335]. Между тем, М. Счежинский, сообщал Антонов-Овсеенко, «будет иметь и особые поручения», он «оттягивает поездку, ибо хочет повидаться именно с т. Радеком и т. д.»[1336].
Вследствие возникших разногласий визит польских журналистов в Советский Союз в дни празднования 17-й годовщины Октябрьской революции не состоялся, а в конце ноября Б. Медзинский сообщил полпреду, что, поскольку в СССР не готовы принять делегацию журналистов правящего Беспартийного блока, их приезд «вовсе отпадает». Антонов-Овсеенко, который, после беседы с редактором «Газеты Польской», был убежден в серьезности намерений маршала относительно продолжения неофициальных дискуссий с СССР, считал «большой ошибкой, что мы не согласились на приезд журналистов правящего блока»[1337].
23 октября 1933 г.
Опросом членов Политбюро
76/56. – О Польше.
Утвердить следующий текст ноты Польше (см. приложение[1338]) с опубликованием в печати.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 148 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 23.10.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 117.
21 октября на советское консульство во Львове было совершено нападение, в результате которого активистом нелегальной Организации украинских националистов М. Лемыком был убит секретарь консульства А. Маилов, а другой сотрудник ранен. Львовское покушение подкрепило поступавшую в Москву информацию о том, что польское правительство, «несмотря на его нынешний курс в отношении СССР, стремится «на всякий случай» поддерживать и разжигать антисоветские и даже интервенционистские настроения на Западной Украине»[1339]. В утвержденной Политбюро ноте польскому МИД заявлялось, что нападение на львовское консульство «нельзя не поставить в связь с той кампанией, которая уже в течение продолжительного времени ведется в некоторых воеводствах Польши» и которая «не знает никаких границ в травле, клевете и науськивании на Советский Союз». Полпред Антонов-Овсеенко предлагал выставить требование о снятии местных властей, оказывающих покровительство антисоветским кругам, однако Москва ограничилась указанием на то, что «это покушение могло возникнуть лишь в атмосфере, созданной упомянутой кампанией, которой… попустительствовали некоторые польские власти». Во врученной полпредом ноте от имени правительства СССР был заявлен «формальный протест» против нападения на львовское представительство[1340].
В предложениях, направленных Политбюро, руководство НКИД предлагало воздержаться от публикации ноты, чтобы избежать «осложнений» в отношениях с Польшей, которые предсказывал Антонов-Овсеенко и которых, констатировал Стомоняков, «мы отчасти боялись». Решение об опубликовании «было принято помимо нас [НКИД. – Авт.]»[1341], вероятно, под влиянием общего ужесточения критики поведения польских властей на украинских землях[1342]. Советская нота по делу о нападении на львовское консульство была опубликована в «Известиях» 24 октября.
Реакция польского правительства на открытый протест СССР оказалась более спокойной, чем та, которой первоначально опасались в НКИД. Содержание ответной ноты Польши и меры, принятые польскими властями, вполне удовлетворили руководителей советской дипломатии. Антонову-Овсеенко было указано воздержаться от предъявления новых претензий (в частности, от требования смертного приговора для М.Лемыка)[1343].
1 ноября 1933 г.
2. – О переговорах с поляками об авиалинии (т. Уншлихт).
Подтвердить прежнюю линию Политбюро о смешанном акционерном обществе.
Выписки посланы: т.т. Уншлихту, Крестинскому.
Протокол № 148 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.11.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 111.
Переговоры о воздушной линии Варшава – Москва были начаты в конце октября 1933 г., несмотря на стремление Польши ускорить заключение воздушной конвенции с СССР. 22 октября в Москву прибыл начальник польской гражданской авиации полк. Ю. Филипович, однако, советские органы оказались не готовы к немедленному открытию переговоров.
Штаб РККА 23 октября доложил свои предложения по оптимальному с его точки зрения проведению маршрута для трассы Варшава – Москва; согласование между Штабом и ГУГВФ вопросов о маршруте, выделении посадочных площадок и их оборудовании было завершено лишь 4 ноября[1344].
Более серьезным препятствием оказался вопрос об организационно-правовой схеме управления воздушной линией. Насколько удалось установить, Политбюро никогда не принимало официального постановления о необходимости создания смешанного акционерного общества для советско-польской авиалинии по примеру советско-германской компании «Дерулюфт». Вероятно, такие указания были даны Кремлем в иной форме и позднее «легализованы» ссылкой на «прежнюю директиву Политбюро», либо «инстанция» придала старому решению о «Дерулюфте» смысл прецедента для последующих соглашений с другими странами.
Польская сторона предлагала иной способ организации сообщения – путем параллельного и поочередного обслуживания линии (система «пула» или «сообщества»), как это было принято на всех иных европейских линиях (в том числе, с участием немцев). По заключению польского Министерства коммуникации, отказ от этого общепринятого механизма в пользу советского варианта потребовал бы от Польши дополнительных расходов (около полумиллиона злотых)[1345]. Однако ознакомление польских специалистов с оборудованием московского аэродрома и организацией полетов советской гражданской авиации вызвало у них отрицательное впечатление и склонило к выдвижению компромиссной концепции создания постоянного согласительного и надзорного органа, способного регулировать вопросы, возникающие при параллельной эксплуатации линии ведомствами двух стран[1346].
Возникшие разногласия имели очевидную политическую подоплеку. 23 октября (вероятно, в связи с прибытием в Москву Филиповича) французский посол Ш. Альфан сообщил Литвинову о желании Франции принять непосредственное участие в организации и эксплуатации линии Варшава – Москва. Это предложение подтверждало пожелания, ранее высказанные Котом и Шомье и изложенные в записке Литвинова в Политбюро 21 сентября 1933 г. К тому же сообщение посла было сделано в преддверии доверительных бесед Литвинова с Поль-Бонкуром, в ходе которых впервые возникла тема возобновления франко-русского союза, направленного против Германии. Поэтому французское предложение не могло не вызвать позитивного отклика со стороны НКИД. Руководители Польши, напротив, опасались, что непосредственное франко-советское сближение приведет к умалению роли Польши и ослабит ее позиции в Центрально-Восточной Европе. Предложенная ими система «пула» должна была привести к зависимости французской стороны от договоренностей с Варшавой, тогда как советская схема смешанного общества открывала путь к трехстороннему соглашению.
Это разногласие выявилось уже 28 октября 1933 г.[1347], а на следующий день Ю. Бек в телеграфной инструкции поручил посланнику в Москве сопротивляться французско-советскому нажиму и отстаивать первоначально контуры двустороннего соглашения. Польские дипломаты полагали, что правительство Франции повело себя нелояльно и бестактно, не сообщив союзнице о намерении обсуждать с СССР устройство линии Париж – Прага – Варшава – Москва и были недовольны, что советская сторона с легкостью взяла назад предварительное согласие на двустороннюю договоренность с Польшей. Ю. Лукасевич предсказывал, что предпринятая Францией и СССР попытка оказать на поляков давление в этом вопросе, «несомненно, не будет последней» и что, «если мы уступим, то побудим наших западных друзей и восточного соседа к повторению этого эксперимента»[1348].
Другим аспектом политической дискуссии вокруг организации авиалинии являлось состояние германо-польских отношений. 25 октября Лукасевич со ссылкой на «известие из Варшавы» заявил Стомонякову, что «из-за Берлина» (где проходили переговоры о германо-польской воздушной конвенции) вопрос о советско-польском соглашении по авиалинии «стал очень актуальным»[1349]. Польская дипломатия пыталась таким образом ускорить начало деловых переговоров с руководителями гражданской авиации СССР, однако эта информация способна была лишь насторожить советское политическое руководство. Оно было информировано «из разных источников о том, что подготовляется заключение пакта о ненападении между Германией и Польшей»[1350], и опасалось, что Польша использует «советскую карту» для достижения modus vivendi с Германией в ущерб интересам Советского Союза. В этом контексте вариант смешанного общества свидетельствовал бы о серьезности сотрудничества Польши и СССР, тогда как нежелание поляков отказаться от система «пула» укрепляло подозрения, что они заинтересованы, прежде всего, в краткосрочном политическом эффекте от воздушного соглашения с Советами. Действительно, переговоры об установлении авиалинии между столицами Польши и СССР сопровождались слухами о налаживании между ними широкого военного сотрудничества. По утверждению советника немецкого посольства в Варшаве, такие слухи «усиленно распространяли» «поляки», и в Берлине складывалась «уверенность в том, что эти слухи соответствуют действительности»[1351].
На заседании 29 октября, Филипович и Лукасевич добились того, что «советская сторона перестала принципиально отстаивать свою концепцию и согласилась рассмотреть по существу» польское предложение. Оно включало новые проекты межгосударственного соглашения, соглашения Министерства связи Польши с ГУГВФ СССР о порядке эксплуатации авиалинии (включая создание совместного надзорного органа), соглашения между Лотем и Аэрофлотом о финансовом вкладе сторон[1352]. Эти материалы должны были быть получены Начальником ГУГВФ И. Уншлихтом 31 октября 1933 г. и, по всей вероятности, явились основанием для представления им соответствующего запроса в Политбюро.
14 ноября 1933 г.
Опросом членов Политбюро
96/82. – О торговом договоре с Чехословакией.
1) Считать целесообразным регулирование торговых отношений с Чехословакией путем взаимного признания СССР и Чехословакии торгово-договорными странами в связи с тем, что договор от 5.VI.1922 содержит статьи по торговым вопросам.
2) Ввиду проявленной представителем чешского МИДа инициативы, поручить полпреду и торгпреду в ЧХС зондировать у чехпра возможность такого способа урегулирования торговых отношений между обоими странами.
Выписки посланы: т.т. Крестинскому, Розенгольцу.
Протокол № 149 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.11.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 136.
Международно-правовой основой отношений СССР с Чехословакией вплоть до июня 1934 г. оставался заключенный 5 июня 1922 г. Временный договор между РСФСР и Чехословакией (и подписанный на следующий день аналогичный договор ЧСР и УССР). Взаимоотношения между СССР и Чехословакией до 1934 г. основывались на заключенном 5 июня 1922 г. Временном договоре между РСФСР и Чехословакией. Договор признавал за гражданами ЧСР и органами советского правительства право на ведение экономической деятельности в другой стране на правах юридических лиц, однако никоим образом не определял условий ее осуществления или способов регулирования. «Всякая торговая деятельность, – гласило ключевое положение Договора, – должна производиться согласно законам каждой из Договаривающихся сторон»[1353].
Возможность заключения торгового договора с середины 1920-х гг. неоднократно рассматривалась в двусторонних торговых и дипломатических контактах. Инициатива неизменно исходила со стороны Чехословакии, стремившейся таким путем обеспечить увеличение советских заказов. В Праге полагали, что заинтересованность СССР в установлении полных дипломатических отношений создает возможность для получения от него компенсаций в форме выгодного для ЧСР торгового договора. К лету 1928 г. стороны согласовали программу и порядок ведения переговоров, однако затем МИД Чехословакии предложил вести торговые переговоры дипломатическим путем и по сокращенной программе. Политбюро, следуя совместным рекомендациям НКИД и НКТ, отклонило это предложение Э. Бенеша[1354]. В 1929–1933 гг., несмотря на существенную совместимость хозяйственных потребностей двух стран, в их экономических отношениях продолжался застой. За эти годы советский импорт из ЧСР составил 96,5 млн. рублей (т. е. менее 0,7 % общего ввоза в СССР). «Мы исключительно плохо знаем чехословацкую технику, которая стоит на очень высоком уровне, – позднее констатировал полпред в Праге. – Годами пренебрегали»[1355]. С другой стороны, вывоз из Советского Союза в ЧСР составил за эти годы лишь 20 млн. рублей, что приводило к огромному (в относительных цифрах) отрицательному сальдо[1356].
В марте 1932 г. совещание торгпредов СССР в странах Центральной Европы, проведенное в Берлине заместителем наркома внешней торговли Вейцером, постановило «просить у руководящих инстанций разрешение о переговорах с чехословацким правительством по ряду экономических вопросов». Это обращение совпало с обострением политических взаимоотношений между Москвой и Прагой в связи с «делом Ванека»[1357]. Руководители НКИД сочли нужным оставить предложение НКВТ без последствий, ибо вести экономические переговоры, «когда у нас имеется такое напряженное состояние наших отношений с Чехословакией, совершенно невозможно»[1358]. В сентябре 1932 г. Москва разрешила полпреду Аросеву и торгпреду Килевицу начать переговоры о правовом статусе торгпредства в Праге[1359]. Интересующие СССР вопросы получили на них частичное разрешение, чехословацкая сторона не отказалась от ряда прежних требований (уплата торгпредством налога с оборота и др.). В связи с этим заведующий политическим отделом МИД Чехословакии Велнер 16 января официально предложил Аросеву и Килевицу «начать общие переговоры о [торговом] договоре, о Торговом представительстве и о налогах». Советская сторона выразила согласие, однако дело ограничилось дискуссией с Велнером 23 января по поводу уплаты торгпредством налога с оборота и необходимости соглашения о статусе торгпредства[1360].
В 1933 г. политические отношения двух стран быстро улучшались. В марте Э. Бенеш внес предложение о заключении пакта ненападения между СССР и странами Малой Антанты; 4 июля эти государства подписали предложенную СССР конвенцию об определении агрессии. Тем самым был актуализирован вопрос о взаимном признании (главным препятствием к нему оставалась неурегулированность бессарабской проблемы)[1361], и, с точки зрения Праги, о заключении торгового договора между ЧСР и СССР. Советское руководство продолжало исходить из того, что торговым переговорам и акциям культурного сближения с Чехословакией должно предшествовать установление дипломатических отношений. В правительственной Москве считалось, что правительство Чехословакии в силу ее ухудшающегося международного положения нуждается в советской поддержке, и, следовательно, в интересах нормализации дипотношений необходимо временно воздерживаться от обсуждения развития экономических связей, тем более, что на переговорах о заключении торгового договора, «чехи обязательно поставили бы вопрос о соотношении между экспортом и импортом»[1362]. На удовлетворение такого пожелания советская сторона заранее отказывалась пойти, намереваясь «добиваться льгот для нашего экспорта на том основании, что в течении последних лет Чехословакия имела постоянный активный баланс [в торговле. – Авт.] с СССР». Поэтому, будучи заинтересованы в том, чтобы пользоваться в Чехословакии правами страны, имеющей с нею торговый договор, НКИД и НКВТ считали переговоры о торговом договоре заведомо обреченными на провал[1363]. Изменение политической ситуации в Европе, однако, подталкивало СССР к улучшению отношений с Чехословакией, и летом 1933 г. Москва заявила о «желании, чтобы это улучшение было дополнено и хозяйственным сближением». Как сообщил первый заместитель наркома Крестинский советнику миссии Й. Кошеку в начале августа 1933 г., «политическое руководство, говорят [sic], дало комиссариату внешней торговли указание, чтобы при закупках в большей мере, чем прежде, обращалось внимание на Чехословакию». Находившемуся в те дни в Москве директору Витковицких заводов Ф. Луцеку в НКВТ подтвердили, что «действительно получили указание, о котором говорил г-н Крестинский», указав при этом, что передача заказов из Германии в Чехословакию вызывает большие затруднения – технология значительной части фабрик обеспечивается немецкими инженерами, познания которых относительно требуемой номенклатуры поставок в основном не выходят за рамки германского рынка; к тому же, заказы на 1933 г. уже выданы. В итоге Витковицким заводам пришлось довольствоваться контрактом на поставку 1400 тонн жести и железоизделий[1364].
Между тем, в советско-чехословацких отношениях продолжали накапливаться проблемы и недоразумения, вызванные практикой выдачи разовых разрешений и лицензий[1365], в 1933 г. товарооборот упал до 6 млн. рублей. Этой совокупностью обстоятельств объясняются как появление в МИД ЧСР идеи соглашения с СССР о признании друг друга «торгово-договорными странами» (которую представил Александровскому от своего имени политический референт Восточного отдела МИД Благош в сентябре-октябре 1933 г.), так и внимание, проявленное к ней в Москве.
Руководители наркоматов внешней торговли и иностранных дел пришли к согласованному предложению о поиске компромиссного варианта урегулирования торговых отношений, которое было передано в Политбюро. По утверждению Крестинского, принятое опросом членов Политбюро предложение НКИД и НКВТ, было предварительно «обсуждено инстанцией»[1366]. Вероятно, это произошло во время часового пребывания Крестинского у Сталина, в кабинете которого находились Микоян, Каганович, Молотов и Зеленский, вечером 13 ноября[1367]. Разъясняя суть постановления Политбюро Крестинский указывал полпреду, что обмен декларациями о признании друг друга торгово-договорными странами «имел бы для нас смысл лишь в том случае, если бы в результате этого Чехословакия предоставила нам по нашим экспортным товарам те же пониженные тарифные ставки» и другие преимущества, которыми пользуются «настоящие торгово-договорные страны». Москва опасалась создать в МИД ЧСР впечатление, будто она берет на себя инициативу начала переговоров о торговом договоре, пусть и в урезанном виде. Поэтому постановление Политбюро содержало ссылку на статьи Временного договора 1922 г., а перед полпредом ставилась задача «навести Благоша на то, чтобы он поставил перед Вами этот вопрос»[1368].
Согласие относительно базирования двусторонней торговли на принципе наибольшего благоприятствования было достигнуто между представителями СССР и Чехословакии еще в ходе неофициальных предварительных переговоров в Женеве в 1928 г. В Праге, однако, опасались, что, «поскольку всей торговлей СССР ведает государство и она осуществляется государственными органами, в то время как в ЧСР торговля является совершенно свободной, содержание клаузулы о наибольшем благоприятствовании было бы в этом смысле односторонним и не в пользу ЧСР»[1369]. Чехословацкие представители рассчитывали компенсировать эту «односторонность» установлением контингентов на экспорт товаров в СССР, тогда как советская сторона была озабочена своим отрицательным балансом, сохранявшимся в торговле с Чехословакией до начала 1934 г. Вероятно, под влиянием этих соображений руководство МИД Чехословакии воздержалось от предложения о взаимном установлении режима торгово-договорных стран; проведенный полпредом зондаж не дал позитивных результатов[1370].
2 декабря 1933 г. состоялось заседание Коллегии НКИД, на котором были обсуждены проблемы экономических взаимоотношений, в частности, с Чехословакией. В обсуждении принял участие полпред в Праге С.С. Александровский. Коллегия приняла решение «не давать чехам заказов, по крайней мере первый квартал 1934 г.» и посоветовала сократить численный состав пражского торгпредства (НКВТ распорядилось сократить его штаты на 40 %). Цель этих мер состояла в том, что используя обстановку экономического кризиса, указать чехословацким промышленникам и государственным деятелям на «невозможность для них рассчитывать на развитие хозяйственных взаимоотношений в созданных ими условиях трактовки нас как бездоговорной страны». Побочным эффектом сокращения советских заказов должна была стать активизация сторонников признания СССР. При этом приходилось учитывать представляемые НКВТ и его берлинским центром «народнохозяйственные интересы», в результате чего торгпредство за первое полугодие 1934 г. выдало заказов на 650 тыс. рублей (при экспортной выручке в 100 тыс. рублей)[1371]. Тем не менее, по данным чехословацкой статистики в январе-апреле 1934 г. в ЧСР было ввезено советских товаров на 36 млн. к.ч., а экспортировано из нее в СССР – на 9 млн. к.ч. (по данным торгпредства это соотношение составляло даже 6:1 или 7:1).
В начале 1934 г. Э.Бенеш, в связи с вручением им проекта торгового договора, предпринял попытки возродить интерес Советов к ограниченному соглашению о предоставлении друг другу прав торгово-договорных стран[1372]. Стойкое нежелание Москвы до установления дипломатических отношений обсуждать договор о Чехословакии, ее растущее отрицательное торговое сальдо и холодность, проявлявшаяся полпредом в отношении компромиссного предложения Бенеша, побудили МИД ЧСР обратиться к представителю НКВТ в Праге. 25 мая 1934 г. заместитель экономического отдела МИД Глосс заявил торгпреду Килевицу о готовности «вернуться к вопросу о временном урегулировании торгово-политических вопросов путем взаимного признания торгово-договорными странами»[1373]. Сделанное накануне взаимного признания де-юре и после передачи в Москву проекта торгового договора, предложение Глосса не вызвало интереса со стороны советского руководства, подобного тому, какой был проявлен к этой идее в ноябре 1933 г., и не имело каких-либо последствий. Таким образом, наркоматы иностранных дел и внешней торговли в своей практической деятельности с декабря 1933 г. не считали нужным руководствоваться рассматриваемым постановлением Политбюро. После того, как беседы Александровского с Благошем, проходившие во второй половине ноября, не дали желаемого результата, НКИД и НКВТ выработали иную тактику (и проводили ее на протяжении полугода, невзирая на попытки Бенеша вернуться к идее соглашения о статусе торгово-договорных стран). В результате значение постановления Политбюро «О торговом договоре с Чехословакией» для советской внешней политики сказалось лишь в расширении возможностей советских представителей уклоняться от настояний Праги на заключении такого договора, что отчасти уменьшило влияние разногласий по этому поводу на развитие политических взаимоотношений[1374]. Разрешение торгово-политических проблем в отношениях с Чехословакией Москва отложила до лета-осени 1934 г.[1375].
15 ноября 1933 г.
Опросом членов Политбюро.
100/86. – О воздушной линии Краков – Харьков.
Предложение поляков об организации воздушной линии Краков – Харьков отклонить.
Выписки посланы: т.т. Уншлихту, Крестинскому.
Протокол № 149 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.11.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 137.
В первой половине ноября в Москве продолжались переговоры и неофициальные беседы между руководителями гражданской авиации Польши и СССР (Филиповичем и Уншлихтом), к которым подключились как дипломаты (Крестинский, Стомоняков, Лукасевич), так и военные (Тухачевский, Егоров, Райский). Несмотря на благоприятную атмосферу обсуждения, договоренность не была достигнута из-за настойчивого отклонения польскими представителями варианта смешанного общества и стремления СССР привлечь к соглашению Францию[1376]. Авторитетный представитель «Газеты Польской» в Москве Ян Берсон (Отмар), на которого была возложена задача поддержания доверительных контактов Варшавы с Радеком, как личным уполномоченным Сталина, признавал, «что он в сущности не понимает, почему польская сторона не идет на образование смешанного общества» и соглашался с тем, что «с точки зрения политической форму смешанного общества надо предпочесть всякой другой»[1377].
Вероятно, к середине ноября польские представители в неофициальной форме выразили готовность уступить СССР в вопросе об организации смешанного общества по управлению воздушным сообщением Варшава – Москва в случае проведения дополнительного маршрута между Краковом и столицей УССР. Тем самым могли быть удовлетворены как польские претензии в связи с отказом об организации обменной выставки в Харькове[1378], так и более широкие пожелания Польши о признании Москвой допустимости ее прямых контактов с Советской Украиной. Между тем, при поощрении ЦК ВКП(б) и по его прямым указаниям, в ноябре 1933 г. в политической пропаганде на Украине усилились предостережения по поводу агрессивных замыслов западного соседа[1379]. Принятие польского предложения в значительной степени лишало бы оправдания проводимые в УССР крутые меры по подавлению «правонационалистических элементов» и, вероятно, в связи с этим, было отвергнуто. Неясно, когда и в какой форме представители ГУГВФ информировали польских партнеров об этом решении Политбюро.
Переговоры об установлении прямого воздушного сообщения между Польшей и СССР закончились безрезультатно[1380].
23 ноября 1933 г.
Опросом членов Политбюро
75/56. – О Совпольторге.
Ликвидировать Совпольторг.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Крестинскому.
Протокол № 150 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.12.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 145.
Повторное решение Политбюро о ликвидации Совпольторга было принято вопреки соглашению от 17 февраля 1933 г. о продлении действия учредительного договора до начала 1935 г.[1381] Причины, побудившие НКВТ СССР и Политбюро ЦК ВКП(б) еще до истечения этого срока распустить советско-польское торговое товарищество, в точности установить не удалось. По данным МИД Польши в 1933 г. СПТ выполнил план экспортных и импортных операций на 70–72 %, т. е. работал успешнее, чем в предшествующем году[1382], однако обязательства, принятые советской стороной по соглашению 17 февраля 1933 г., могли оказаться для нее излишне обременительными.
Толчком к постановке вопроса о будущем «Совпольторга» явилось заявление министра торговли и промышленности Ф. Зажицкого, сделанное 2 сентября 1933 г. торгпреду А.К. Абелю. Министр предложил план действий, в соответствии с которым «Польросс» и «Совпольторг» подлежали ликвидации, функции варшавского торгпредства расширялись, а между двумя странами заключался торговый договор[1383]. Между тем, ни в польских, ни в советских правительственных кругах не было выработано ясной позиции относительно желательности заключения советско-польского торгового договора. Советские представители в Варшаве полагали, что в договоре «мы заинтересованы больше, чем поляки»[1384], однако окончательного решения по этому в Москве принято не было[1385].
1 декабря член Коллегии НКВТ Дволайцкий сообщил коммерческому советнику польской миссии в Москве Жмигродскому о решении ликвидировать Совпольторг, не касаясь при этом перспектив заключения торгового договора. Оно оказалось неожиданным для польской стороны, которая ожидала приезда в Варшаву, для обсуждения плана торговых операций на 1934 г., председателя СПТ М.И. Фирсова. Посланник Ю. Лукасевич выразил недовольство этим решением, заявив, что оно «произведет тягчайшее впечатление [в Варшаве. – Авт.], будет воспринято как радикальный поворот политической линии». Советские представители объясняли ликвидацию Совпольторга исключительно коммерческими соображениями и ссылались на мнение министра торговли «о ненужности Совпольторга». По утверждению Антонова-Овсеенко, ликвидация СПТ «ничуть не означала намерения ослабить торгработу с Польшей, но лишь ввести ее в более нормальные формы»[1386].
Заявление полпреда выражало, по всей вероятности, его надежды на скорое вступление в переговоры с Польшей о заключении торгового договора, что предусматривалось августовским решением Коллегии НКИД[1387]. Однако, несмотря на повторную передачу этого вопроса в Политбюро, он не был им рассмотрен. Вероятно, убедившись в неприязненной реакции Варшавы на ликвидацию СПТ и в невозможности открытия переговоров о советско-польском торговом договоре, руководство Наркомата внешней торговли СССР 13 декабря в частном порядке информировало А. Жмигродского о возможности сохранения Совпольторга при условии сближения в его балансе объемов закупок и продаж. 28 декабря коммерческий советник сообщил Дволайцкому, что польское правительство готово к ведению переговоров об условиях сохранения СПТ[1388].
После нескольких недель неопределенности советская сторона отказалась от этой идеи и приступила к ликвидации советско-польского торгового акционерного общества. 27 января 1934 г. состоялось «общее собрание акционеров» (Дволайцкий и Фирсов – с советской стороны, Касперович и Зябицкий – с польской), на котором была согласована ликвидационная процедура и создана ликвидационная комиссии под председательством Фирсова[1389].
16 декабря 1933 г.
Опросом членов Политбюро
81/56. – О соглашении с Эстонией.
1) Предложить Наркомвнешторгу принять меры к продлению на 1934 г. соглашения с Эстонией от 23 декабря 1932 г.
2) Разрешить Наркомвнешторгу в случае необходимости согласиться на импорт из Эстонии в половинном размере всего нашего экспорта (а не только экспорта т. наз. лицензионных товаров).
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Литвинову.
Протокол № 151 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.12.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. On.162. Д. 15. Л. 153.
Вопрос о пролонгации т. н. «временного соглашения о товарообороте» был поставлен в двусторонних отношениях еще двумя месяцами ранее. В ноябре 1933 г. первый секретарь полпредства А.И. Антипов сообщал в Москву о тех вопросах, которые более всего будут интересовать эстонцев на будущих переговорах. Поскольку в Эстонии количество «монополизированных товаров», т. е. тех, на импорт которых Таллин выдавал разрешения, неуклонно сокращалось, то эстонцы, по его мнению, потребуют установления соотношения не только к монополизированным, но и ко всем товарам, и будут «частично применять принцип контингентов[1390].
23 ноября покидавший свой пост торгпред Н.В. Гаврилов выступил в Таллине на отчетном собрании «Эстонско-Всесоюзносоветской [sic] торговой палаты». Возможно в силу того, что он разделял мнение руководства НКВТ на развитие торговли с Эстонией и не считал нужным учитывать заинтересованность НКИД в развитии отношений с этой страной, присутствующие услышали из его уст: расширение Ленинградского и Мурманского портов свидетельствует о том, что эстонцам больше нечего надеяться на советский транзит. Это, сделанное «по необъяснимым причинам, заявление вызвало недовольство полпредства»[1391].
5 декабря, на следующий день после подписания советско-латвийского торгового договора[1392], министр иностранных дел Эстонии Ю. Сельямаа жалуясь на перегруженность в связи с торговыми переговорами с Англией, Литвой и Финляндией, между прочим, заметил, что поскольку СССР заключил торговый договор с Латвией, Эстонии то же надо будет требовать тех же условий[1393]. Такая постановка вопроса была крайне нежелательна для Москвы. В качестве способа ухода от обсуждения с Таллином вопроса о торговом договоре и была пролонгация соглашения 1932 г. Принятым Политбюро решением санкционировалось начало переговоров. 23 декабря 1933 г. торгпред и министр народного хозяйства Эстонии обменялись нотами о продлении на 1934 г. торгового соглашения от 23 декабря 1932 г.[1394]. Успешному развитию двусторонних хозяйственных связей мешали, прежде всего, отсутствие у СССР возможностей как для наращивания экспорта, так и для размещения заказов, а также внутриполитическая ситуация в самой Эстонии. Зимой 1934 г. была достигнута договоренность о визите в Таллин А.П. Розенгольца, однако его эстонский коллега с радостью ухватился за сообщение о том, что по некоторым причинам глава НКВТ вынужден отложить свой визит. Для Сельтера, жившего, как и все эстонцы, в ожидании того, кто же придет в Таллине к власти, вести переговоры с Советами, завершение которых не обрушило бы лавины советских заказов, политически дальновиднее было воздержаться от общения с большевиками. Переговоры велись на протяжении всего 1934 г., и только в конце этого года было подписано трехлетнее хозяйственное соглашение.
19 декабря 1933 г.
Опросом членов Политбюро
99/74. – О Франции.
Дать т. Довгалевскому для ответа Бонкуру следующие директивы:
1) СССР согласен на известных условиях вступить в Лигу Наций (об условиях см. ниже).
2) СССР не возражает против того, чтобы в рамках Лиги Наций заключить региональное соглашение о взаимной защите от агрессии со стороны Германии.
3) СССР согласен на участие в этом соглашении Бельгии, Франции, Чехословакии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии или некоторых из этих стран, но с обязательным участием Франции и Польши.
4) Переговоры об уточнении обязательств в будущей конвенции о взаимной защите могут начаться по представлении Францией, являющейся инициатором всего дела – проекта соглашения.
5) Независимо от обязательств по соглашению о взаимной защите, участники соглашения должны обязаться оказывать друг другу дипломатическую, моральную и, по возможности, материальную помощь также в случаях военного нападения, не предусмотренного самим соглашением, а также воздействовать соответствующим образом на свою прессу.
6) СССР вступит в Лигу Наций при выполнении следующих условий:
[…]
д) СССР будет настаивать на восстановлении с ним нормальных отношений всеми остальными членами Лиги, или, в крайнем случае, на включение в устав Лиги или на проведение собранием Лиги постановления о том, что все члены Лиги считают восстановившими между собою нормальные дипломатические отношения и взаимно признавшими друг друга.
Выписки посланы: т. Литвинову.
Протокол № 151 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.12.1933.– РГАСПИ. Ф. 17. On. 162. Д. 15. Л. 154–155[1395].
Возможность заключения договора о взаимной помощи между СССР и Францией обсуждалась с июля 1933 г. Многие важные детали ранней стадии переговоров (июль-октябрь 1933 г.) остаются неизвестны[1396]. В конце октября М.М. Литвинов, находившийся в Париже по пути в Вашингтон, с санкции Политбюро принял приглашение министра иностранных дел Франции Ж. Поль-Бонкура, который «вновь говорил о необходимости подумать нам и Франции» о «взаимной помощи в дополнение к пакту о ненападении» и о вступлении СССР в Лигу Наций[1397]. Спустя четыре недели Москва поручила полпреду Довгалевскому вступить в соответствующие переговоры с Поль-Бонкуром[1398]. Согласно более поздней французской интерпретации, Москва (по крайней мере, М.М. Литвинов) считала наиболее предпочтительным вариантом договора безопасности двусторонний советско-французский пакт взаимопомощи (подобный тому, какой действительно был впоследствии заключен), тогда как МИД Франции добивалось многостороннего соглашения с участием союзных Франции государств Восточно-Центральной Европы (однако, насколько правдива эта версия и какую стадию взаимных консультаций она отражает, остается неясным).
Составленное в осторожных выражениях («взаимная защита» вместо обсуждавшейся assistance mutuelle – взаимной помощи), это решение знаменовало решительный отход от практики неучастия в многосторонних политических соглашениях. Немедленно, вслед за решением «О Франции» Политбюро опросом утвердило постановление об иных «вопросах тов. Литвинова». Ему поручалось «ответить Турции согласием на участие в пакте о ненападении между Турцией, Персией, Афганистаном, Ираком, Англией и СССР с тем, чтобы инициатива осталась за Турцией и Персией»[1399] (это соглашение, известное позднее, как Саадабский пакт, не было заключено). Еще более важной санкционированная Политбюро акция была для советской политики в Европе. В Москве отдавали себе отчет в рискованности вступления в переговоры с Францией о региональном соглашении о взаимной помощи, поэтому, сообщая о решении высшего политического руководства, полпред В.С. Довгалевский заявил Генеральному секретарю МИД А. Леже: «Чтобы достичь искреннего сближения нужна воля, нужно не останавливаться на полпути, не сворачивать в сторону. Стремление к искреннему и прочному сближению с Францией для СССР в значительной степени будет зависеть от той заинтересованности к этому сближению, которую он обнаружит, от тех гарантий, которые обеспечат ему развитие соглашения, учитывая создаваемые правительственной французской нестабильностью риски; условием этой политики взаимного доверия между двумя странами также стала бы разносторонняя и длительная практика, и в такой политике, в которой Россия, со своей стороны, была бы готова взять на себя обязательства без каких-либо колебаний и ограничений, Франции следует ясно осознавать взаимные интересы, чтобы не допустить в какой бы то ни было области ущемления интересов своего партнера»[1400]. Одной из главных трудностей намеченного соглашения являлось определения круга стран-участниц. После дезинтеграции западных областей Российской империи возобновление франко-русского союза оказывалось невозможно, без обеспечения участия в нем граничивших с Германией новых государств Восточно-Центральной Европы, в первую очередь Польши. В то время, как А. Леже и политический директор МИД Франции П. Баржетон считали необходимым вовлечение Польши в договор с СССР, министр Ж. Поль-Бонкур представлял его как «сходное с тем, который связывает нас с Польшей», если возможно, координированное и также подписанное ею. Эти колебания отразились в беседах Поль-Бонкура с полпредом в декабре 1933 г.[1401] Между тем, соглашение с Парижем без польского участия являлось неприемлемым для СССР уже по той причине, что географическая неосуществимость советских гарантий Франции, несомненно, являлась мощным фактором в пользу ее фактического отказа от союза с ним, и решение Политбюро определило участие Польши в будущем пакте как conditio sine qua non.
Противоположным было отношение Москвы к участию Румынии, о котором упоминалось в предварительных консультациях в Париже. Как показали последующие переговоры, за неупоминанием этого государства в постановлении Политбюро стояло стойкое неприятие ее приглашения в намеченный региональный пакт[1402]. Возможно, эта позиция объяснялась не только опасениями исказить региональный характер договора и изменить его антигерманскую направленность, но и желанием изолировать Бухарест от союзных ему Франции, Польши и Чехословакии. Сообщая 28 декабря о решении советского руководства, полпред привел некие «доводы отрицательного свойства не только в отношении Румынии, но и Чехословакии» (возможно, они ограничивались констатацией отсутствия взаимного признания де-юре)[1403]. Участие в региональном (восточноевропейском) пакте одной из участниц Рейнского пакта 1925 г. – Бельгии было с порога отвергнуто Парижем, и к этому вопросу советская сторона более не возвращалась.
Поначалу французский министр иностранных дел «приветствовал мысль Москвы о включении в число предполагаемых участников соглашения государств Прибалтики»[1404]. Стремление советского руководства включить в региональное соглашение страны восточной Балтики находилось в соответствии с подготавливаемыми на рубеже 1933–1934 гг. инициативами по активизации политики СССР Прибалтике[1405] и на протяжении последующих лет оставалось одной из постоянных задач советской дипломатии. Однако Франция отвергла концепцию предоставления своей гарантии странам Прибалтики, что сделало их участие в многостороннем пакте взаимной помощи окончательно невозможным[1406]. Сдержанная позиция Парижа в отношении прибалтийских государств выявилась зимой 1934 г., когда в европейских политических кругах широко обсуждалось сделанное СССР предложение Польше о выступлении с совместной декларацией о гарантии независимости государств Балтии. Так, в феврале 1934 г. главе французской миссии в Таллине были направлены инструкции, согласно которым тот должен был избегать создания впечатления в эстонского правительства, что правительство Франции предпримет хотя бы какие-то шаги, даже неофициальные[1407].
Вопрос об участии в пакте Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии был поднят Литвиновым во время его встречи с Л. Барту 18 мая 1934 г. в Ментоне. Нарком настойчиво интересовался позицией правительства Франции по вопросу об участии балтийских государств в пакте взаимопомощи. Л. Барту попытался уйти от ответа, заявив, что пакт с Россией он рассматривает как связующее звено системы восточной безопасности с системой западной безопасности, закрепленной актами Локарно, которое имеет собственную ценность. Однако Литвинов настаивал: его заботит ситуация с балтийскими государствами, какие гарантии получат они, например, Литва, которая не граничит даже с Россией, или Финляндия? Сославшись на необходимость выработки подходящей формулы, чем должны будут заняться по возвращении в Париж Баржетон и А. Леже, глава Кэ д’Орсэ ответил: «Совершенно очевидно, что мы не сможем предоставить нашу гарантию балтийским государствам, как мы предоставим ее России… но если Россия даст гарантию балтийским государствам, не пойдет ли наша гарантия России косвенным образом на пользу и им?[1408] Литвинов высказался за поиск формулы, которая позволила бы сделать участниками пакта балтийские государства. На его вопрос, что если другие государства, например Румыния, захотят присоединиться к пакту, Барту ответил, что рассматривает этот пакт, как пакт региональный, как Локарно для Северо-восточной Европы, тогда как Румынию более интересует Центральная Европа и Балканский пакт[1409]. За беседой Литвинова и Барту последовала встреча Р. Массигли и Б. Штейна, результаты которой нашли свое отражение в т. н. «схеме, переданной Литвинову французской стороной в качестве aide-m?moire. В числе участников пакта региональной помощи в нем, помимо Германии, СССР, Польши и Чехословакии, упоминались также и все государства Востока Балтики, причем нападение на одно из прибалтийских государств (в том числе и Финляндию) должно было рассматриваться как нападение на всех них и служить основанием для оказания им помощи[1410]. Однако уже 6 июня Литвинов, сообщая в Москву об одобрении французским кабинетом продолжения переговоров о советско-французском пакте, отмечал что «на помощь Прибалтике Франция согласиться, однако, не может»[1411].
Продолжительное время Польша, Чехословакия, Балтийские страны не ставились в известность о советско-французских контактах по вопросу регионального пакта. Советская дипломатия ограничивалась зондажем позиций Польши и государств Прибалтики. Информирование эстонского и латвийского правительств было сведено к минимуму. Неудовольствие таким положением в дипломатичной форме высказал Литвинову министр иностранных дел Эстонии Ю. Сельямаа во время своего визита в Москву в конце июля 1934 г. Выразив свою признательность наркому и Л. Барту за «усилия по обеспечению Прибалтики министр добавил, что «отношение Эстонии к пакту положительное, но надо еще иметь материалы для изучения, а между тем Эстония не имеет даже французского документа»[1412]. Во изменение декабрьского решения 1933 г., 25 августа 1934 г. Политбюро дало согласие на вступление СССР в Лигу Наций до заключения пакта о взаимной помощи с участием Франции. В новом перечне условий присоединения Советского Союза к Лиге пункт о необходимости принятия ею решения о взаимном дипломатическом признании членами этой организации не упоминался. Отказ от этого условия мог быть вызван как пониманием нереалистичности соответствующей части постановления от 19 декабря, так и тем обстоятельством, что в первой половине 1934 г. СССР установил нормальные дипломатические отношения с Венгрией (5 февраля), Румынией и Чехословакией (9 июня).
1 января 1934 г. Опросом членов Политбюро
94/75. – О выпуске польского приложения к «Литературной газете».
1) Разрешить выпустить польское приложение к Литературной газете, в котором будут помещены статьи польских авторов.
2) Для редактирования этого приложения составить редакционный комитет из представителей: Культпропа ЦК ВКП(б), редакции «Известий», редакции «Литературной газеты» и НКИД.
3) Признать необходимым отпуск бумаги и средств для обеспечения выпуска этого приложения.
Протокол № 152 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.1.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 937. Л. 22.
В конце октябре 1933 г. вышел в свет специальный выпуск «Литературных известий» (Wiadomo?ci»), посвященный развитию советской литературы и включавший, в частности, статью К. Радека «Культура победившего социализма». По договоренности с редакцией этой газеты (достигнутой, вероятно, вторым секретарем полпредства – уполномоченным ВОКС в Варшаве Б.Н. Николаевым), за этим должна была последовать аналогичная акция по ознакомлению советской общественности с современным состоянием польской литературы. Эти договоренности вписывались в планы «культурного сближения», намеченные в ходе визита заведующего БМИ ЦК ВКП(б) в Варшаву в июле 1933 г.
По-видимому, выпуск в СССР публикации польских авторов первоначально предполагалось осуществить в конце 1933 г. Дело затянулось. 19 декабря 1933 г., в беседе с членом Коллегии НКИД польский посланник Ю. Лукасевич «вновь поднял вопрос об издании “польского номера” “Литературной газеты”». «В ответ на мое сообщение: что я не мог еще добиться результатов от наших компетентных органов, – говорится в записи Стомонякова, – он заявил, что решение необходимо принять поскорее, ибо номер желательно выпустить в январе, или, самое позднее, в феврале». В высказываниях Лукасевича просматривалось желание видеть материалы польских писателей опубликованными не позднее официального визита в Москву министра иностранных дел Ю. Бека (сроки которого согласовывались)[1413].
Причины, по которым разрешение на эту культурно-политическую акцию, задерживалось, вероятно, были вызваны как поступавшими в Кремль противоречивыми сигналами о характере перемен во внешней политике Польши на рубеже 1933–1934 гг., так и желанием сохранить чистоту идеологических риз. Принятое по инициативе НКИД[1414] решение несло отпечаток компромисса: план издания специального номера «Литературной газеты» был трансформирован в выпуск «польского приложения» к ней, что открывало широкие возможности маневра в отношении его объема и тиража.
Однако, и в урезанном виде этот проект в 1934 г. не был осуществлен. Согласно объяснениям 1-го Западного отдела НКИД, к приезду Бека материалы из Польши не были получены. В последующие месяцы польское представительство в Москве вело переговоры «за спиной НКИД», непосредственно с редакцией «Литературной газеты». Только осенью 1934 г. «мы узнали, что материалы давно уже находятся в редакции» и «стали форсировать» издание польского номера, желая «избавиться от этой неприятной обузы», писали полпреду заведующий Отделом и референт по Польше, указывая, что «в изменившейся политической обстановке» «против издания польского номера имеются серьезные возражения» и придется вновь обращаться в Политбюро[1415].
В начале лета 1935 г. Москва вернулась к принятому полутора годами позже решению. При этом, наряду с интересами поддержания отношений с симпатизирующими СССР польскими писателями, несомненно, учитывались внутренние и международные перемены в положении Польши. Завершение переговоров о замене Восточного Локарно советско-французским и советско-чехословацким договорами о взаимной помощи СССР позволило наркому Литвинову выразить надежду, что «прекращение полемики по поводу Восточного пакта само по себе позволит установить более спокойные и корректные отношения между СССР и Польшей»[1416]. Запрос в Политбюро о публикации, посвященной польской литературе был возобновлен. 25 июня опросом членов Политбюро было принято постановление «О польском номере «Литературной газеты»: «Разрешить выпуск номера»[1417] (несмотря на формулировку этого пункта, речь по-прежнему шла о публикации приложения к газете, а не ее специального номера).
Публикация была произведена в середине июля 1935 г. в пятистах экземплярах, распространенных, главным образом, заграницей и среди дипломатического корпуса в Москве (в продажу и к подписчикам приложение не поступило); часть представленных поляками материалов была проигнорирована. Эти обстоятельства не остались тайной для польской общественности (тем более, что вступительная редакционная статья носила острополемический характер). Literacki» назвали происшедшее «обычным мошенничеством»[1418].
17 января 1934 г.
Опросом членов Политбюро
195/176 – О Прибалтике.
I. Политические мероприятия.
1. Вопрос о приглашении в Москву лидеров Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и об ответных визитах т. Литвинова – отложить.
2. Осуществить частично предложение о поездке по СССР группы лидеров финляндских политических партий. Не возражать против поездки их в Карельскую республику, если на этом будут настаивать.
3. Считать целесообразной поездку в Москву группы видных политических и общественных деятелей Латвии.
4. Пригласить группу высших военачальников Латвии, в частности, пом. нач. штаба ген. Гартмана.
5. Пригласить в Москву начальника литовского штаба генерала Кубелюнаса.
6. Организовать поездку в СССР группы видных политических и общественных деятелей Эстонии.
II. Экономические мероприятия.
7. Предусмотреть заказы в Финляндии в первом квартале на 209 тыс. руб. Тов. Розенгольцу предоставить номенклатуру этих товаров.
8. Предусмотреть заказы в Латвии в 1-м квартале на 200 тыс. руб. Номенклатуру выработать т.т. Розенгольцу и Микояну и согласовать с т. Литвиновым.
9. Предусмотреть заказы в Эстонии в 1-м квартале на 200 тыс. руб. Тов. Розенгольцу предоставить номенклатуру этих товаров.
10. Предусмотреть заказы в Литве в 1-м квартале на 200 тыс. руб. Тов. Розенгольцу предоставить номенклатуру этих товаров.
III. Мероприятия по общественно-культурной линии.
11. Признать принципиальную признательность [sic] взаимного обмена гастролями артистов между СССР и Прибалтикой, а также посылку туда для выступлений советских ученых и артистов (без обмена). Предложить секретариату ЦК разрешать такие вопросы в ускоренном порядке при условии отсутствия для нас валютных расходов и отсутствия персональных возражений против отдельных поездок.
По Финляндии.
12. Разрешить приезд в СССР экскурсии финских журналистов, предложив ее устроить одновременно с поездкой политических деятелей (см. выше п. 2) и на тех же условиях.
13. Организовать на началах взаимности доклады финляндских ученых-геологов и полярных исследователей в Географическом обществе в Ленинграде и Арктическом Институте, а также доклады наших ученых в Финляндии, в первую очередь проф. Самойловича и Визе.
14. Считать целесообразным присвоить звание членов-корреспондентов Академии Наук: проф. Гельсингфорского Университета Лахтила (анатом), проф. Вайно Таннер (геолог) и проф. Пальмгрен (археолог).
15. Разрешить приезд в СССР группы финляндских писателей.
16. Считать целесообразной организацию на началах взаимности советской выставки искусств в Гельсингфорсе и финляндской выставки в Москве и Ленинграде.
17. Предложить Наркомпросу принять предложение финляндского министра просвещения о присылке в Финляндию видного советского педагога для прочтения цикла лекций о постановке школьного дела в СССР (Кандидатуру согласовать с т. Кагановичем).
По Латвии.
18. Разрешить экскурсию в СССР виднейших латвийских журналистов, согласно предложений Латвийского посланника.
19. Разрешить устройство в Москве в феврале-марте выставки латвийской живописи и графики, согласно предложению Латпра.
20. Организовать ответную выставку советской графики в Риге, а также выставку советской книги.
По Эстонии.
21. Организовать экскурсию в СССР виднейших Эстонских журналистов.
22. Организовать в Эстонии выставку советской графики и советской книги.
По Литве.
23. Организовать экскурсию литовских журналистов в СССР.
24. Организовать в Литве выставку советской графики и советской книги.
Выписки посланы: т.т. Литвинову – все; Розенгольцу – п.п. 7, 8, 9, 10.
Протокол № 152 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.1.1934, – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 166–167.
С весны 1933 г. советская дипломатия и политическое руководство с возрастающей тревогой следили за переменами в положении балтийских государств, которые рассматривались как первоочередной объект германской и национал-социалистической экспансии. Наряду с международно-политическими акциями (заключение Лондонских конвенций об определении агрессии и др.), Москва наметила некоторые шаги по хозяйственному сближению со странами Прибалтики[1419] и вступила в консультации с Польшей о совместном противостоянии действиям по подрыву независимого существования малых балтийских государств и Финляндии.
В регионе развивается процесс «переоценки всех ценностей и проверки того, что прежде всегда считалось непреложным», резюмировал член Коллегии НКИД Б.С. Стомоняков в ноябре 1933 г., особо отмечая «неприятную» тенденцию «роста влияния Германии вследствие поворота к ней Крестьянского союза в Латвии и аграриев в Эстонии, заинтересованных жизненно в германском рынке»[1420]. Месяц спустя в письме полпреду в Риге он повторял: «Поскольку во внешней политике прибалтийских государств, несомненно, происходят новые процессы, сдвиги и поиски новых путей, – мы все должны внимательным образом собирать информацию, чтобы не быть застигнутыми врасплох какими-нибудь неожиданностями. В настоящее время ни в чем нельзя быть уверенным и теперь, больше чем когда бы то ни было, предубежденность в отношении тех или иных политических концепций может только повредить правильной оценке ситуации и принятию правильных решений»[1421]. Действительно, к середине января 1934 г. стало очевидным, что возобновился приостановившийся в последние недели 1933 г. процесс нормализации отношений между Варшавой и Берлином (оценивавшийся в Москве, как «польско-германское сближение» или, по меньшей мере, как «зигзаг польской политики»[1422]), тогда как перспектива польско-советской декларации о Прибалтике, с 3 января обсуждавшаяся европейской печатью, с каждым днем становилась все более иллюзорной. В середине декабря 1933 г. Политбюро приняло решение о вступлении в переговоры с Францией с целью заключения соглашения «о взаимной защите», участниками которого должны были стать и все четыре государства восточной Балтии[1423]. В январе 1934 г. эти переговоры по существу не начались, и никто не мог предсказать, когда и чем они завершатся.
С другой стороны, тревога традиционных национальных элит из-за усиления радикальных (в том числе, прогерманских группировок) и новых угроз безопасному существованию малых стран открывала перед СССР дополнительные возможности. Во всех прибалтийских столицах с опасением отнеслись к советскому и польскому демаршу относительно декларации двух держав в пользу независимости стран региона, подозревая, что дело может закончиться установлением советско-польского протектората[1424]. Вместе с усиливающейся уклончивостью Польши, эти сомнения и страхи подталкивали СССР к самостоятельному выступлению в роли не только сторонника, но и защитника сохранения статус-кво в восточной Балтии. Уже в конце декабря 1933 г. в докладе ЦИК СССР нарком М.М. Литвинов, вслед за привычным утверждением, что Финляндия, Эстония, Латвия и Литва «все больше проникаются убеждением в нашем абсолютном миролюбии, доброжелательности к ним и заинтересованности в сохранении ими полной экономической и политической независимости», с небывалой заботливостью заверил балтийских соседей: «Но мы не только заинтересованы, но и озабочены этим. Мы следим не только за явлениями, представляющими для этих стран внешнюю опасность, но и за развитием внутренних политических процессов, которые могут способствовать потере или ослаблению независимости»[1425]. Заявка на новую роль Москвы в регионе некоторыми политическими кругами Таллина и Риги была воспринята как намек на возможность использования неопределенности внутриполитической ситуации в прибалтийских странах. По сообщению полпредства в Таллине, генерал Й. Лайдонер (один из претендентов на президентский пост), выступая в узком кругу, заявил, что «за словами т. Литвинова о внутреннем положении в Эстонии… кроется опасность оккупации Эстонии со стороны СССР в случае усиления движения ветеранов [вапсов. – Авт.] Поэтому генерал Лайдонер дал указание руководителям ветеранов иметь это ввиду и “не шуметь”»[1426]. В конце января 1934 г. министр иностранных дел Эстонии Ю. Сельямаа прямо заявил полпреду, что Москва должна быть заинтересована, чтобы К. Пятс стал президентом, попросив при этом ускорить передачу из советских архивов фотокопий документов о роли Пятса в национальном революционном движении в Эстонии[1427]. Остается не вполне понятным, насколько искренней была громко заявлявшаяся тревога советских руководителей относительно активизации правых и пронацистских сил в регионе[1428]. Во всяком случае, идя по этому пути, Москва получала шанс обрести новых друзей и укрепить свое влияние в восточной Балтии[1429].
Осуществление системы мер по активизации советской политики в Прибалтике, разработка которой велась под руководством Б.С. Стомонякова с осени 1933 г., превращалось в масштабную и неотложную задачу. Уже в начале октября Стомоняков готовил к постановке в ближайшее время перед Коллегией НКИД и в «правительстве» вопрос «о нашей экономической политике в Прибалтике в период второй пятилетки» (необходимость этого объяснялась усилением активности Англии и Германии)[1430]. В октябре-декабре в 1 Западном отделе НКИД активно обсуждалась программа развития культурных контактов с прибалтийскими странами. Одновременно изучались возможности укрепления политических связей с прибалтийскими государствами (в частности, осенью 1933 г. прорабатывался вопрос о приглашении в Москву начальника обороны края Балиса Гедрайтиса и других деятелей Литвы)[1431]. Судя по всему, к концу декабря 1933 г. Б.С. Стомоняков располагал полностью разработанной программой; 7 января 1934 г. он сообщал, что внесенные им предложения приняты Коллегией НКИД и передаются на обсуждение «сессии»[1432]. Вероятно, они вносились в Политбюро в расчете, на рассмотрение их на заседании 10 января. Однако «инстанция» перенесла очередное заседание на 20 января[1433] и приняла предложения НКИД опросом. Возможно, причиной этого явилась занятость руководителей ЦК и организационная суета перед началом открывавшегося 26 января «съезда победителей».
Затруднительно определить, были ли эти предложения подвергнуты изменениям при рассмотрении в Коллегии НКИД. Однако несомненно, что Политбюро внесло в представленную программу коррективы, одобрив ее «в основном»[1434]. Главное из «политических мероприятий» – приглашение в СССР «лидеров» четырех балтийских стран, ни один из которых в этом качестве прежде не посещал Советский Союз, было «отложено». Как это нередко случалось, «откладывание» граничило со «снятием вопроса» (впервые главы правительств прибалтийских государств посетили Москву в 1939–1940 гг.). Под «лидерами», как показывает упоминание об «ответных визитах» т. Литвинова, могли пониматься и министры иностранных дел Финляндии, Латвии, Эстонии и Литвы. Однако даже в феврале 1934 г. Стомоняков о возможности их приглашения отзывался как о сырой идее. Несомненно, неторопливость в вопросе с приглашениями «лидеров» объяснялась внутриполитическими процессами в Эстонии и Латвии, которые зимой 1934 г. приобрели такой характер, что становился актуальным вопрос о возможности быстрых радикальных политических перемен. (Правда, с подачи латвийского посланника А. Бильманиса 17 января НКИД предложил полпредам в Стокгольме и Хельсинки прозондировать возможность заезда в Москву министра иностранных дел Латвии В. Салнайса, возвращавшегося из Швеции через Ленинград; Салнайс отклонил предложение, сославшись на необходимость присутствовать на открытии сессии сейма)[1435]. Вопрос о приглашении министров иностранных дел стал активно обсуждаться в НКИД лишь с марта 1934 г. В итоге главы внешнеполитических ведомств Эстонии и Литвы совершили официальные поездки в Москву в конце июля – начале августа; Рига не приняла тогда приглашения.
Неопределенность внутриполитической ситуации в Эстонии и Латвии отразилась в расплывчатости поручения о приглашении в СССР «политических и общественных деятелей этих государств»[1436]. Неясно, кого из руководителей политических партий Финляндии намеревались пригласить приехать в СССР. В декабре 1933 г. НКИД обращался в ОГПУ с запросом дать свое заключение на возможность приезда в Ленинград крупного деятеля прогрессивной партии, главного редактора столичной «Helsingin Sanomat» Эльяса Эркко. (ИНО ОГПУ не возражало; однако речь не шла о посещении Эркко Карелии)[1437].
С неопределенностью в вопросе о приглашении политических деятелей контрастирует четкость планов военных визитов, хотя вероятность осуществления их в ближайшем будущем была не велика. Москва могла быть уверена в благоприятном отклике на приглашение посетить СССР лишь литовских военных. В конце декабря 1933 г. литовский посланник предлагал «установление контакта между литовской армией и Красной армией с тем, чтобы последняя интересовалась бы и была в курсе оборонительных возможностей Литвы»[1438]. Из литовских военных деятелей в Москве поначалу собирались пригласить «неизменно благоприятно относящегося к нам и влиятельного начальника обороны края» (военного министра) Балиса Гедрайтиса[1439]. К генералу Петрасу Кубелюнасу, судя по всему, в руководстве РККА относились с меньшими симпатиями (когда в мае 1933 г. дебатировался вопрос о приглашении на маневры литовской военной делегации, Стомоняков выражал сомнения в том, что Ворошилов одобрит приглашение начальника генерального штаба)[1440]. Несмотря на санкционирование «инстанцией» приглашения П. Кубелюнаса, НКИД стремился отложить визит генерала, поскольку, после приезда в Москву Ю. Бека, приезд начальника литовского генштаба мог быть истолкован как антипольская и антигерманская манифестация[1441]. После попытки военного переворота в Литве (6–7 июня 1934 г.), к которой оказался причастен Кубелюнас, он был уволен в отставку, и прежнее приглашение потеряло смысл.
Если решение пригласить в Москву начальника генштаба Литвы являлось актом, направленным на развитие дружественных отношений между армиями двух стран, то идея посещения СССР группой латвийских военачальников знаменовала принципиально новый шаг в отношениях с Прибалтикой. (По этой причине в НКИД считали нежелательным посещение Кубелюнасом Москвы одновременно с начальником генштаба Латвии Гартманом[1442] или сразу после его визита, что способствовало фактической отмене приезда литовского генерала). В этом отношении согласие Политбюро подтверждало линию, намеченную постановлением о визите в СССР представителей латвийских ВВС и о назначении советского военного атташе в Ригу после пятилетнего перерыва[1443]. Упомянутый в новом решении генерал Мартине Хартманис (Хартман, Гартман) с января 1934 г. занимал пост начальника генерального штаба. В Москве, надо думать, памятовали о его родственных отношениях с лидером Крестьянского союза К. Ульманисом, который (по выражению первого секретаря полпредства), таким образом «прибрал сильнее к рукам генштаб». 22 марта 1934 г. посланник Латвии А. Бильманис сообщил НКИД, что М. Хартманис, в принципе, согласен приехать в Советский Союз, но желал бы совместить свой приезд с поездкой кого-нибудь еще из начальников генеральных штабов Балтийских государств (тем самым, латыши намекали на желательность приглашения в Москву и начальника штаба эстонской армии Реека)[1444]. Приезд Хартманиса был запланирован на конец апреля – начало мая, однако, поездка сорвалась (как считал Стомоняков, отчасти из-за прямолинейности военного атташе в Риге Сухорукова, который «немного форсировал события и тем самым «вызвал настороженность у недоверчивых латышей»). 15 мая К. Ульманис совершил государственный переворот, существенно повлиявший и на советско-латвийские отношения: главный ориентир внешней политики Латвии начал смещаться в сторону Германии. К тому же, Хартманису пришлось перенести болезненную хирургическую операцию. Сроки его визита были вновь перенесены (с конца июля – начала августа 1934 г. на 1935 г., а затем еще на год).
Руководителей эстонской армии в Москву приглашать пока не собирались. В январе 1934 г. внутриполитическая ситуация в Эстонии была настолько сложной, что никто не мог сказать, состоятся ли после референдума (на котором получил одобрение предложенный вапсами проект конституции) выборы первого президента страны. Весь дипломатический корпус в Таллине гадал, договорятся ли между собой К. Пятс и Й. Лайдонер, что могло бы воспрепятствовать избранию кандидата вапсов генерала Андреса Ларка. В возможность совершения Пятсом государственного переворота верили немногие. При любом исходе президентских выборов перестановки в составе высшего командования были неизбежны – начальник штаба армии генерал Юхан Тырванд не устраивал никого из возможных победителей. Другим мотивом умолчания о военных деятелях Эстонии в «прибалтийской программе Политбюро» могло явиться традиционное предубеждение, вызывавшееся тесными связями между вооруженными силами Эстонии, Польши и Финляндии.
Попытка внести плановое начало в торговые сношения с Прибалтикой и увязать их с политическими инициативами обернулась «уравнительным подходом» к государствам региона, что, вероятно, явилось результатом обсуждения предложений НКИД в ЦК ВКП(б) (или их оценки наркоматом внешней торговли). Предложение НКИД сосредоточиться на закупках преимущественно сельскохозяйственных продуктов[1445] не нашло отчетливого выражения в постановлении Политбюро, сохранившем определение номенклатуры за НКВТ (неясно, кому именно «тов. Розенгольцу» поручалось «предоставить номенклатуру этих товаров» и подразумевало ли это консультации с Наркоминделом). Как и в 1932–1933 гг. особое внимание Политбюро проявило к торговым отношениям с Латвией: к работе привлекался нарком снабжения А.И. Микоян, ее результаты надлежало согласовать с НКИД (характерно, что традиционный оппонент Розенгольца Стомоняков был заменен руководителем наркомата).
В действительности, в первом полугодии 1934 г. увеличение объемов закупок продовольствия произошло лишь в торговле с Финляндией, и то благодаря способности торгпредства выдать дополнительные заказы за счет выручки от продажи принадлежащего СССР здания в Хельсинки[1446]. Полностью оправдался прогноз Стомонякова, сделанный им еще в конце 1933 г. в письмах полпредам в Риге, Таллине и Каунасе, предвидевшего проблемы с предоставлением крупных заказов прибалтийским государствам и предлагавшего «попридержать» имеющиеся, чтобы приступить к их размещению позднее.
План «мероприятий по общественно-культурной линии» не выходил за рамки традиционной советской практики организации «культурного сближения» (наподобие того, которое в 1933–1934 гг. проводилось в отношении Польши). Своеобразие намеченных акций состояло преимущественно в утверждении Политбюро характерных для работы ВОКСа планов (впрочем, без свойственных им дат проведения мероприятий) и их общерегиональном масштабе. Новым элементом являлась и организационная директива Секретариату (проанализировать ее исполнение на доступном материале не удалось). Стомоняков не изменил своей резко отрицательной позиции по отношению к предложению полпредства в Хельсинки о создании Общества друзей СССР в Финляндии[1447] и не включил этот пункт в предлагавшуюся программу мер, хотя несколькими месяцами ранее сам затрагивал вопрос об «оживлении идеи создания общества сближения с СССР»[1448].
Инициатива поездки в СССР финских журналистов исходила от шефа отдела печати МИД Финляндии К.Н. Рантакари и с самого начала приветствовалась НКИД[1449]. Сомнения вызывали лишь сроки ее осуществления (до обсуждения на Коллегии НКИД поездка журналистов не увязывалась с приглашением политических деятелей). Официальное приглашение финским журналистам было направлено от имени председателя Журнально-газетного объединения М.Е. Кольцова.
5 апреля в Ленинград прибыла группа из 22 человек. Помимо Рантакари, в нее вошли председатель Союза журналистов Финляндии Ю. Сойни, директор Финляндского бюро печати (телеграфное агентство Финляндии) Берг, главные редакторы газет А. Аалтонен («Kansan ty?»), А. Андерсон («Hufvudstadsbladet»), Бруммер («Karjala»), Инкеройнен («Kauppalehti»), депутат парламента Карьялайнен («Lapin kansa»), Ф. Керянен («Etel? Suomen sanomat»), А. Килпи («Suomen sosiaalidemokratti»), Клемола («Lahti»), Коскикаллио («Maaseudun tulevaisuus»), депутаты парламента Тайвола («Turun sanomat») и З. Ханнула («Pohjolan sanomat». Эта авторитетная делегация побывала в Москве и на Украине (включая Днепрогэс) и 17 апреля вернулась на родину.
На смену ей 20 апреля прибыла делегация представителей эстонской прессы – директор Эстонского телеграфного агентства Корнель, редактор «Vaba maa» Лааман, ответственный редактор «P?evaleht» Таммер, корреспонденты других газет. (В отношении приглашения эстонских журналистов (как и военных деятелей) в НКИД имелись некоторые колебания, вызванные ожиданием победы вапсов на выборах Главы государства (22–23 апреля) и Государственного собрания (29–30 апреля). Соглашаясь с мнением руководства, что ради политического эффекта приезд журналистов лучше приурочить к 1 мая, полпред СССР в Таллине А.М. Устинов, тем не менее, советовал организовать поездку в более ранние сроки (до проведения выборов)[1450].
21 апреля в Москве приветствовали латвийских журналистов (директор Латвийского телеграфного агентства К. Розе, первый секретарь отдела прессы МИД В. Янкавс, председатель союза журналистов и писателей Я. Париетис, представители различных латвийских газет – Я. Озолс, К. Скальбе, Э. Вирза, О. Лиепиньш, А. Циелавс и др.) За исключением экскурсий по Москве, в дальнейшей поездке по СССР (Харьков и Крым) эстонская и латвийская делегации одновременно посещали одни и те же «объекты социалистического строительства». К 1 мая обе группы вернулись в Москву, а 4 мая отбыли из Ленинграда – соответственно в Таллин и Ригу. Тем временем в СССР уже находилась прибывшая 29 апреля группа литовских журналистов (директор Литовского телеграфного агентства (Эльта) Тураускас, представитель военной прессы Степонайтис, а также редактора и корреспонденты ряда газет: Герутис, Кардялис, Гружас, Рубинштейнас и др.) Программа поездки по территории СССР отличалась от программы латвийской и эстонской групп лишь посещением Ростова-на-Дону (Москва желала увеличить экспорт в Литву агрегатов «Ростсельмаша»). Оценить политический эффект от этих «экскурсий» по Советскому Союзу крайне затруднительно, в случае с латвийской делегацией он был ничтожен: через неделю после ее возвращения Ульманис совершил государственный переворот и ввел жесткую цензуру печати.
Из трех упомянутых финских ученых предписание об избрании в АН СССР в 1934 г. было выполнено лишь в отношении профессора В. Таннера[1451]. В Москве были признательны ему, за обращение (первым среди иностранных ученых) с просьбой принять участие в советской научной экспедиции на Землю Франца-Иосифа, на которую продолжала претендовать Норвегия: обращение крупного финского ученого-географа означало своеобразное общественное признание суверенитета СССР над этим островом[1452]. О доверии к Таннеру «компетентных органов» свидетельствует выданное ему в 1928 г. разрешение ОГПУ углубляться на советскую территорию для проведения геолого-географических изысканий в районе Печенги[1453].
В решении Политбюро нашло изменение прежней позиции политического руководства в отношении приглашения делегации финских писателей («и им подобных» делегаций)[1454]; теперь их приезд считался желательным. Запланированная выставка советской графики экспонировалась в Финляндии на протяжении марта 1934 г., затем была перевезена в Таллин, где на ее открытии присутствовал Глава государства К. Пятс, к 1 мая экспозиция была перевезена в Тарту. Удалась и другая намеченная пропагандистская акция – 29 марта в присутствии министра просвещения Финляндии О. Мантере и полпреда Б.Е. Штейна командированный профессор Пинкевич (ректор 2-го МГУ) прочел финской аудитории доклад о системе народного образования в СССР.
Проведение в Москве выставки латвийского искусства («Рижская группа художников», «Независимые художники» и «Латвийские художники»), по времени совпало с переворотом К. Ульманиса и наметившимся серьезным изменением внешнеполитического курса Риги. Это свело политические дивиденды от «мероприятия» к нулю и повлияло на оценку латвийского искусства официальной критикой. Отметив как достоинство полное отсутствие мистических и «заумных сюрреалистических мотивов» и указав на превосходство советского искусства (латвийская живопись не развертывает «широких эпических полотен и не воодушевляет на героические подвиги»; «требования живописной тренировки глаза и технического совершенства кисти» стали для нее «высшими и единственными» законами»), критика провидела «при новейшем государственном курсе Латвии» следующие «вероятные вехи развития ее искусства: «национализм, насильственное насаждение патриотической патриархальной самобытности»[1455].
Независимо от того, в какой мере были реализованы замыслы этих и других «мероприятий по общественно-культурной линии», не может не вызывать удивление как их запоздалость с точки зрения долговременной работы по завоеванию симпатий к СССР, российской культуре и т. д., так и несоответствие этих стереотипных акций вызовам 1934 г., когда прибалтийские государства оказались перед одним из важнейших со времени обретения независимости выбором будущего пути. Хотя постановление 17 января не исчерпывало начатой Москвой «активизации» своей политики в Прибалтике[1456], крупнейшие козыри – установление прямого контакта советского руководства с политическими «лидерами государств Балтии и военачальниками, резкое увеличение заказов и придание им устойчивого, если не долгосрочного, характера – Кремль не смог или не пожелал использовать.
19 января 1934 г.
Опросом членов Политбюро
215/196. – О воздушной линии Москва – Варшава.
Вопрос снять.
Протокол № 152 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.1.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 937. Л. 46.
В ноябре 1933 г. переговоры об установлении прямого авиасообщения между СССР и Польшей были прерваны[1457]. Согласно польской интерпретации, их возобновлению в декабре 1933 г. препятствовало «замедление» ответа со стороны СССР на сделанное ранее компромиссное предложение о создании единого административного центра авиалинии без наделения его правами смешанного общества[1458]. В 1 Западном отделе НКИД полагали, что «необходимо добиться сдвига в этом деле путем эвентуальных уступок Польше» (помета на документе свидетельствует о том, что в январе 1934 г. намечалось «совещание» на эту тему члена Коллегии НКИД Стомонякова и начальника Главного управления ГВФ Уншлихта; состоялось ли оно и каковы были результаты межведомственного обмена мнениями, установить не удалось)[1459].
Между тем, политические обстоятельства к рубежу 1933/1934 гг. существенно изменились по сравнению с летом 1933 г., когда в политических и военных кругах обеих стран возобновилось обсуждение проекта прямого воздушного сообщения между Польшей и СССР. Руководство НКИД продолжало считать необходимым активизацию сотрудничества с Польшей в различных областях, 20 января 1934 г. Коллегия утвердила для внесению «в сессию» предложения о расширении военных контактов, заключении джентльменского соглашения о взаимной информации в отношении Германии и иных шагах навстречу Варшаве. Постановление Политбюро, вероятно, явилось реакцией на одно из многочисленных обращений НКИД конца 1933-го – начала 1934 г. о развитии советско-польского сотрудничества[1460].
Большинство обсуждавшихся с весны 1933 г. акций по двустороннему сближению были блокированы Кремлем без принятия официальных постановлений. В связи с переговорами о досрочном продлении советско-польского пакта ненападения, Политбюро санкционировало некоторые из намеченных ранее соглашений, однако крупнейшие из них (торговый договор, авиационная конвенция) поддержки ЦК ВКП(б) не получили.
В обращении к руководству ЦК ВКП(б) в мае 1934 г. Литвинов напомнил об инициативах, выдвинутых как польским правительством, так и советскими органами (НКИД и ВОКС), на осуществление которых не было получено санкции высшего политического руководства. Отдельно от других вопросов, по которым нарком просил принять положительное решение, фигурировала проблема советско-польского авиационного сообщения («Кроме перечисленных вопросов, остается вопрос о заключении воздушной конвенции, который представляет наибольший интерес для Польши»[1461]). Вероятно, у Литвинова были основания полагать, что согласие Сталина и его коллег на возвращение к переговорам на эту тему маловероятно. Так и произошло; январское постановление осталось в силе, и проект установления воздушного сообщения не был реализован ни на двусторонней, ни на трехсторонней (с участием Франции) основе.
9 июля 1935 г. поверенный в делах Польши в СССР известил НКИД, что польское правительство «берет обратно свой проект авиационной конвенции, врученный нам осенью 1933 г.»[1462]. В 1936 г. министерство иностранных дел и министерство коммуникации Польши вернулись к проблеме прямого авиасообщения между СССР и Польшей, исходя из того, что его отсутствие наносит ущерб политическим интересам обеих стран[1463]. В марте 1937 г. посольство Польши в Москве передало НКИД официальное предложение о возобновлении переговоров об организации воздушного сообщения между Варшавой и Москвой, старательно обходя при этом главное затруднение в переговорах 1933 г. – проблему определения организационной формы сотрудничества авиалиний «Lot» с «Аэрофлотом»[1464]. Новый раунд дискуссий также не привел к заключению соответствующего соглашения.
5 февраля 1934 г.
Опросом членов Политбюро
79. – Об импорте из Эстонии.
Утвердить следующий план импорта из Эстонии на I квартал 1934 г.
картофеля – 35 тыс. руб.
рогатый скот (голландский и красный датский) – 95 ««
свиньи – 30 ««
Трикотаж – 10 ««
Кожа подошвенная – 15 ««
опоек – 15 ««
_____________________________
200 тыс. руб.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Рудзутаку.
Протокол № 153 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) (решения за время с 21.1. по 10.2.1934) – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 187.
Данное постановление Политбюро, принятое в развитие решения от 17 января, скорее всего, было приурочено к предполагавшемуся в конце февраля – начале марта 1934 г. визиту главы НКВТ А.П. Розенгольца в Эстонию. Исходя из принятого Политбюро решения, полпред Устинов дал 17 февраля интервью «P?evaleht», в котором заверял в готовности СССР увеличить свой сельскохозяйственный импорт из Эстонии. Однако в конце февраля выяснилось, что в Таллине желали бы отсрочить приезд наркома. Министр народного хозяйства Эстонии Сельтер считал, что этот визит был бы более уместен тогда, когда сказался бы эффект от сделок за 4-й квартал 1933 г.[1465] Вероятнее всего, приезд А.П. Розенгольца стал нежелателен для эстонского правительства по внутриполитическим соображениям. Убедительную победу на предстоящих президентских и парламентских выборах в Эстонии предрекали вапсам, отношение которых и поддерживавших их слоев населения к Советской России, к коммунистам было резко негативным[1466]. В правительстве Пятса, судя по всему, были как сторонники того, чтобы использовать отношения с СССР в ходе предвыборной борьбы, так и противники. То, что Сельтер руководствовался именно этими соображениями, косвенно подтверждает мнение его коллеги – министра земледелия Тальца, заявившего в беседе с советским дипломатом, что он лично очень доволен советскими закупками в Эстонии[1467]. Если Сельтер был против приезда А.П. Розенгольца, то министр иностранных дел Ю. Сельямаа в феврале-марте 1934 г. добивался приезда в Таллин Карла Радека[1468]. Совершенный в марте Пятсом и Лайдонером государственный переворот сделал неактуальными оба этих визита.
19 февраля 1934 г.
Опросом членов Политбюро
65/45. – О польско-германском соглашении по ржи.
Разрешить Наркомвнешторгу вступить в переговоры с поляками и немцами о присоединении СССР к польско-германскому соглашению по ржи.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Крестинскому.
Протокол № 1 (особый заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.2.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. On. 162. Д. 16. Л. 3.
Впервые вопрос об участии СССР в конвенции об экспорте ржи был рассмотрен в связи с подготовкой германо-польского соглашения о ржи, заключенного 17 февраля 1930 г. Неделей ранее Политбюро утвердило постановление «О ржи»: «Принять предложение т. Микояна насчет ржи»[1469]. Смысл и последствия этого постановления выявить не удалось.
Осенью 1933 г. польские представители обратились к Германии, а затем к СССР с предложением заключить соглашение о координации ржаного экспорта[1470]. 20 ноября 1933 г. Коллегия НКИД одобрила внесенный Экономической частью наркомата «проект ответа на запрос поляков». При передаче его польскому коммерческому атташе (советнику) в Москве А. Жмигродскому (и Риттеру в Берлине) НКИД поручал «подчеркнуть, что мы не связываем себя в отношении нашего окончательного присоединения к соглашению»[1471]. После состоявшихся на рубеже 1933–1934 гг. переговоров руководство НКИД сочло «желательным» присоединение СССР к польско-германскому ржаному соглашению «в случае отсутствия у НКВТ серьезных возражений экономического порядка»[1472]. Неизвестно, каким ведомством этот вопрос был внесен на утверждение Политбюро, судя по формулировке постановления, НКВТ не возражал против начала трехсторонних переговоров.
В последующие два месяца дискуссии с польской стороной, которые вел в Москве председатель объединения «Экспортхлеб» А.А. Киссин, не вышли за рамки предварительной стадии. В начале апреля 1934 г., подтвердив позитивное отношение советского правительства к соглашению об экспорте ржи («постольку, поскольку оно действительно должно было привести к повышению цен, без ущерба, однако, для других элементов, составляющих эту задачу»), Киссин указал на беспокоящие советскую сторону аспекты такого соглашения. Он выразил сомнение в эффективности трехстороннего соглашения, за рамками которого останется Венгрия, в 1933 г. экспортировавшая около 300 тыс. тонн ржи. Во-вторых, «учитывая географическое положение рынков, Советы очень сильно держатся за свои права, прежде всего, на финляндском рынке, и ни в коей мере не намерены от них отказываться». В-третьих, ссылаясь на немецко-голландское компенсационное соглашение, создающее Германии преимущества при экспорте ржи, советский представитель считал нужным рассмотреть способы обеспечения равенства всех экспортеров. До прояснения этих проблем, заявил Киссин Жмигродскому, СССР не может принять окончательного решения о присоединении к немецко-польской ржаной конвенции. Стороны договорились начать официальные переговоры в Варшаве в конце апреля[1473].
Исход трехсторонних переговоров, как и содержание принятого полутора годами позже решения Политбюро «О польско-германском ржаном соглашении»[1474], определить не удалось.
17 марта 1934 г.
Опросом членов Политбюро
161/141. – О литературной конвенции с Польшей.
Разрешить НКИД вступить в переговоры и заключить литературную конвенцию с Польшей.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 3 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.3.1934.– РГАСПИ. Ф. 17. On.162. Д. 16. Л. 19.
Предположительно, это постановление явилось реакцией на записку М.М. Литвинова от 16 марта 1934 г. (№ 9608), в которой он просил руководство ЦК открыть возможность для осуществления инициатив, ранее обсуждавшихся представителями СССР и Польши (торговый договор и др.). Текст записки не выявлен.
К середине 30-х гг. двустороннее урегулирование проблемы авторских прав при публикации в СССР и Польше переводной литературы отвечало, в первую очередь, советским интересам (из 567 произведений, опубликованных в СССР в переводе с иностранных языков в 1933 г., только одно принадлежало современному польскому автору, в других странах было опубликовано 67 таких произведений)[1475].
Сведений о заключении советско-польской литературной конвенции не обнаружено.
18 марта 1934 г.
Опросом членов Политбюро
175/155. – О Прибалтике.
Принять предложение т. Литвинова по его записке от 17.III. с.г. с поправкой т. Сталина.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 3 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.3.1934.– РГАСПИ. Ф. 17. On. 162. Д. 16. Л. 19.
М.М. Литвинов в конце февраля– начале апреля был болен гриппом и работал дома (принимал коллег и т. д.) В наркомате его замещал Н.Н. Крестинский, этим объясняется адресация ему выписки из протокола Политбюро. Содержание обращения Литвинова в точности неизвестно, существо внесенных им предложений устанавливается по материалам НКИД.
Отказ Польши от совместной с СССР декларации о сохранении независимости прибалтийских государств (официально сообщенный НКИД 3 февраля) оказался подкреплен нежеланием Ю. Бека продолжать обсуждение этой темы в московских беседах середины февраля. «Чрезвычайно характерно, – выражал распространенное мнение Б.С. Стомоняков, – что, приехав в Москву, Бек не только решительно и окончательно отклонил какую-либо совместную акцию с нами для защиты независимости Прибалтики, но – что является еще более показательным – не поднял вопроса о конкретном сотрудничестве в области разоружения»[1476]. Единственным существенным результатом визита польского министра в СССР являлась договоренность о продлении советско-польского пакта ненападения на десятилетний срок. После возвращения Бека в Варшаву в двусторонних отношениях наступила пауза. Анализ польской общественной жизни приводил НКИД к заключению, что «мы имеем дело с директивой [Пилсудского. – Авт.] задержать дальнейшее сближение с СССР»[1477]. «Отсутствие до сих пор официального ответа поль[ского] пра[вительства] на предложение тов. Литвинова, – сообщал Стомоняков полпреду в Варшаве в середине марта, – показывает, что поляки не считают даже нужным особенно церемониться с нами. Мы считаем, однако, нецелесообразным проявлять дальше нашу заинтересованность в этом деле»[1478].
Советская дипломатия, таким образом, стояла перед необходимостью как адаптировать свою линию в отношении стран Прибалтики к ситуации сложившейся после подписания 26 января 1934 г. польско-германского соглашения о неприменении силы в двусторонних отношениях и срыва проекта советско-польской декларации о Прибалтике, так и изыскать способ оказания давления на Варшаву, выказывавшей предпочтение сближению к Берлином. Эта непростая задача облегчалась для советской дипломатии тем, что Рига, Каунас и Таллин разделяли беспокойство Москвы относительно последствий польско-германской декларации. Являясь декларацией, а не договором, она не содержала «обычной клаузулы об утрате пактом силы или о праве одной из сторон отказаться от пакта, если другая сторона нападет на какое-нибудь третье государство». «Невозможно представить себе, чтобы опущение этой клаузулы не имело специального значения… – выражал Стомоняков преобладавшее в европейских политических кругах мнение, – Это означает, что Польша будет соблюдать нейтралитет не только в случае германского вторжения в Австрию, но также и при германской агрессии против Литвы и вообще на Восток. Разногласия, которые могли бы при этом возникнуть, между Польшей и Германией, Польша обязана была бы на основе этого договора урегулировать путем переговоров с Германией»[1479].
В связи с этим в НКИД родилась идея предложить Литве, Латвии и Эстонии продлить срок действия двусторонних пактов ненападения, заключенных ими с СССР в 1932 г., на десятилетний срок. Судя по имеющимся материалам, именно эта инициатива была выдвинута М.М. Литвиновым в упомянутой записке от 17 марта (НКИД ходатайствует в правительстве о разрешении сделать предложения прибалтийским государствам о продлении пактов и о визите в Москву министров иностранных дел для подписания соответствующих протоколов, сообщал член Коллегии в Ковно)[1480]. Стомоняков ожидал решения «инстанции» в ближайшие дни; реакция Сталина последовала без всякого промедления. О характере внесенной им «поправки пока остается лишь догадываться. Несомненно, однако, что Генеральный секретарь пожелал выступить в роли соавтора этой обреченной на успех инициативы.
Она была сопряжена с пересмотром советской позиции в отношении Малого прибалтийского блока (Латвия, Эстония, Литва). Отказ от настороженного отношения к нему Б.С. Стомоняков в конце февраля называл «сырой идеей»[1481], но в начале марта был уже готов разделить мнение полпреда в Каунасе о желательности одновременного приезда в Москву министров иностранных дел трех балтийских стран (что способствовало бы укреплению планов прибалтийского блока)[1482]. М.М. Литвинов считал более подходящим пригласить в начале глав МИДов Латвии и Эстонии и лишь затем – Литвы. Дискуссии на этот счет продолжались, и спустя месяц после рассматриваемого решения Политбюро, Стомоняков писал полпреду в Риге: «По вопросу о малом прибалтийском блоке у меня тоже уже возникли мысли о перемене нашего отношения к сближению Литвы с Латвией и Эстонией в связи с изменением в нашу пользу соотношения сил между СССР и Польшей в двух последних странах. Мы уже обсуждали этот вопрос на днях, но не пришли еще к решению… Нужна максимальная осторожность»[1483].
20—21 марта 1934 г. советские полпреды в Риге, Каунасе и Таллине передали предложение советской стороны о продлении пактов ненападения на 10 лет в соответствующие министерства иностранных дел. В отличие от переговоров с Польшей о пролонгации пакта ненападения, начатых 25 марта и сопровождавшихся напряженными спорами, согласование протоколов о продлении пактов с тремя балтийскими странами не встретило никаких затруднений, и 4 апреля 1934 г. эти документы были подписаны М.М. Литвиновым и посланниками Эстонии, Латвии и Литвы в Москве.
Одним из аспектов «предложения т. Литвинова» являлся вопрос о привлечении к этой акции Финляндии. 27 марта, после того, как Рига и Каунас дали согласие на продление пактов ненападения, полпред Б.Е. Штейн получил инструкции разъяснить, что «мы не сделали Финляндии одновременного предложения только потому, что не хотели ее ставить в затруднительное положение, как это имело место при предыдущих аналогичных акциях» (проявленная Москвой деликатность содержала мстительный намек на разглашение МИД Финляндии сообщенного ему плана прибалтийской декларации Польши и СССР). «Если финляндское правительство желает продления пакта, мы немедленно сделаем ему официальное предложение», – обещал Стомоняков[1484]. Хельсинки было вынуждено поспешить, и 7 апреля Литвинов и Юрье-Коскинен подписали протокол о сохранении в силе советско-финляндского пакта ненападения вплоть до 31 декабря 1945 г.
26 марта 1934 г.
Опросом членов Политбюро
69/45. – О посольстве СССР в Варшаве.
Превратить нашу дипломатическую миссию в Варшаве в посольство с назначением туда послом т. Давтяна.
Протокол № 4 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 29.3.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 942. Л. 13.
Предложение о придании миссиям обеих стран ранга «амбасад» неоднократно выдвигалось посланником С. Патеком и представителями МИД Польши. В начале 1930 г. Коллегия НКИД внесла соответствующее представление в Политбюро, которое постановило: «отложить»[1485].
К началу 1934 г. в НКИД полагали, что повышение ранга представителей в дипломатических контактах с Польшей окончательно назрело, тем более, что со смягчением польско-германских противоречий открывалась перспектива аналогичной договоренности между Варшавой и Берлином. В связи с ожидаемым визитом в СССР министра иностранных дел Польши, констатировали в 1 Западном отделе, «этот вопрос необходимо в срочном порядке протолкнуть в соответствующих инстанциях»[1486].
Действительно, в беседе с М.М. Литвиновым 14 февраля 1934 г. Ю. Бек «поднял вопрос о превращении дипломатических миссий в посольства». Нарком заверил, что «это предложение с нашей стороны препятствий не встретит, что об этом можно будет упомянуть в коммюнике, хотя нам нужно будет некоторое время для технической подготовки переименования нашего полпредства»[1487]. Таким образом, за полтора месяца до опроса членов Политбюро решение было фактически принято (и обнародовано в коммюнике об итогах визита Ю. Бека в Москву), однако руководство ЦК предпочло официально с ним не солидаризироваться.
Откладывание этой акции в последующие шесть недель вызывалось, вероятно, двумя обстоятельствами – тактической линией Москвы, которая в марте 1934 г. активно зондировала позицию Германии и балтийских стран и откладывала разрешение интересующих Польшу вопросов до внесения ею предложений о порядке продления советско-польского ненападения на десятилетний срок[1488] и подбором кандидата на пост первого посла СССР в Польше[1489]. Официальное объяснение задержки с санкционированием нового статуса советского представительства, данное Стомоняковым польскому посланнику («оформление этого вопроса задержалось исключительно вследствие болезни т. Литвинова»)[1490] вряд ли выдерживает критику[1491].
27 марта 1934 г.
Опросом членов Политбюро
83/59 – О Польше.
а) до выяснения позиции Прибалтийских стран, оттянуть наш ответ Лукасевичу.
б) Принять предложение Польши об обмене флотскими визитами и о посылке летной эскадрильи в Польшу, а также об обмене визитами высших представителей военных ведомств.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Ворошилову.
Протокол № 4 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 29.3.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 29.
13—15 февраля 1934 г. состоялся первый визит польского министра иностранных дел в СССР. В ходе переговоров с Ю. Беком М.М. Литвинов предложил подумать о продлении советско-польского пакта ненападении, срок действия которого истекал в ноябре 1935 г., на десять лет. Выражая, в принципе, готовность на подписание такого акта, министр уклонился от выполнения пожелания Литвинова «увенчать этим актом» его пребывание в Москве. При последней встрече с Беком нарком сообщил ему, что «получил одобрение своего правительства» на свое предложение о продлении договора ненападения и оно может рассматриваться как официальное[1492]. Другой важный аспект пребывания полковника Бека в Москве состоял в удовлетворении «желания маршала продолжать контакт ответственных военных»[1493]. Министр встретился с высшим военным руководством (Ворошиловым, Тухачевским, Егоровым, Орловым, Буденным и др.), чему он придавал подчеркнуто большое значение[1494]. Еще ранее, исполнявший обязанности военного атташе Польши в СССР капитан Харланд передал в Отдел внешних сношений PBC СССР предложения «о дальнейшем развитии контакта между советскими и польскими военными», в частности об ответном визите в Польшу руководителя советской военной авиации Алксниса и об обмене специалистами по вопросам авиастроения (о чем говорилось еще при визите в Варшаву начальника ВВС УВО Ингауниса)[1495]. В протоколах Политбюро ни приглашение Ю. Бека в Москву, ни переговоры с ним (включая советскую инициативу о продлении пакта ненападения) не получили отражения.
20 февраля Ю. Лукасевич и М.М. Литвинов обсудили итоги поездки польского министра в Москву и вытекающие из нее практические шаги. Посланник дал понять, что Польша, неизменно отстаивавшая принцип одновременного политического соглашения СССР со всеми его западными соседями, может обусловить продление пакта ненападения с СССР продлением аналогичных советских пактов со странами Балтии, а также заключением советско-румынского договора. Одновременно он подтвердил заинтересованность Пилсудского и Бека в активизации контактов между армиями двух стран, в частности в прилете в Польшу советской эскадрильи (в качестве ответа на визит Л. Райского в ноябре 1933 г.) Воздерживаясь от реагирования на предложения о контактах между военными деятелями двух стран, Литвинов привел аргументы против увязки соглашения о продлении советско-польского пакта с отношениями между СССР и Румынией, Литвой, другими балтийскими странами[1496]. Четырьмя неделями позже он, однако, внес соответствующие предложения в Политбюро и получил его согласие[1497].
25 марта польский посланник официально представил члену Коллегии НКИД позицию своего правительства относительно продления пакта о ненападении. По существу советская сторона была поставлена перед выбором: согласиться на добавление к договору 1932 г., которым с 1935 г. он автоматически продлялся на неопределенное время, либо вступление в переговоры о новом десятилетнем сроке его действия при условии «синхронизации» пактов СССР с Эстонией, Латвией и Финляндией с продлеваемым советско-польским договором, а также согласия Москвы пересмотреть свой к польско-литовскому территориальному спору. Принятие первого варианта означало бы публичное унижение СССР, предложившим придать пакту ненападения с Польшей «возможно длительный характер» (подписанная 26 января 1934 г. польско-германская декларация о неприменении силы в двусторонних отношениях имела десятилетний срок действия). Выбор же в пользу переговоров о продлении договора на 10 лет, от чего Лукасевич «отговаривал» Стомонякова, ссылаясь на неизбежные «сложность и длительность таких переговоров», означало заранее ослабить переговорную позицию советской стороны и обречь ее на уступки в вопросах, касающихся политики СССР в Прибалтике[1498]. 20–21 марта полпреды СССР в Литве, Латвии и Эстонии предприняли демарши в пользу продления заключенных этими странами пактов с Советским Союзом, однако, к моменту обращения НКИД в Политбюро официальные ответы от них в Москве еще не получили[1499].
Одновременно, ссылаясь на договоренность между Ворошиловым и Беком во время его визита в Москву, Лукасевич поставил перед НКИД вопросы об организации и сроках ответного визита советского воздушного флота, обмене визитами военно-морских флотов и поездке в Польшу «одного из высших военачальников» СССР, за которой могло бы последовать посещение СССР заместителем военного министра Фабрициусом[1500]. Другие предложения о расширении военных связей (взаимные стажировки, приглашение «в Москву или на маневры» генералов Заморского и Ярнушкевича и т. д.)[1501] польский представитель не возобновлял.
Запись беседы Лукасевича со Стомоняковым была направлена Сталину, Молотову и Ворошилову (вероятно, с приложением инициативной записки НКИД). Одобренный ими маневр удался. Переговоры между Литвиновым и Лукасевичем об условиях пролонгации пакта ненападения были начаты лишь 2 апреля, когда обсуждение этой темы между СССР и балтийскими странами по существу закончилось. «Польша явно загнана нами в угол», – торжествовал нарком[1502]. 5 мая 1934 г. в Москве был подписан Протокол о продлении срока действия договора о ненападении между СССР и Польшей до 31 декабря 1945 г.
Вторая часть постановления Политбюро была реализована лишь отчасти (визиты «высших представителей военных ведомств» не состоялись ни в 1934 г, ни позднее).
9 апреля 1934 г.
Опросом членов Политбюро
130/112 – О торговле с Литвой.
Установить на II квартал 1934 г. план закупок в Литве за счет торгово-политического контингента в сумме 250 тыс. руб.
Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Молотову, Литвинову.
Протокол № 5 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.4.1934.– РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 36.
С конца 1933 г., из-за очередного обострения литовско-германских отношений в мемельском вопросе, экономическая ситуация в Литве стала ухудшаться. с целью оказания давления на Каунас, правительство Германии предприняло ряд экономико-политических мер (сокращение контингентов на импорт литовского масла, почти полное прекращение пограничного сообщения и др.) Литовское правительство рассчитывало, что, в связи с этим, СССР пойдет на некоторое увеличение своих закупок в Литве. 8 января 1934 г. у торгпреда Кушнера состоялась обстоятельная беседа с директором Торгового департамента министерства финансов Норкайтисом, который отметил, что в истекшем году дефицит торгового баланса Литвы в торговле с Советской Россией достиг 5 млн. лит, особенно его удручало то, что за последнее время Каунас вообще оставался в неведении относительно предполагаемых советских заказов. Литовская сторона готова была предоставить любые лицензии и пойти на создание привилегированного положения для экспорта любых советских товаров, но просила уже в январе осуществить закупки на 2 млн. лит. В противном случае выдача лицензий была бы прекращена[1503].
Обращения полпреда и торгпреда в Москву возымели лишь частичный эффект (Кушнеру было разрешено закупить на 150 тыс. руб. свиных туш)[1504], что не могло удовлетворить литовское правительство. Для того, чтобы лишить его возможности обвинять СССР в намеренном поддержании установившегося дисбаланса в торговле, НКВТ прибег к тактике, которую ранее практиковал в Латвии и Эстонии. «Выравнивание торгового баланса стало осуществляться за счет резкого сокращения советского экспорта. Полпред М. Карский был встревожен складывавшейся ситуацией, считая, что именно тактика НКВТ привела к тому, что в Литве уже внесены или будут внесены в ближайшем будущем в список контингентированных товаров все важнейшие статьи советского экспорта – нефтепродукты, мануфактура, металлоизделия и пр. Возникала реальная угроза, что контингенты по этим видам товаров окажутся в руках английских фирм[1505]. Обеспокоенность полпреда вызывало также то обстоятельство, что ситуация, сложившаяся после подписания польско-германского соглашения от 26 января, требовала активизации политики СССР в Прибалтике, включая Литву, а поскольку этого не происходило, то складывались предпосылки для восстановления нормальных отношений Каунаса с Варшавой либо с Берлином[1506].
Ситуация в сфере двусторонней торговли к концу зимы не претерпела изменений. В середине марта 1934 г. президент А. Сметона в беседе с Карским, касаясь трудного положения Литвы, особо подчеркнул, что его страна нуждается в поддержке СССР – политической (необходимо продемонстрировать дружеское отношение СССР к Литве), экономической (закупки в Литве на сумму в 20 млн. лит) и военной[1507]. Вопрос о закупках был поднят литовским президентом не случайно. К тому времени уже в течение более двух недель Карский и Кушнер вели в Каунасе неофициальные переговоры об урегулировании экономических отношений. По признанию Карского, советские предложения фактически ничего не давали Литве, за исключением «известной стабилизации и большей планомерности» в экспортно-импортных операциях. Литовское правительство на этих переговорах дало понять, что готово не засчитывать в баланс не только экспортируемый в Мемель советский лес, но и нефтепродукты, а также предлагало за частичную компенсацию 80 % нефтяного рынка Литвы[1508].
Можно предположить, что вопрос о торговле с Литвой был внесен в Политбюро Наркоминделом. 7 апреля в Наркоминделе стало известно, что глава НКВТ А.П. Розенгольц дал новому торгпреду в Каунасе Самарину директиву о приостановке переговоров по вопросу о заключении джентльменского соглашения о размерах импорта и экспорта (СССР неизменно отказывался вести переговоры о заключении торгового договора). Причины изменения позиции А.П. Розенгольца, по словам Б.С. Стомонякова, не были известны даже в аппарате НКВТ. Стомоняков считал наиболее вероятной причиной – вмешательство полпреда М.А. Карского в переговоры, которые вел с литовцами торгпред Кушнер[1509]. План закупок в Литве устанавливался по решению Политбюро «за счет торгово-политического контингента», иными словами, был обусловлен исключительно политическими мотивами (пятью днями ранее – был подписан протокол о продлении советско-литовского пакта о ненападении).
Однако выдача заказов даже на столь незначительную сумму, видимо, столкнулась с серьезными препятствиями. В конце апреля Карский докладывал в Москву, что все обещания о заказах остались на бумаге, в том числе и решение о закупке на 250 тыс. рублей во втором квартале[1510]. Только в конце июня 1934 г., когда в связи с переговорами о восточноевропейском пакте взаимопомощи и переговорами об образовании малого прибалтийского блока значение Литвы для СССР возросло, НКИД еще раз поставил вопрос об оказании ей экономической помощи[1511].
Заслуживает внимания и то, что в Москве не пошли на «задабривание» Каунаса накануне и после подписания советско-польского протокола от 5 мая (о пролонгации договора о ненападении), фактически аннулировавшего гарантии поддержки Литве в виленском вопросе, предоставленные нотой Г.В. Чичерина от 28 сентября 1926 г.[1512] Министр иностранных дел Д. Зауниус соглашался с оценкой происшедшего, которую высказывали в политических кругах Лондона: СССР оставляет Литву на произвол судьбы[1513]. На просьбу премьера Ю.Тубялиса оказать экономическую поддержку, высказанную в беседе с полпредом Карским, пришедшим сообщить о подписании протокола, полпред ничего конкретно сказать не мог, но сразу ответил категорическим отказом на предложение о приезде литовской экономической делегации в СССР[1514].
14 апреля 1934 г.
Опросом членов Политбюро
166/148 – Об обмене культурными ценностями с Польшей.
Не возражать против выдачи Польше в счет культурных ценностей по Рижскому договору 16-ти польских знамен, хранящихся в Ленинградском Артиллерийском музее.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Ворошилову.
Протокол № 5 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.4.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 38.
К апрелю 1934 г. практически завершила свою работу смешанная советско-польская Специальная комиссия, созданная в соответствии с XI статьей Рижского договора для удовлетворения взаимных претензий о передаче культурных ценностей. В письме наркому просвещения РСФСР Бубнову Стомоняков уведомил его об условиях соглашения с польской стороной (об эквиваленте за оставляемые в распоряжении Государственной публичной библиотеки и советских музеев инкунабулы, рукописи и знамена), а также о намеченной на середину апреля ликвидации Смешанной комиссии. Несмотря на отсутствие возражений по существу, А.С. Бубнов предложил Стомонякову и Литвинову «доложить об этом в инстанцию»[1515].
Вопросы обмена культурными ценностями, согласованные между НКИД и НКПросом, не стали предметом постановления Политбюро, и оно приняло решение лишь по одному (возможно, спорному) аспекту намеченного соглашения.
18 апреля 1934 г. в Ленинграде был подписан Заключительный протокол о завершении работ советско-польской комиссии и порядке урегулирования претензий сторон, не получивших разрешения в ходе ее десятилетней работы[1516].
15 апреля 1934 г.
Опросом членов Политбюро
210/192. – Об ответном визите во Францию, Польшу и Италию.
1) В ответ на визит на самолетах в СССР представителей Италии (29 г.), Франции и Польши (33 г.) НКВМ организовать ответные визиты отрядами самолетов – по три самолета Т.Б.3 в эти страны.
2) Во главе отрядов во Францию и Польшу (летят разновременно) послать тов. Хрипина, в Италию т. Меженинова.
3) визиты осуществить в июле – августе.
4) Принять к сведению, что весной прибывает с визитом в Ленинград польская морская эскадра. Предрешить ответный визит в Польшу нашей эскадры.
Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Крестинскому, Артузову.
Протокол № 5 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.4.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 39.
Принятое решение уточняло постановление об обмене военными визитами с Польшей[1517]. Ему предшествовало приглашение польского правительства, переданное в январе-феврале 1934 г. по военной и дипломатической линии. Согласно сообщению Ю. Лукасевича М.М. Литвинову, руководство НКВМ согласилось с предложением о том, что делегацию военной авиации, которая прибудет в Польшу с ответным визитом, должен возглавить начальник ВВС РККА Я.И. Алкснис и наметило ее прилет в Польшу на май 1934 г.[1518] Этот срок подразумевал возможность пребывания советской делегации в Варшаве во время национального праздника 3 мая, подобно тому, как делегация Л. Райского находилась в Москве во время празднования 7 ноября. Однако Политбюро не утвердило эти предварительные договоренности, установив иной срок визита и назначив руководителем делегации заместителя Алксниса – начальника штаба ВВС РККА В.В. Хрипина.
5 июня 1934 г. Политбюро вернулось к вопросу о руководителе советской авиационной делегации в Польшу. По всей вероятности, новое обращение одного из ведомств (вероятно, НКИД) в Политбюро было вызвано опасениями, что понижение уровня представительства до заместителя начальника ВВС вызовет дипломатические осложнения в отношениях с Польшей, поскольку ее делегацию, посетившую СССР в ноябре 1933 г., возглавлял глава военной авиации полковник Л. Райский. Опрос членов Политбюро 5 июня официально подтвердил решение от 15 апреля «о возглавлении посылаемых в Польшу и Францию отрядов самолетов тов. Хрипиным». Одновременно уточнялись ранее установленные сроки визитов. Вылет авиаотряда в Польшу был «ориентировочно» намечен на 25 июля (во Францию – на 10 августа)[1519]. 21 июня 1934 г. заведующий 1 Западным отделом НКИД Л.Э. Березов сообщил советнику польского посольства о том, что в ходе ответного визита советских летчиков делегацию будет возглавлять начальник штаба ВВС РККА В.В. Хрипин, а не начальник ВВС Я.И. Алкснис, как предполагалось ранее. Официальное объяснение состояло в том, что, по словам Ворошилова, в намеченное для визита время Алкснис будет загружен служебными обязанностями и не сможет покинуть СССР. По мнению польской миссии, назначение руководителем авиационной делегации Хрипина вызвано «попросту тем, что ген. Алкснис как человек очень простой, не знающий ни одного иностранного языка и не умеющий вести себя в обществе, не подходит для выполнения представительских функций», тогда как Хрипин, напротив, обладает всеми необходимыми для этого качествами. Посол Польши поэтому предлагал МИД не заострять внимания на то, что официальный ранг В.В. Хрипина ниже, чем у Л. Райского, возглавлявшего польскую авиационную делегацию в 1933 г.[1520] Несколько дней спустя через Политбюро опросом было проведено решение об изменении руководящего состава делегаций, направляемых в Польшу, Италию и Францию. Авиационную делегацию в Польшу поручалось возглавить Р.П. Эйдеману и В.В. Хрипину[1521]. Обстоятельства, по которым в руководство советской делегации был включен Председатель Центрального совета Осоавиахима, установить не удалось; возможно, это было предпринято во избежание упреков относительно пониженного уровня делегации и с учетом широкого военного кругозора Эйдемана. 15 июля ПБ назначило руководителем делегации «вместо т. Эйдемана» начальника 1 (оперативного) управления-заместителя начальника Штаба РККА С.А. Меженинова[1522].
Независимо от частных мотивов, приведших к определению уровня советской авиационной делегации, он явился индикатором ухудшения политических взаимоотношений, тем более, что параллельно было решено, что направляемую в Гдыню военно-морскую эскадру возглавит командующий Балтийским флотом, а не начальник ВМС РККА[1523]. К тому же, польские военные власти не проявляли заинтересованности в визите Эйдемана и Меженинова; единственным (кроме Алксниса) руководителем НКВМ приглашенным в Польшу был первый заместитель наркома М.Н. Тухачевский[1524]. В период между серединой апреля и концом июля первоначально задуманный (и фактически санкционированный Политбюро) характер делегации как чисто военной был изменен. В ее состав был включен начальник транспортной авиации Главного управления Гражданского воздушного флота Я. Анвельт, полет был совершен не на тяжелых бомбардировщиках ТБ-3, а на гражданских четырехмоторных монопланах АНТ-6. Оправдывая фактическую смену акцентов, советский официоз внес изменения в историю визита польской военной делегации в СССР, сообщив что ее возглавлял не только генерал Райский, но и начальник Гражданского воздушного флота Филиппович[1525]. (В действительности Ю. Филипович прибыл в Москву двумя неделями ранее Райского и в состав возглавляемой польской делегации не входил)[1526]. Несмотря на то, что в обеих странах весь воздушный флот находился под контролем соответствующих военных ведомств, внесение «гражданской» струи демонстративно ослабляло значимость визита советских летчиков как акции по установлению доверительных отношений между руководителями вооруженных сил СССР и Польши.
Назначение Меженинова главой авиационной делегации смягчало невыполнение обещанного мартовским решением Политбюро визита «высшего руководителя военного ведомства» (о чем 13 мая напомнил советским властям Ю. Лукасевич)[1527]. Поездка в Польшу наркома Ворошилова исключалась по соображениям «равенства чинов (пост военного министра занимал сам Пилсудский, об ответном визите которого в Москву не могло быть и речи). «Из военачальников может ехать только Тухачевский, – докладывал полпред. – Поездка другого товарища поляками будет воспринята плохо. Лучше тогда совсем никого не посылать»[1528].
Возглавляемая Межениновым делегация находилась в Польше с 28 июля по 1 августа. По оценке НКИД, польские власти принимали летчиков хорошо, однако польская пресса уделила этому визиту мало внимания[1529].
Предварительная договоренность об обмене военно-морскими визитами была достигнута по инициативе министра Ю. Бека в ходе его встречи с Начальником ВМС РККА Орловым в Москве в середине февраля 1934 г.[1530] Визит польской эскадры был впоследствии перенесен на конец июля, а советской – на начало сентября 1934 г.[1531]
3 мая 1934 г.
Опросом членов Политбюро
166/149. – О приезде в СССР группы финляндских инженеров-электриков и экономистов-селъскохозяйственников.
Разрешить приезд в СССР группы финляндских инженеров-электриков и экономистов-сельскохозяйственников для ознакомления с достижениями в области электрификации и сельского хозяйства.
Протокол № 6 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 4.5.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 944. Л. 37.
7 мая 1934 г.
Опросом членов Политбюро
37/21. – О созыве очередной 2-й советско-эстонской и 11-й советско-финляндской конференции по делам грузового сообщения.
1. Разрешить созыв в мае месяце очередной 2-й советско-эстонской и 11-й советско-финляндской конференции в Ленинграде.
2. Разрешить приезд в СССР эстонской делегации в составе 2 чел. и финляндской в составе 6 человек.
Протокол № 7 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 26.5.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 945. Л. 9.
На X советско-финляндской конференции по делам грузового сообщения (май-июнь 1933 г.) было принято решение созвать XI конференцию 5 мая 1934 г. в Москве. В конце марта 1934 г. начальник Бюро по международным сообщениям НКПС Кирсанов предложил Управлению Правительственных железных дорог Финляндии отложить созыв конференции до 20 мая в связи с тем, что сотрудники наркомата будут заняты на других конференциях[1532].
Конференция проходила с 28 мая по 9 июня. Вполне можно допустить, что перенос советской стороной сроков конференции был связан с экономией денежных средств и сил специалистов. Одновременное проведение в Ленинграде советско-финляндской и советско-эстонской конференций, связанных с железнодорожным грузовым сообщением привело к тому, что 7–9 июня там же была проведена и I конференция эстонско-финляндского, транзитом через СССР, прямого грузового сообщения. С финской стороны переговоры велись обер-директором В. Янссоном, Т. Блессаром, М. Нюхолмом и др., с эстонской – К.М. Сааром (заведующий тарифно-контрольным отделением железных дорог Эстонии), с советской – Г.А. Синевым (Начальник Октябрьских железных дорог), Н.П. Михайловым, С.М. Журкиным и др.
10 мая 1934 г.
Опросом членов Политбюро
73/57. – О директивах т. Литвинову.
Одобрить соображения, изложенные в записке т. Литвинова от 10 мая за № 4119, поручив ему, однако, при переговорах с Румынией добиваться оговорки об отказе обеих стран от разрешения остающихся между ними спорных вопросов насильственным путем.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 7 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 26.5.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 59.
Запрос Литвинова о директивах Политбюро был сделан перед его отбытием на сессию Бюро конференции по разоружению в Женеве, где ему предстояли встречи как с новым министром иностранных дел Франции Л. Барту[1533], так и с министрами стран Малой Антанты. Предположительно, упомянутая записка Литвинова была посвящена проблемам переговоров не только с Румынией, но и с Чехословакией и Югославией об установлении ими дипломатических отношений с СССР. Несогласие с его предложениями ограничивалось проблемами советско-румынских отношений.
Несмотря на то, что региональная Лондонская конвенция об определении агрессии июля 1933 г. предрешала установление дипломатических отношений между СССР и Румынией, на протяжении осени 1933 – весны 1934 г. взаимные контакты на этот счет носили спорадический характер.
Ввиду неразрешенности бессарабской проблемы и из-за желания обеспечить наиболее выгодную правовую редакцию документов об установлении ноты отношений ни одна из сторон стремилась не проявлять повышенной заинтересованности в переговорах о взаимном признании, однако быстрота, с которой происходило разложение Версальского порядка побуждала в возможно более краткий срок устранить это препятствие к международному взаимодействию СССР и Румынии. 13 февраля, приступая к разочаровывающими переговорами с Ю. Беком, Литвинов сообщил министру иностранных дел Румынии Н. Титулеску о намерении встретиться с ним «как только окажется возможным», упомянув о возможности, предоставляемом заседанием Бюро конференции по разоружению в Женеве[1534]. Титулеску с готовностью воспринял это предложение. Однако болезнь помешала наркому совершить предполагавшуюся поездку в марте-апреле 1934 г.
В феврале-апреле 1934 г. Титулеску зондировал возможность соединить акт взаимного дипломатического признания с договоренностью об обязательствах взаимопомощи между СССР и Румынией и тем самым получить официальное признание суверенитета Румынского королевства над Бессарабией. «Он, Титулеску, хочет быть с нами, – излагал его заявление полпред в Греции, – ибо знает, что “наши идеи совпадают с целостью и нераздельностью Румынии”». При этом министр объяснял, что его стране лучше быть «проглоченной» СССР, чем отдать болгарам и венграм оспариваемые ими земли[1535]. «Он не намерен осложнять вопроса о восстановлении отношений ненужными формулами, – сообщал временный поверенный в делах СССР во Франции. – Был, мол, вопрос о Бессарабии, был вопрос о румынском золотом запасе, и они взаимно аннулируются […] Вообще же восстановление отношений с нами, с его точки зрения, незаурядное событие. Он делал очень прозрачные намеки относительно военного соглашения с нами и под конец так разгорячился, что заявил, что «достаточно было бы телеграммы Литвинова ему, Титулеско, о том, что СССР и Румыния друг другу в военном отношении гарантируют границы, чтобы прикончить с фашизмом [sic] в Румынии!»[1536].
Поправка руководителей ЦК продолжала старый спор вокруг определения роли бессарабской проблемы в советской внешней политике[1537]. В июле 1933 г. при заключении Лондонской конвенции об определении агрессора, в которой не только упоминались существующие спорные вопросы, но и признавалась неприкосновенность территорий подписавших ее стран, Литвинов фактически положил конец обсуждению этой темы в советско-румынских отношений. Попытка Москвы приоткрыть старую рану, и заставить Румынию признать сомнительность ее прав на восточную провинцию, не удалась[1538].
1 июня 1934 г.
Опросом членов Политбюро
63/51. – О Румынии.
Одобрить следующую телеграмму:
«В крайнем случае считать возможным при восстановлении дипломатических отношений умолчать о спорных вопросах».
Выписка послана: т. Крестинскому
Протокол M 8 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 9.6.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 87.
Содержание бесед М.М. Литвинова с румынским министром иностранных дел об условиях установления дипломатических отношений между СССР и Румынией остаются неизвестны (обсуждение было начато 24 мая в Ментоне). Вероятно, Титулеску, как и прежде[1539], парировал попытки включить в формулу взаимного признания упоминание о «спорных вопросах» изъявлением «желания установить дружбу с СССР и ориентироваться на него во внешней политике», а его собеседник считал более важным вести дело к расшатыванию румыно-польского союза, нежели возобновлять препирательства о Бессарабии[1540].
Наряду с обменом нот об установлении дипломатических отношений между СССР и Румынией, Литвинов и Титулеску произвели другой обмен нотами, в которых подтверждалось обоюдное согласие относительно условий, при которых «эти отношения могут нормально развиваться в направлении еще более тесной связи и действительной и прочной дружбы». В духе Лондонской конвенции 3 июля 1933 г. в письме Литвинова широко использовалась формула «их территории» и констатировалось: «Правительства наших двух стран взаимно гарантируют полное и всецелое уважение суверенитета друг друга и что они будут воздерживаться от любого прямого или косвенного вмешательства во внутренние дела и развитие другой страны, и в частности, от всякой агитации, пропаганды и любого вида вмешательства, и что они будут воздерживаться от поддержки такой акции»[1541]. Таким образом, советские притязания на Бессарабию отодвигались на неопределенное время.
3 июня 1934 г.
Опросом членов Политбюро
82/70 – Телеграмма т. Литвинова.
Послать т. Литвинову следующий ответ:
«1) Ограничьтесь возобновлением дипотношений с Румынией, без заключения пакта трех.
2) С Юго-Славией и Чехо-Словакией можете восстановить дипотношения без всяких условий.
Выписка послана: т. Крестинскому.
Протокол № 8 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 9.6.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 88.
В ходе бесед наркома Литвинова с Титулеску в последней декаде мая 1934 г. румынский министр выдвинул идею сопроводить установление дипломатических отношений между Москвой и Бухарестом заключением советско-румыно-польского договора. Н. Титулеску, несомненно, тревожило как то, что Румыния остается вне рамок проектируемого Восточноевропейского пакта взаимопомощи, так и расширявшаяся трещина между союзной Польшей и СССР. 30 мая на встрече с Литвиновым (и в присутствии министров иностранных дел Чехословакии, Югославии и Турции) румынский политик развил план тройственного пакта о ненападении, предусматривающего к тому же, «что в случае нападения одного их этих государств на другое[,] третье оказывало бы помощь подвергшемуся нападению». Проект Титулеску оказывался, таким образом, уменьшенной копией принятого СССР замысла Восточного пакта (схема Леже).
Привлекательность для СССР этого экстравагантного проекта, вдохновленного успехом советско-румынско-польских переговоров конца июня-начала июля 1933 г. о региональной конвенции об определении агрессора, обуславливалась несколькими обстоятельствами. Переговоры о тройственном договоре обещали, по меньшей мере, притупить антисоветскую направленность союза Польши и Румынии, а «если Польша не пойдет на эту комбинацию», утверждал Титулеску, Румыния «сможет отклонить возобовление румыно-польского союзного договора»[1542]. Во-вторых, советская дипломатия была озабочена проблемой участия Польши в проекте Восточного Локарно, который к концу мая был в основных чертах согласован с Францией. На протяжении апреля-мая 1934 г. Литвинов тщетно убеждал французских руководителей в безнадежности расчетов на согласие Варшавы присоединиться к Восточному пакту[1543]. Вероятный отказ Польши, между тем, грозил обесценить как декабрьский план Политбюро, так и французскую концепцию Восточного Локарно. В этих условиях совместное выступление Бухареста и Москвы с идеей тройственного регионального пакта о ненападении и взаимной помощи открывало перед политикой сближения с Францией новые перспективы.
Соображения и рекомендации, высказанные по этому поводу М.М. Литвиновым, остаются неизвестны. Руководство ЦК не только отказалось поддержать идею Титулеску, но и фактически подтвердило директиву при согласовании формулы взаимного признания СССР и Румынского королевства попытаться включить в нее упоминание бессарабской проблемы («спорных вопросов»)[1544].
Переговоры Литвинова с Титулеску сопровождались менее насыщенным обменом мнениями с югославским и чехословацким министрами иностранных дел относительно установления дипломатических отношений. Решения Загребской конференции (январь 1934 г.) открыли каждой из стран Малой Антанты путь к переговорам с Советским Союзом о взаимном признании, однако, вплоть до начала июня у Титулеску, Ефтича и Бенеша сохранялась надежда на солидарное решение трех столиц. Белград, однако, отверг представление Ефтича, поддержанное румынской и югославской дипломатией, и 7 июня Совет Малой Антанты предоставил своим членам свободу рук. Согласование условий взаимного признания между СССР и ЧСР не вызвало существенных затруднений. Еще несколькими годами ранее Москва фактически сняла требование к Праге о возврате российского золотого запаса, вывезенного чехословаками из Казани в 1918 г.[1545] Чехословацкое правительство, в свою очередь, не только воздержалось от поддержки претензий своих граждан на национализированную собственность, но и согласилось заявить об этом при конфиденциальном обмене нотами. Поправки Литвинова к подготовленному Бенешем проекту идентичных конфиденциальных нот и контрпредложения министра носили преимущественно стилистический характер[1546].
8 июня 1934 г.
Опросом членов Политбюро
125/113 – О Румынии и Чехо-Словакии.
Принять предложение т. Литвинова о восстановлении дипломатических отношений с Румынией и Чехо-Словакией.
Выписка послана: т. Крестинскому
Протокол № 8 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 9.6.1934.– РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 89.
7 июня М.М. Литвинов после семи часов беспрерывных совместных переговоров с Бенешем, Ефтичем и Титулеску телеграфировал из Женевы в Москву о результатах обращения румынского и югославского министров иностранных дел к главам своих государств. «Бенеш и Титулеску готовы завтра же обменяться письмами о восстановлении отношений с немедленным опубликованием, заверяя, что до сентября за ними последует и Югославия, – сообщал нарком, – и я склонен принять предложение». Литвинов исходил из того, что все существенные условия установления дипломатических отношений с Румынией уже определены и предлагал Москве сообщить о согласии «завтра же по телефону возможно раньше»[1547].
Положительный ответ не заставил себя ждать, и 9 июня 1934 г. было объявлено о состоявшемся в Женеве обмене нотами между Правительством СССР и Правительством Румынии, Правительством СССР и Правительством Чехословацкой Республики об установлении дипломатических отношений (подписание нот Бенешем произошло 8 июня). Одновременно главы дипломатических ведомств обменялись конфиденциальными нотами (письмами), в которых констатировался отказ от взаимных претензий и выражалась уверенность в укреплении начатого сотрудничества (окончательные полные тексты этих документов не обнаружены, содержание их известно по черновым вариантам и опубликованным выдержкам)[1548].
8 июня 1934 г.
Опросом членов Политбюро
128/116. – О мото-велопробеге польских спортсменов через СССР.
Разрешить полякам мото-велопробег при условии:
1) что маршрут будет утвержден ОГПУ и НКВМором и
2) что Польша даст аналогичное разрешение для наших спортсменов.
Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Ягоде, Антипову (ВСФК).
Протокол № 8 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 9.6.1934.– РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 90.
В начале 1934 г. польский Клуб иностранного туризма (Туринклуб) по дипломатическим каналам обратился к властям СССР с просьбой разрешить поход польских спортсменов на каюках по Припяти, Днепру и Днестру и мотовелопробег от польско-советской границы до Москвы (в рамках пробега Варшава-Москва). Междуведомственная комиссия, в которую входили представители ОГПУ и военного ведомства, по просьбе НКИД в разработала следующие предложения: 1) обращение о походе каюков – «отклонить по мотивам наличия в данных районах объектов оборонительного значения»; 2) «по политическим соображениям дать разрешение польскому Туринклубу на мото-велопробег Варшава – Москва на принципе взаимности и при условии пробега по маршруту: Слуцк – Бобруйск – Рогачев – Рославль – Москва, а не по шоссе Минск – Орша – Смоленск, как то просят поляки». Не позднее начала апреля эти предложения были переданы Крестинскому для представления «на утверждение правительства»[1549]. 7 апреля Литвинов направил в Политбюро предложение разрешить «польский велосипедный пробег Варшава – Москва и пробег мотоциклов по маршруту Прага – Варшава – Москва». В середине мая 1934 г. он напомнил об отсутствии решения Политбюро по этому поводу[1550]. Таким образом, 8 июня Политбюро, вследствие настояний НКИД, санкционировало постановление межведомственной комиссии, принятое двумя месяцами ранее. Сведений о том, состоялся ли пробег польских мотоциклистов и велосипедистов, не обнаружено.
9 июня 1934 г.
Опросом членов Политбюро
167/155. – О Чехо-Словакии.
Не возражать против дачи агремана Богдану Павлу, назначаемому Чехо-Словакией посланником в Москву.
Выписка послана: т. Крестинскому
Протокол № 8 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 9.6.1934.– РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 94.
Кандидатура Богдана Павлу в качестве первого чехословацкого посланника в СССР была неофициально предложена МИД ЧСР в начале весны 1934 г. В НКИД считали нецелесообразным обнаруживать свое отношение к кандидатуре Павлу до установления дипломатических отношений, что в начале мая стало вызывать беспокойство со стороны Э. Бенеша и К. Крофты[1551]. Во время гражданской войны в России Б. Павлу занимал пост председателя Исполкома Чешской армии. Поэтому, отдавая должное дипломатическому опыту Павлу, во 2 Западном отделе предпочли бы видеть на посту посланника внешнеполитического редактора близкой к МИД «Die Prager Presse» Ф. Кубку[1552]. Приходилось, однако, считаться с тем, что при отклонении Павлу, Бенешем может быть выдвинут менее приемлемый кандидат, например, связанный с социал-демократами (чего в Москве всеми силами стремились избежать). «У меня постепенно складывается мнение, – писал наркому полпред в Праге, – что нам придется принять Павлу, несмотря на его прошлое и некоторую неуверенность относительно настоящего. Я склоняюсь к этому, в частности, потому что в качестве других кандидатов мне несколько раз и из разных источников намекали, что речь может идти тогда либо о Вацлаве Гирса, которого я знаю и считаю прямо враждебным нам человеком, либо о Фирлингере». Зденека Фирлингера, в 1940-х гг. зарекомендовавшего себя лояльным исполнителем воли Москвы, Александровский характеризовал как «социал-демократического путаника» и высказывал опасения, что, «отводя Павлу мы получим кого-нибудь не менее враждебного, но менее умного», чем он[1553]. Эти соображения, вероятно, сыграли решающую роль в том, что советская дипломатия не оказала активного неофициального противодействия кандидатуре Павлу. 8 июня, завершив переговоры с Литвиновым и подписав ноты об установлении полных дипломатических отношений с СССР, Э. Бенеш высказал просьбу «дать агреман Павлу, которого хотел бы послать в Москву немедленно». Литвинов предложил НКИД немедленно удовлетворить этот запрос[1554]. Вероятно, учитывая дискуссии о чехословацком кандидате, управлявший Наркоматом иностранных дел Н.Н. Крестинский, предпочел вначале заручиться одобрением Политбюро.
11 июня 1934 г.
Опросом членов Политбюро
30/20 – О визите в Польшу.
Разрешить НКВМ посылку в Гдыню в конце июля 1934 г. кораблей Морских Сил Балтморя в составе линкора «Марат» и 2-х эсминцев под флагом нач. ВМС РККА т. Орлова.
Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Крестинскому.
Протокол № 9 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 26.6.1934.– РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 101.
Рассматриваемое постановление по существу завершало почти полугодовое обсуждение обмена дружественными визитами между военно-морскими силами СССР и Польши[1555].
10 июля Политбюро опросом утвердило решение о назначении руководителем посылаемой в Польшу делегации (эскадры Морских сил Балтийского моря) командующего Балтийским флотом Л.М. Галлера[1556]. В беседах с польскими представителями оно мотивировалось тем, что должность Галлера примерно равнялась чину адмирала Унруга, который должен был возглавить польскую морскую делегацию, прибывающую в СССР в июле 1934 г., тогда как статус Орлова был сравним с положением вице-министра. 20 июля временный поверенный в делах Польши в СССР сообщил НКИД о ее согласии с изменением предшествующей договоренности[1557].
Визит советских военных кораблей в Гдыню состоялся 28 июля – 1 августа 1934 г.
15 июня 1934 г.
Опросом членов Политбюро
72/62 – Об экономических отношениях с Эстонией и Латвией.
Создать комиссию в составе т.т. Микояна (созыв), Стомонякова и Розенгольца для рассмотрения вопроса об экономических отношениях с Эстонией и Латвией. Срок – 5 дней.
Выписки посланы: т.т. Микояну, Стомонякову, Розенгольцу.
Протокол № 9 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 26.6.1934.– РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 102.
Вопрос о торговых отношениях с Латвией был поставлен перед Сессией еще в середине мая 1934 г., но по неизвестным причинам, не был включен тогда в повестку дня. Стомоняков просил полпреда С.И. Бродовского прислать данные, «указывающие, что мы в Латвии получаем более высокие цены за товары, чем за границей»[1558]. В то же время торгпредство в Риге направило в сектор торгпредств НКВТ и полпреду С.И. Бродовскому информационное письмо о состоянии торговых отношений с Латвией. В нем констатировалось, что, если после подписания торгового договора и хозяйственного соглашения на 1934 г. в декабре 1933 г. латвийская правительственная комиссия по выдаче контингентов на ввоз товаров в Латвию относилась благосклонно к советскому экспорту в надежде (не оправдавшейся) на широкие закупки латвийских товаров, то с конца февраля эта комиссия стала категорически отказывать в выдаче каких-либо контингентов вообще[1559]. Всего в первом полугодии 1934 г. латвийский экспорт в СССР составил 235 тыс. руб.[1560] Состояние советско-эстонских торговых отношений было не лучше. Вопрос на Политбюро был поставлен по настоянию НКИД, оценивавшим ситуацию в торговле с Эстонией и Латвией как катастрофическую. Хотя комиссия Микояна и должна была вынести свое решение в течение 5 дней, однако лишь в начале июля в ее работе, как писал Б.С. Стомоняков полпреду в Эстонии Устинову, наметилась «тенденция к расширению наших закупок» во втором квартале 1934 г. и в 1935 г.[1561]
Непосредственной причиной затягивания работы комиссии явилась болезнь А.П. Розенгольца. Судя по сделанному Б.С. Стомоняковым в письме Бродовскому замечанию, утвержденное правительством («как и следовало ожидать») решение большинства комиссии должно было вызвать разочарование и в Эстонии, и в Латвии[1562]. Следовательно, склонить Микояна на свою сторону НКИД не удалось.
25 июня 1934 г.
Опросом членов Политбюро
151/144 – О Прибалтике.
Принять предложение т. Литвинова о приглашении в СССР министра иностранных дел Эстонии Сельямаа и нового министра иностранных дел Литвы.
Выписка послана: т. Литвинову
Протокол № 9 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 26.6.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 107.
Впервые договоренности о визите Ю. Сельямаа в Москву пытались достичь несколькими месяцами ранее. Предложение эстонскому министру «по своей личной инициативе сделал 21 марта в беседе с ним полпред А.М. Устинов[1563]. Предполагалось, что Сельямаа сможет приехать в Москву на подписание протокола о продлении пакта о ненападении к 3 апреля. Глава эстонского МИДа, сославшись на празднование Пасхи, выразил готовность приехать в мае, после того как Таллин посетит министр иностранных дел Швеции (о своей намечавшейся на май поездке в Варшаву он не говорил). Полпред обращал внимание руководства на тот факт, что Ю. Сельямаа не настаивал на совпадении по времени своего визита в Москву с приездом туда главы МИД Латвии[1564].
Данное решение Политбюро было принято через три дня после того, как Ю. Сельямаа вылетел с официальным визитом в Варшаву (22 мая) (на обратно пути он посетил Ригу). Приглашение было сделано польской стороной в самом начале мая. На аэродроме Сельямаа был встречен главой МИД Польши Беком, которого сопровождала супруга. Поскольку впервые со стороны Бека в отношении иностранного министра было проявлено такое уважение, пресса не замедлила особо подчеркнуть это. В Варшаве у эстонского министра состоялась беседа с Пилсудским. Польская сторона заверила гостя, что не будет чинить препятствий сотрудничеству прибалтийских государств, если только оно не будет происходить за счет виленского вопроса[1565]. Оценивая визит Сельямаа в Варшаву, полпред Устинов отмечал, что он был крайне необходим польскому правительству, так как Эстония осталась единственной опорой Польши в Прибалтике; при этом, он считал, что основным в польско-эстонских отношениях остается тесное военное сотрудничество. Совершенный Ульманисом переворот, по его информации, оценивался и в Варшаве, и в Таллине негативно, поскольку неизбежно вел к росту германофилии в Латвии, что ослабляло позиции Польши и мог повлечь ослабление союзнических отношений Латвии с Эстонией[1566].
Под новым литовским министром иностранных дел имелся в виду С. Лозорайтис, сменивший Д. Зауниуса при формировании А. Сметоной нового кабинета министров 11 июня 1934 г. (после неудачной попытки военного переворота в ночь с 6 на 7 июня). Однако идея с приглашением литовского министра иностранных дел возникла в Москве еще зимой, а в марте Зауниусу уже было передано приглашение; он предложил тогда отложить свой визит в связи с тем, что было неясно, удастся ли НКИД получить согласие на приезд эстонского и латвийского министров. При возвращении к этой теме в апреле 1934 г. ситуация для благоприятного отношения Каунаса к приглашению из-за переговоров с Польшей о подписании протокола о продлении пакта о ненападении изменилась для советской стороны не в лучшую сторону. В Москве придавали огромное значение быстрейшему подписанию протокола с Польшей, но в ходе переговоров ей пришлось пойти на значительные уступки польской стороне. Неделей ранее Б.С. Стомоняков предупреждал полпреда в Литве, что, «к сожалению, придется, видимо, пойти на подписание вместе с протоколом о продлении пакта, заключительного протокола, в котором наряду с заявлением, что у сторон нет никаких обязательств и связывающих их заявлений, противоречащих постановлениям мирного договора, будет также заявление, сводящееся к тому, что нота Чичерина (приложенная к советско-литовскому пакту 1926 г.) не может истолковываться как наше вмешательство в решение виленского вопроса». Б.С. Стомоняков признавал, что подобное согласие Москвы доведет существующее в Литве «сознание изоляции» до «сознания паники», усилит элементы, стремящиеся к соглашению с Польшей, и ослабит «позиции правительства Сметоны-Тубялиса[1567]. Незаинтересованность СССР в капитуляции Литвы перед Польшей обусловила очередное изменение советской позиции в отношении образования Малого прибалтийского блока; благожелательное отношение к литовской инициативе о политическом сближении с Эстонией и Латвией рассматривалось в тот момент времени в Москве как одно из средств, способных усилить международное положение Литвы и несколько ослабить ее недовольство по поводу «отказа» СССР от ноты Чичерина. 26 апреля литовскому посланнику Ю. Балтрушайтису был вручен советский меморандум, в котором выражалась поддержка литовской инициативе. В середине мая в Москве возникли опасения, что в Литве, по примеру Латвии, может произойти военный переворот. В 1 Западном отделе НКИД считали, что предвидеть в какую сторону «метнется литовская военщина, невозможно. Для усиления советских позиций в Каунасе было решено проинформировать Сметону о возможности выступления военных, а также, в очередной раз, пригласить в Москву Д. Зауниуса и начальника Главного штаба генерала П. Кубелюнаса[1568]. Вместе с тем, неопределенность внутриполитической ситуации в Литве вынуждала Москву не спешить с принятием принципиального решения о продаже Каунасу оружия, несмотря на обращение Сметоны. После упоминавшейся выше попытки переворота и Зауниус, и Кубелюнас лишились своих постов. Идея приглашения в Москву главы литовского МИДа не была оставлена в стороне: ослабление советского влияния сопровождалось возрастанием значения этого прибалтийского государства для внешнеполитических целей СССР, прежде всего в связи с переговорами о создании Малого прибалтийского союза и переговорами о восточноевропейском пакте о взаимопомощи. Это обусловило согласие Москвы на продажу Литве оружия и оказание ей экстренной экономической помощи[1569].
В решении Политбюро отсутствует упоминание о приглашении К. Ульманиса, взявшего на себя формальное руководство МИДом после переворота 15 мая (фактически министерством руководил В. Мунтерс), что находилось в противоречии с принятой НКИД линией на поддержку упрочения литовско-латвийско-эстонских связей. В Москве были крайне недовольны прогерманским внешнеполитическим курсом К. Ульманиса, его отношением к идее Восточного пакта. Приглашение латвийскому диктатору было все же сделано, правда, через две недели после рассматриваемого решения Политбюро и в обидной для Риги форме. Полпред Бродовский должен был сообщить Мунтерсу о предстоящих визитах в Москву Ю. Сельямаа (28 июля) и Лозорайтиса (1 августа), добавив, что после этих визитов М. Литвинов сразу же отбывает в отпуск (решение об этом было принято Политбюро 24–25 июля)[1570], в силу чего визит К. Ульманиса возможен только в сентябре. В качестве причины несколько запоздалого и ненавязчивого приглашения полпреду предлагалось указать на сделанные Мунтерсом несколько месяцев назад заявления о том, что К. Ульманис никуда из Латвии отлучаться не может[1571]. Когда Бродовский доложил в Москву о выполнении директивы, в НКИД с раздражением восприняли недостаточную корректность полпреда и, судя по всему, потребовали повторить предложение о приглашении в более вежливой форме. Бродовский не нашел ничего более подходящего, как позвонить Мунтерсу и задать вопрос: правильно ли им был понят ответ, полученный два дня назад, что К. Ульманис не может оставить Латвии ни при каких обстоятельствах, «ибо, если теперь положение изменилось, то мы (т. е. СССР), понятно, рады будем приветствовать К. Ульманиса в Москве. Мунтерс подтвердил, что советский полпред правильно понял его. «Скандал», – констатировали в 1 Западном отделе НКИД[1572]. Холодность Мунтерса и последовавший отказ К. Ульманиса приехать в Москву объяснялись еще и тем, что ранее на прямой вопрос – едет ли Ю. Сельямаа в Москву, Бродовский ответил отрицательно[1573]. В Риге имели основание расценить происшедшее, как попытку вбить клин между нею и ее союзницей Эстонией.
29 июня 1934 г.
Опросом членов Политбюро
39/21. – О торговых переговорах с Чехо-Словакией.
1. Разрешить полпреду СССР сообщить чехо-словацкому мининделу, что мы в принципе готовы приступить к торговым переговорам.
2. Положить в основу переговоров представленный чехословаками проект с поправками НКИД и НКВТ.
3. Сообщить немедленно чехословакам наше заключение по представленному ими проекту договора, отложив фактическое начало переговоров до осени.
4. Ведение торговых переговоров возложить на полпреда и торгпреда СССР в Чехо-Словакии.
Выписки посланы: т.т. Литвинову, Розенгольцу, Жданову.
Протокол № 10 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.7.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 111.
Промедление с нормализацией дипломатических отношений между СССР и Чехословакией создавало растущие трудности в экономической сфере. Намеченное Москвой в ноябре 1933 г. компромиссное решение не привело к ощутимым результатам[1574]. В январе-апреле 1934 г., по чехословацким данным, советский экспорт в ЧСР превысил ввоз в СССР товаров из нее в 4 раза (по сведениям полпредства – даже в 6–7 раз)[1575].
5 марта 1934 г. МИД Чехословакии передало советскому представителю проект торгового договора. Заместитель наркома по иностранным делам расценил этот шаг как попытку получить «компенсацию в форме торгового договора на неизбежное уже восстановление дипломатических отношений», за которое СССР, «конечно, ничего… платить не хочет и не станет»[1576]. В ответ Бенешу было заявлено, что «Москва знакомится с проектом и по существу его содержания, но не находит оснований для формальных переговоров, не имея… для такого междугосударственного акта базы в форме полных и нормальных взаимоотношений». Чехословацкий министр вновь выразил готовность к временному разрешению торгово-политических вопросов, однако этот вариант (предусмотренный решением Политбюро от 14 ноября 1933 г.) уже не вызывал у Москвы интереса[1577].
После установления дипломатических отношений с ЧСР[1578] Москва вернулась к подготовленному МИД ЧСР проекту договору. Руководители НКИД и НКВТ пришли к общему мнению о целесообразности ведения переговоров на основе чехословацкого проекта, а также откладывания их фактического начала до осени 1934 г.[1579] Таким образом, решение Политбюро санкционировало предложение, выработанное двумя ведомствами, не внося в него никаких изменений.
В начале июля 1934 г. полпред Александровский передал Э. Бенешу сообщение о готовности СССР к переговорам о торговом договоре[1580]. При этом полпреду «пришлось усиленно лавировать с Бенешем для того, чтобы отвести его от идеи немедленных переговоров о торгдоговоре»[1581]. 10 июля Александровский передал заместителю начальника экономического отдела МИД Глоссу замечания на чехословацкий проект договора[1582].
Торговые переговоры начались в Праге в октябре 1934 г., когда их дальнейшее откладывание (на чем особенно настаивал нарком А.П. Розенгольц) стало более невозможным. Поначалу переговоры велись в замедленном темпе. До декабря 1934 г., как и на предварительной стадии переговоров (март-июль), МИД ЧСР стремилось увязать обсуждение торгового договора с определением экспортных контингентов (минимального размера советских заказов в Чехословакии); о формальном отказе от постановки вопроса от контингентов в связи с торговым договора начальник экономического отдела МИД Фридман согласился заявить лишь за четыре дня до его подписания[1583].
После заключения М.М. Литвиновым и Э. Бенешем соглашения о взаимных обязательствах в отношении Восточного пакта взаимной помощи (7 декабря 1934 г.) Москва решила придать отношениям с ЧСР «возможно более сердечный и дружественно оформленный характер». «Первым шагом» на пути к этому должно было явиться подписание торгового договора. Для скорейшего завершения переговоров советское руководство решило пойти на «сравнительно большие уступки»; в НКИД надеялись, что торговый договор удастся подписать в первые дни нового 1935 г.[1584]
Резкое изменение тактики переговоров и отказ от предусмотренного июньским решением Политбюро их затягивания не привело к быстрому результату. Подписание Договора о торговле и мореплавании между Советским Союзом и Чехословакией состоялось 25 марта 1935 г. в Праге.
29 июня 1934 г.
Опросом членов Политбюро
40/22. – О приезде чехословацких журналистов.
1. Разрешить НКИД организовать приезд в СССР группы чехословацких журналистов, пригласив их от имени журнально-газетного объединения.
2. Предложить Наркомфину отпустить НКИД из резервного фонда в соввалюте сумму, необходимую на расходы по приему делегации.
Выписки посланы: т.т. Крестинскому, Кольцову М., Гринько – все; Артузову – п. 1.
Протокол № 10 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.7.1934. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 16. Л. 111.
Впервые предложение организовать приезд в СССР чехословацких журналистов была высказано полпредом А.Я. Аросевым весной 1930 г., к которому обратились представители авторитетных пражских изданий. Руководство НКИД сочло такую поездку нежелательной, намекнув, что позитивных публикаций о советской действительности ждать не приходится[1585]. Четырьмя годами позже руководство НКИД вернулось к этой идее. Экскурсия журналистов в СССР рассматривалась в качестве первого шага к активизации культурных и экономических связей с Чехословакией после установления с нею полных дипломатических отношений[1586].
Первоначально НКИД намечал приезд журналистов на вторую половину августа 1934 г., однако из-за разногласий, возникших между заинтересованными ведомствами в Москве, этот замысел пришлось пересмотреть[1587]. После возвращении в Прагу в начале октября полпред Александровский обсудил этот вопрос с редактором отдела внешней политики влиятельной газеты «Lidovi Novin?» Рипкой, который возглавлял клуб внешнеполитических редакторов чешских газет «Р?itomnost» и принадлежал к узкому кругу близких сотрудников президента Т.Г. Масарика и министра иностранных дел Э. Бенеша. В результате была достигнута договоренность, что отъезд журналистов в Москву произойдет в конце декабря, а если этот срок окажется неудобным для Наркоминдела, визит состоится весной 1935 г.[1588]
Делегация прибыла в Москву 29 декабря. Ее прибытие приветствовалось не только как важное событие «во взаимоотношениях обоих государств и их совместной борьбе за мир»[1589]. 3 января 1935 г. делегация была принята наркомом М.М. Литвиновым. В обширной речи, произнесенной по этому случаю, особое внимание чехословацкой прессы привлекло упоминание Литвиновым «о расовых и филологических связях, которые существуют у наиболее крупных народностей нашего Союза с чехословацким [sic] народом», о симпатиях «к возрожденному чешскому народу»[1590]. Для делегации были устроены встречи с общественными деятелями, писателями и журналистами, посещение Ленинграда, Харькова, Киева, поездка на Днепрогэс. В постоянном общении с чехословацкими журналистами находились заведующий 2 Западным отделом (в прошлом – сотрудник чешской коммунистической печати) Д.Г. Штерн и заведующий Отделом печати НКИД К.А. Уманский, а также представители официально пригласившего их Союза журналистов СССР.