Наказание за любовь. Никита Волконский
Наказание за любовь. Никита Волконский
В романе Валентина Пикуля “Слово и дело” есть выразительная сцена с участием шута Анны Иоанновны, князя Никиты Фёдоровича Волконского: “Стоял Волконский в стороне и горевал: умерла недавно жена, а письма, какие были при ней, ко Двору забрали. Письма были любовные… И письма те при Дворе открыто читали (в потеху!) и смеялись над словами нежными… Называл князь жену свою “лапушкой”, да “перстенёчком сердца моего”, да “ягодкой сладкой”… Вот хохоту-то было!..”. Гоготала вся шутовская кувыр-коллегия, а пуще других – самодержавная императрица, которая присвоила себе право устраивать семейную жизнь подданных, заставляя их любить друг друга не по зову души, а по её монаршему приказу. Вот и Волконскому она повелела о жене не горевать, а, не мешкая, полюбить другую, точнее, другого. Ее величество изволили разыгрывать бесконечный шутовской спектакль, будто Волконский по ошибке женился на шуте Михаиле Голицыне. Увлеченная этой “интригой”, она наказала главнокомандующему Москвы Семену Салтыкову подготовить от имени шута Никиты любовное письмо, “в котором написано, что он женился взаправду”. И, позабавившись вволю, не без удовольствия заключила: “Да здесь играючи женила я князя Никиту Волконского на Голицыне”.

Анна Иоанновна тщилась истребить в Волконском всякую память о супруге, с которой он был так счастлив.
Надо сказать, что Анне, не изведавшей радостей материнства, как будто пристала роль всероссийской крестной матери. Самой лишенной супружества, ей нравилось по своей прихоти женить своих подданных.
Особенно же усердствовала императрица, женя наиболее бесправных своих холопов – придворных шутов. В поисках забавников для Двора по городам и весям России колесили специально отряженные вестовые. И от участи царского шута не был застрахован никто, даже природный аристократ.
Хотя при Анне куролесили три отпрыска знатных семейств (князья Михаил Голицын и Никита Волконский, граф Алексей Апраксин), назначение их придворными шутами ни в коей мере не было связано с их происхождением. Критерий отбора здесь был замешан на мстительном чувстве императрицы по отношению к своим «избранникам». О том, что послужило причиной сделать шутом князя Никиту Волконского, и пойдёт разговор ниже.
Супружество самой Анны было и кратковременным, и отнюдь не по сердечной склонности. То был невиданный со времен Киевской Руси династический эксперимент, предпринятый её дядей, царем-реформатором Петром, на гребне Полтавского успеха. Защищая российские интересы на северо-западе Европы, он удумал сочетать племянницу браком с молодым Курляндским герцогом Фридрихом-Вильгельмом, заручившись на то согласием влиятельного прусского короля Фридриха I. Невесту же и жениха лишь поставили перед фактом. Так, Анна стала первой в череде московских царевен “невестой на выезд”.
Участь эта была, однако, счастливее доли её предшественниц, которые старились в своих домостроевских теремах и ни о каком замужестве не помышляли. “А государства своего за князей и за бояр замуж выдавати их не повелось, – объяснял Григорий Котошихин, – потому что князи и бояре их есть холопи. И то поставлено в вечный позор, ежели за раба выдать госпожу. А иных государств за королевичей и за князей давати не повелось для того, что не одной веры и веры своей оставить не захотят, то ставят своей вере в поругание”. Последнее препятствие было легко устранено Петром, и в браке Анне было разрешено исповедовать православие. Но средняя дочь царя Иоанна едва ли испытывала радость от вынужденного переселения в чужую землю.
Сохранилось исполненное политеса письмо от имени Анны к жениху (писанное, понятно, не самой невестой, а грамотеями из Посольской канцелярии). В нем нет ни слова о любви, зато говорится о предстоящем браке как о “воле Всевышнего и их царских величеств”. Завершался текст характерной подписью: “Вашего высочества покорная услужница”. Это очень точное слово – “услужница”! Пётр вообще был склонен воспринимать связь с женщиной как именно её службу себе, сопоставимую с работой подданных-мужчин (в этом духе он высказался о своей мимолётной пассии, английской актрисе Летиции Кросс). И новоиспеченная герцогиня Курляндская была услужницей не столько мужу, сколько амбициям и планам молодой северной империи.
Историки свидетельствуют: ни на невесту, ни на петербургский свет хилый и жалкий курляндец не произвёл впечатления. Свадьбу, между тем, закатили знатную. Празднество проходило в роскошном дворце Александра Меншикова, куда гости прибыли по Неве на 50 шлюпах по особо установленному церемониалу. Над невестой венец держал светлейший князь, а над женихом – сам царь, который исполнял роль свадебного маршала. И звенели заздравные чаши, и гремели пушки после каждого тоста, и горели над фейерверками приличные такому случаю слова, обращенные к молодым супругам: “Любовь соединяет”. Более всего поражало убранство невесты – Анна была в белой бархатной робе, с золотыми городками и длинной мантией из красного бархата, подбитой горностаями; на голове красовалась величественная царская корона. Но словно злой рок тяготел над брачующимися в тот день: совсем скоро на пути в Курляндию скончается от спиртных излияний молодой муж Анны Фридрих-Вильгельм, не успев прожить с молодой женой и медового месяца. (С тех пор Анна терпеть не могла пьяных!)
По политическим конъюнктурам Петра новоиспечённая герцогиня Анна Иоанновна должна была остаться в курляндской Митаве, куда царь направил и собственного резидента Петра Бестужева. Последний, получивший должность обер-гофмаршала, фактически управлял всеми делами герцогства. И немудрено, что лишенная мужской ласки молодая вдова сошлась со своим первым советчиком, хотя тот годился ей в отцы и имел троих взрослых детей (по иронии судьбы его дочь, злополучная Аграфена Петровна, будет женой князя Никиты Волконского!). Но “беззаконная” (в терминологии той эпохи) связь с престарелым царедворцем тяготила Анну, мечтавшую о благочестивой семье с супругом-ровней.
Курляндская вдова в ожидании героя будущего романа вела жизнь, небогатую внешними событиями. И только через пятнадцать лет милый её сердцу жених явился, точнее, метеором ворвался в затхлую атмосферу этого медвежьего угла Европы. Избранника Анны звали граф Мориц Саксонский. Незаконный сын короля польского Августа II (признанного сердцееда), он снискал себе славу повесы и петиметра, скитавшегося по европейским Дворам в поисках любовных утех и игры в войну (он потом станет маршалом Франции). “Война и любовь сделались на всю жизнь его лозунгом, – сообщает историк, – но никогда над изучением первой не ломал он слишком головы, а вторая никогда не была для него источником мучений: то и другое делал он шутя, зато не было хорошенькой женщины, в которую бы он не влюбился мимоходом, как не раздалось в Европе выстрела, на который не счел бы он своею обязанностью прилететь”. Вволю натешившись громкими амурными победами и промотав последнее состояние в карточной игре, он вздумал, наконец, остепениться и остановил свой выбор на дородной и малопривлекательной Анне с расчетом получить во владение Курляндию и герцогскую корону.
Не любовной интрижки с роковым красавцем желала Анна, а законного брака. “Живу я здеся с таким… намерением, – писала она 2 июня 1726 года Меншикову, – чтоб я супружество здеся могу получить”. “Принц мне не противен”, – сдержанно говорила она о Морице, хотя на самом деле испытывала к нему сильную, неукротимую страсть. Едва ли нашей герцогине не было известно, что её жених-вертопрах, даже приехав улаживать свои матримониальные дела, остался верен себе: гроза мужей-рогоносцев, он перепробовал всех мало-мальски смазливых курляндских дам. Однако герцогиню это не только не смущало, но еще более распаляло – говорят, что вдовы особенно падки на ловеласов. Она, надо полагать, не знала или не желала знать известную мудрость: “Нет ничего смешнее на свете женатого петиметра”. В её желании связать Морица брачными узами было что-то наивное; Анна заблуждалась насчёт графа и боролась за свою любовь до конца. Сколько посланий настрочила она в Петербург к императрице Екатерине Алексеевне, Меншикову, Остерману, где настойчиво и униженно испрашивала разрешение на брак с Морицем! Мемуарист Василий Нащокин сообщает, что однажды “вдовствующая герцогиня, узнав о прибытии [Меншикова] в Ригу, отправилась из Митавы на коляске с одною только девушкою, остановилась за Двиною и, призвав к себе Меншикова, умоляла его, с великою слезною просьбою, чтобы он исходатайствовал у императрицы утверждение Морица герцогом и согласие на вступление с ним в супружество”. Но – увы! – Меншиков категорически отказал, “ибо утверждение Морица герцогом противно выгодам России, а брак ея с ним неприличен”.
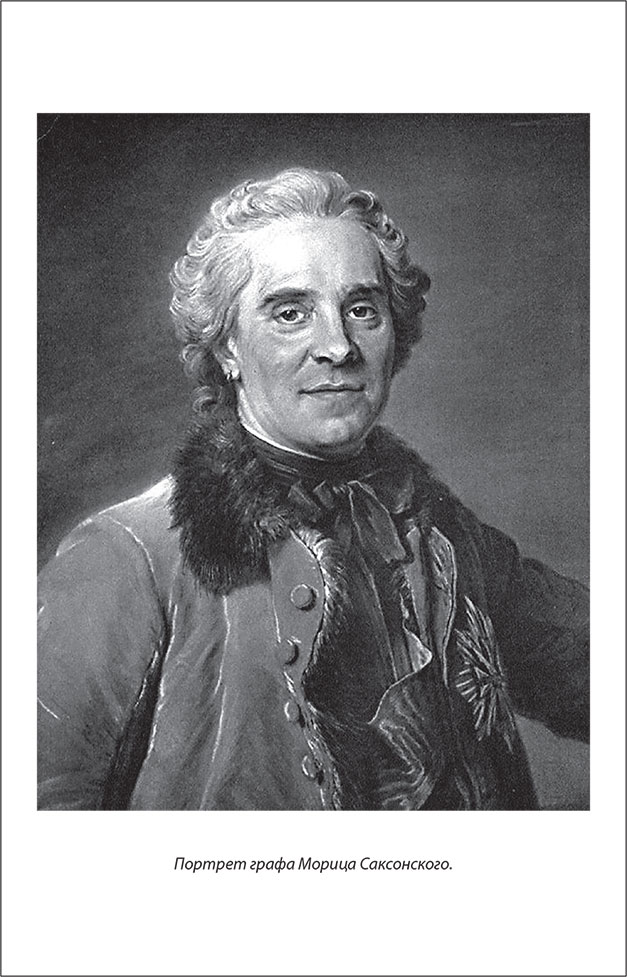
Не будем описывать все перипетии борьбы за курляндскую корону (а в ней принял участие и властолюбивый Меншиков, также домогавшийся герцогства). Отметим лишь, что Морица наконец выдворили оттуда российские войска во главе с боевым генералом Петром Ласси. Граф, впрочем, сражался как лев, и русские оставили на поле боя более 70 человек, после чего Мориц благополучно бежал. О чем же скорбел впоследствии этот несостоявшийся венценосец? Уж только не о курляндской вдовушке! Встретившийся с ним тогда испанский посол де Лириа-и-Херика говорит, что граф был обескуражен исключительно потерей… своего сокровенного дневника, куда регулярно вписывал всякие интимные подробности своих амурных дел.
А что Анна? Она длила свой давний роман с Бестужевым, пока того не отозвали в столицу, облыжно обвинив (с подачи Меншикова) в “курляндском кризисе”. Вновь оставшись одна, герцогиня отчаянно бомбардировала Петербург – сохранилось 26 жалобных писем, где она умоляла, просила, настаивала, требовала: верните Бестужева, без него все дела “встанут!”
Но письма от Анны вдруг словно оборвались в одночасье: в спальне герцогини место Петра Михайловича занял его протеже, тридцатисемилетний камер-юнкер Эрнст Иоганн Бирон. “Не шляхтич и не курляндец, – сетовал потом Бестужев, – пришёл из Москвы без кафтана и чрез мой труд принят ко Двору без чина, и год от году я, его любя, по его прошению, производил и до сего градуса произвел, и, как видно, то он за мою великую милость делает мне тяжкие обиды… [он] пришёл в небытность мою [в Курляндии] в кредит”.
“Кредит” Бирона, получившего впоследствии чин обер-камергера и титул герцога, оказался исключительно высоким – он занял главное место в сердце Анны. Это стало особенно ясно, когда она стала императрицей. Её привязанность к нему была настолько глубокой и сильной, что по существу составляла весь смысл её жизни. Говорили, что государыня, образуя вместе с Бироном и его женой Бенингной пресловутый любовный треугольник и воспитывая их, Биронов, детей, как родных, делала только то, что было угодно этому временщику. Вдова ревностно следила за любимым, не позволяя ему самовольно, без её участия, посещать пиры и увеселения. “Бирон, со своей стороны, тщательно наблюдал, дабы никто без ведома его не был допускаем к императрице, и если случалось, что по необходимой надобности герцог долженствовал отлучиться, тогда при государе неотступно находились Биронова жена и дети”. Михаил Щербатов отмечает, что Бирона и Анну связывала прочная дружба: “Она его более яко нужного друга себе имела, нежели как любовника”. Причём Бирон нравственно подчинил себе Анну и искусно пользовался этим для извлечения многообразных выгод и почестей, сделавших его одним из богатейших вельмож при Дворе. Однако, при всей гармоничности их отношений, императрица не могла не понимать, что с общепринятой точки зрения она погрязла в грехе сожительства с чужим мужем. Неудивительно, что под прицелом самодержицы оказалась мозолившая ей глаза своим семейным счастьем чета Волконских.
История их любви замечательна. А все началось с того, как записанный в Преображенский полк юный Волконский остановился в Митаве у Петра Бестужева, к которому имел рекомендательное письмо. Здесь-то и увидел он дочь обер-гофмаршала, Аграфену Петровну, поразившую его сразу своей раскрепощённостью и живостью: “Бестужева не только не робела перед ним, но, напротив, он чувствовал, что сам с каждым словом все больше и больше робеет пред нею и не смеет поднять свои глаза, глупо уставившиеся на маленькую, плотно обтянутую чулком, точеную ножку девушки, смело выглянувшую из-под её ловко сшитого шелкового платья… Волконский никогда еще не видал такой девушки. Тут не красота, не стройность, не густые брови и быстрые большие глаза притягивали к ней; нет, она вся дышала какою-то особенною чарующею прелестью”. Широко образованная и острая на язык, Аграфена уже в Митаве сделалась душой общества, развлекавшегося на свой лад в доме её отца. И сколь же не похожи были эти развеселые сборища на чопорные и натянутые куртаги герцогини курляндской! Там царствовала скука, здесь торжествовала непринужденность, радость общения. Неудивительно, что сама Анна нередко посещала Бестужевых, но главенствовала на сих празднествах вовсе не герцогиня, тяжеловесная и мрачноватая, а лёгкая в общении, притягательная Аграфена Петровна.
Между двумя дамами, казалось, установилось своего рода соперничество, в котором каждая из них тщилась уколоть и уязвить другую. Рассказывают, что однажды Бестужева, прознав о том, что герцогиня намерена прийти на бал в ярко-жёлтом пышном платье, распорядилась обить точно такою же материей всю мебель в гостиной. Разъяренная Анна уехала с бала, не желая ни минуты больше оставаться в проклятом доме. Она была вне себя.
В день свадьбы Аграфены и Никиты бестужевский дворецкий по русскому обычаю весело грохнул об пол поднос с хрусталём. Молодые были так несхожи: основательный, спокойный и домовитый Волконский и амбициозная, стремительная, жаждавшая широкого поля деятельности Бестужева. Но их любовь была воистину огромной.
Поступив на службу к своему тестю Петру Михайловичу, Никита поначалу и обосновался в Митаве, где у них с женой родился сын Михаил. “Волконский был счастлив своею жизнью и ничего не желал больше. Он обожал Аграфену Петровну и сына, они были с ним, и весь мир, вся суть его жизни сосредоточилась в этих двух существах, и вне их ничего не существовало для Никиты Федоровича”.
Однако семейная идиллия продолжалась недолго. Честолюбивой княгине было не по себе в курляндской глуши – она рвалась в столицу, думала о большом Дворе, о положении, которое могут занять со временем она и её князь. Наконец Никита уступил, и чета Волконских уехала в Петербург.
И поначалу всё как будто складывалось благополучно – Аграфену Петровну зачислили гоф-дамой в придворный штат императрицы Екатерины I. Более того, она энергично боролась за высокий чин обер-гофмейстерины при великой княжне Наталье Алексеевне. И в Северной Пальмире её прирождённая светскость оказалась крайне востребованной – вокруг обаятельной княгини объединились люди недюжинные (неслучайно с её именем историки связывают появление в России первого светского салона!). Пристанищем друзей стал небольшой дом Асечки Ивановны (так они называли княгиню) на Адмиралтейском острове, в Греческой улице. Среди завсегдатаев были: фаворит Елизаветы Петровны, будущий генерал-фельдмаршал Александр Бутурлин, камергер Екатерины I Семен Маврин, дипломат Исаак Веселовский и др. Нередко в салон Волконской захаживал знаменитый арап Петра Великого Абрам Ганнибал.
Никита Федорович не вмешивался в дела жены и собраний её друзей не посещал. Но от этого чувства Волконского нисколько не ослабели: “Он любил жену и был влюблён в неё так же, как и на другой день их свадьбы… Ему она казалась совершенно такою, какую он увидел её в первый раз, и он всегда с одинаковою нежностью и восторгом любовался ею”.
“Как это часто бывает в молодежных компаниях, – говорит историк, – друзья создали некий собственный мир шутливых отношений, со своими обычаями, смешными церемониями, словечками и прозвищами. Они любили собраться вместе, поболтать, потанцевать, выпить вошедшего в моду “кофею”. О том, насколько изощрялись друзья в словотворчестве, свидетельствуют письма Ганнибала к “милой государыне Асечке Ивановне”, подписанные “верный слуга Абрам”: “Кокетка, плутовка, ярыжница… непостоянница, ветер, бешеная, колотовка, долго ли вам меня бранить, своего господина, доколе вам буду терпеть невежество…, сударыня глупенькая, шалунья…”. Впрочем, друзей объединяло ещё одно свойство – все они (каждый по своим резонам) ненавидели могущественного тогда светлейшего князя Меншикова, на чей счет постоянно чесали языки.
Болтовня-то и погубила салон Волконской. Как-то раз Асечка принесла из дворца свежую сплетню: Меншиков возжелал женить наследника престола Петра Алексеевича (будущего Петра II) на своей дочери Марии. Услышав сие, друзья, не церемонясь в выражениях, костерили светлейшего князя, узурпировавшего власть в стране. Узнав о таком злословии, Меншиков незамедлительно расправился и с Асечкой и с её неосторожными товарищами. Волконской велено было ехать в её подмосковную деревню, Ганнибала отправили в сибирскую глухомань, остальных понизили в должности.
Есть и другая версия событий, выдвинутая известным историком Николаем Костомаровым. Согласно ей, Асечка подверглась опале по настоянию давно имевшей на нее зуб Анны Иоанновны: якобы во время обыска в доме Волконских “нашли у ней письмо родителя, в котором тот жаловался, что “отменилась к нему любовь друга Анны Ивановны”, отзывался с горечью и досадой о Бироне, а сама княгиня в перехваченном письме… называла Бирона “канальею” и просила говорить о нем дурно. Бирон был чрезвычайно мстителен и, узнав, как о нем отзываются, настраивал Анну Ивановну против Бестужева и его родни”. На наш взгляд, обе версии имеют право на существование: они не исключают, а дополняют друг друга.
Казалось, после низвержения и ссылки “прегордого Голиафа” Меншикова участь друзей должна была бы измениться к лучшему. Ан нет! Клеймо опалы продолжало тяготеть над ними и при новых правителях, ибо есть в России старое правило: “Власть зря не наказывает”. Масла в огонь подлил извет на Волконскую, писанный её дворней: она-де не сидит, как велено, смирно в своей деревне, а тайно отлучается в Москву, пишет какие-то цидулки, а то и встречается с приятелями. И хотя важных улик против нее не было, Верховный тайный совет, следуя навету, 28 мая 1728 года усмотрел в действиях обвиняемой заговор и постановил: “Княгиню Волконскую за… продерзости и вины… сослать по указу в дальной девич монастырь, а именно Введенский, что на Тихвине, и содержать её тамо неисходну под смотрением игуменьи… А ежели она, Волконская, станет чинить еще какие продерзости, о том ей, игуменье, давать знать тихвинскому архимандриту, которому велено… писать о том в сенат немедленно”. После заточения жены в монастырь “душевное состояние князя Никиты дошло до таких пределов невыразимой, безмерной муки, что он по временам терял сознание под её безысходным гнетом”.
Вступившая в 1730 году на престол Анна Иоанновна намеревалась поквитаться с Волконской и примерно наказать прежнюю соперницу и обидчицу. Но, заточенная в монашескую келью, Аграфена Петровна оказалась недосягаемой для мстительной императрицы. Все, что могла сделать Анна – это ужесточить в монастыре режим, посадить узницу на хлеб и воду. Но и этого монархине показалось мало. Тогда-то и пришла в голову Анны мысль отыграться на муже Аграфены. В наказание за жену она произвела его в шуты и вменила ему в обязанность пестовать и беречь, как зеницу ока, свою любимую собачку-левретку. С нескрываемым торжеством Анна распорядилась уведомить об этом честолюбивую княгиню. Последняя, переживая падение мужа и не выдержав унижений и тягот монашеской аскезы, в 1732 году умерла.
Как сложилась дальнейшая жизнь Никиты Федоровича? Известно лишь, что Анна Иоанновна впоследствии сменила гнев на милость, освободила его от обязанностей шута и в 1740 году пожаловала чин майора. Вскоре он умер и был похоронен в Боровском-Рождественском-Пафнутиевом монастыре, где покоились и его предки.
Сразу же после его кончины сын Волконских Михаил по милости императрицы был доставлен в Петербург и определен в привилегированный Кадетский корпус. Уж не запоздалое ли это раскаянье порфироносной самодурки?
Михаилу Никитичу Волконскому (1713–1788) суждено было войти в русскую историю. Он получил высокий чин генерал-аншефа, был кавалером всех российских и польских орденов, главнокомандующим Москвы, сенатором, полномочным министром. Словом, ему довелось оправдать надежды своей амбициозной матери.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Наказание Глинских
Наказание Глинских В 1547 году взбунтовалась Москва. Двадцать первого июня в городе вспыхнул пожар. Как отмечалось в летописи, «…загорелся храм Воздвижение честного креста за Неглинною на Арбатской улице на Острове. И бысть буря велика, и потече огнь, якоже молния, и пожар
Преступление и наказание
Преступление и наказание Средневековое общество было жестоким по определению, и оно было создано для войны. Некоторые историки удивлялись не столько жестокости, сколько редким мирным передышкам. Периоды относительного покоя иногда, действительно, имели место. Если
Князь П. М. Волконский
Князь П. М. Волконский Командирование Волконского в 1807 г. во Францию ? Роль Волконского как начальника штаба при российском императоре во время Заграничных походов ? Усовершенствование Волконским квартирмейстерской части ? Трения между Аракчеевым и Волконским и их
Князь Волконский и Ваня-ключник
Князь Волконский и Ваня-ключник В каменной Москве у князя у ВолконскогоТут живет-поживает Ваня-ключничек,Молодыя-то княгини полюбовничек.Ваня год живет, другой живет, князь не ведает;На третий-то на годочек князь доведался,Через ту ли через девушку через сенную,Через
Наказание
Наказание Главные противники Елизаветы – Миних, Остерман, Левенвольде и Головин – были отправлены в Петропавловскую крепость. Вины у всех были разные, часто придуманные на скорую руку, но расплата по законам XVIII века была жестокой. Елизавета, спрятавшись за занавеской,
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ВОЛКОНСКИЙ (1776—1852) Светлейший князь, военный и государственный деятель.
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ВОЛКОНСКИЙ (1776—1852) Светлейший князь, военный и государственный деятель. Русский княжеский род Волконских ведет свое начало от святого мученика, одного из самых почитаемых на Руси святых князей после Бориса и Глеба Михаила Черниговского. Правда,
Марья Гавриловна Савина и Никита Никитич Всеволожский. Вечная любовь «Несравненной»
Марья Гавриловна Савина и Никита Никитич Всеволожский. Вечная любовь «Несравненной» Марья Савина была знаменитой российской актрисой, звездой Александринского театра в Петербурге в конце XIX – начале XX века. Она не была обделена вниманием мужчин, но самой большой
Князь С В. Волконский.
Князь С В. Волконский. Ритуалы масонов (когда они шпагой поражали чучело монарха), обретали плоть и кровь. Пестель с немецкой педантичностью подготовил даже фигуру, на которую в случае возмущения излился бы гнев народный. Роль «козла отпущения» уготавливалась некоему
ПОРАЖЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
ПОРАЖЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В роковой день 25 февраля 1730 года аристократия, генералитет, шляхетство, гвардейское офицерство, поставленные перед выбором — прежнее рабство или некая, пускай достаточно низкая, но степень свободы, — выбрали рабство. Они выбирали по-разному: одни —
Федор Иванович Мерин Волконский
Федор Иванович Мерин Волконский Ф. И. Волконский принадлежал к мало выдающемуся в то время княжескому роду. Его представители никогда особо высоких чинов не имели. Первые сведения о службе Федора Ивановича относятся к зиме 1604/05 гг. — он был послан на смену воеводе М. С.