Первоначальное обучение и приемы воспитания
Первоначальное обучение и приемы воспитания
Мне шел тогда шестой год, следовательно, был я мальчик на смыслу и мог уже понимать буквы. 17-го числа июня, помянутого 1744 г., был тот день, в который меня учить начали, и я должен был ходить в дом к одному старику малороссиянину и учиться со многими другими. С каким успехом я учился, того не могу вам сказать, ибо того не помню, слышал только после, что понятием моим были все довольны, как напротив не довольны моим упрямством. Сие пристрастие в маленьком во мне было так велико, что великого труда стоило его преодолевать; но таковы бывают почти все дети, которых в малолетстве нежат, отчего и произошло, что учение мое более года продолжалось. Из всего оного помню я в особливости то, что первое обрадование родителям моим произвел я выучением почти наизусть одного Апостола из послания к Коринфянам, начинающегося сими словами: «Облецытеся убо яко избраннии Божия», и проч., и прочтением пред ними как сие случилось скоро после начатия учения моего, то родитель мой так был тем доволен, что пожаловал мне несколько денег на лакомство…

Не успела пройти святая неделя, как старания отца моего обо мне стали простираться от часу далее. Ему не хотелось, чтоб я вырос у него неучью и болваном, и он судил, что уже время отнять меня из рук женских и учить чему-нибудь дальнейшему, кроме грамоты русской. Паче всего хотелось ему, чтоб я знал также немецкий язык, которым он сам умел говорить и коим он в жизнь свою очень много пользовался, также и арифметики. Учители немцы и французы не были еще тогда в нашем отечестве таковы многочисленны, как ныне, их было очень мало, а сверх того и достаток отца моего не так был велик, чтоб мог он, и особливо в тогдашнее время, нанимать и содержать у себя в доме учителя нарочного, в отдаче же в люди был я еще слишком мал; итак, другого не оставалось, как искать какого-нибудь иного способа, и к удовольствию его таковой скоро и нашелся.
В полку его было не только офицеров, но и унтер-офицеров множество немцев: из сих последних вздумалось ему отыскать какого-нибудь поспособнее и приставить ко мне для научения немецкому языку. Но как большая часть сих немцев состояла из лифляндских и эстляндских дворян, и наиболее из небогатых, всего же меньше учившихся в молодости своей каким-нибудь наукам и разумеющих что-нибудь порядочное, то трудно было и между ними отыскать человека, и по долгом искании иного не оставалось, как взять прибежище и обратить внимание свое на одного унтер-офицера родом из Германии и приехавшего за немногие годы до того из Любека для принятия нашей службы. Прозвище ему было Миллер, а впрочем, назван он уже был у нас в службе Яковом Яковлевичем, поелику у нас всем иностранцам дают тотчас имена и отечества. Богу известно, какого был он рода, но только то мне известно, что он никаким наукам не умел, кроме одной арифметики, которую знал твердо, да умел также читать и писать очень хорошо по-немецки, почему заключаю, что надобно быть ему какому-нибудь купеческому сыну, и притом весьма не богатому, и воспитанному в простой городской школе, и весьма просто и низко.
Но как говорится в пословице, что «на безлюдье и сидни в честь», то в недостатке лучшего был отец мой и сему уже рад, ибо для первого случая довольно уже было и его знаний, потому что читать и писать мог и он уже меня научить, равно как и арифметике.
Таким образом назначен был сей иностранец мне в учители, взят в наш дом и я препоручен ему на руки. Для нас с ним отведен был особый уединенный покоец, и он начал меня учить всему, что знал, вдруг, то есть читать, писать по-немецки и самой арифметике понемногу.
Мне шел в сие время хотя девятый еще год, однако родители мои и сам учитель были понятием моим довольны. Я очень скоро научился читать, а и писать учиться мне не мудрено было, но не столько я доволен был своим учителем. Человек он был особливого — характера, нрав имел строптивый и своенравный, не мог терпеть никаких шуток, сердился и досадовал на всех за сие, а сие и побуждало других еще более над ним смеяться, и тем паче, что и собою был он очень дурен и губаст. Со мною обходился он не так, как хорошему учителю должно, но так как от неуча и грубого воспитания человека ожидать можно, и нередко принужден я был претерпевать от него лихо и проливать слезы.
Со всем тем и каков он ни был, но я за первое основание своего немецкого языка и арифметики обязан сему иностранцу; он научил меня читать и писать, но говорить научить был не в состоянии, а мучил меня только вокабулами…
Наилучшим пансионом почитался тогда в Петербурге тот, который содержал у себя кадетский учитель старик Ферре, живший подле самого кадетского корпуса и в зданиях, принадлежащих к оному; в сей-то пансион меня и отдали… По отъезде матери моей в деревню, а родителя с полком в Финляндию, остался я один в Петербурге, посреди людей, совсем мне незнакомых, и власно[26] как в лесу. Не могу никак забыть того дня, в который привезли меня в дом к учителю и оставили одного. Мне казалось, что я находился совсем в ином свете и дышал другим воздухом; все было для меня тут дико, все ново и все необыкновенно. Я принужден был начать вести совсем нового рода жизнь, и совсем для меня необыкновенную. Не мог я уже ласкаться, чтоб мог пользоваться тою негою, какою наслаждался в родительском доме. Маленькая постелька и сундучок с платьем составлял весь мой багаж, а дядька мой Артамон был один только мой знакомый. Прочие же все были незнакомы, и я долженствовал со всеми ознакомливаться и спознаваться, а особливо с теми, которые тут также по примеру моему жили. Учеников было тогда у учителя моего человек с двенадцать или с пятнадцать; некоторые были на его содержании, а другие прихаживали только всякой день учиться, а обедать и ночевать хаживали домой. Из числа первых и знаменитейший из всех был некто господин Нелюбохтин, сын одного полковника гарнизонного, да двое господ Голубцовых, которые были дети одного сенатского секретаря. Сии жили вместе со мною, и каждому из нас отведена была особливая конторочка в том же покое, где мы учились, досками отгороженная. Мне, как новичку и притом полковничьему сыну, отведена была наилучшенькая вместе с господином Нелюбохтиным, который был мальчик нарочито взрослый и притом тихого и хорошего характера, и потому я скоро с ним спознакомился и сдружился. Голубцовы были также меня старее, ибо мне было только 10 лет от роду, однако уже не таковы, как Нелюбохтин. Одного из них звали Александром, а другого позабыл. Я познакомился скоро и с ними, ибо были они не из числа дурных детей. Что ж касается до приходящих к нам учиться, то были они разные и между прочими одна нарочитого уже возраста девушка, дочь какой-то майорши; по прошествии долгого времени позабыл я, как ее звали, только то помню, что она при мне не долго училась, а и прочие из приходящих часто переменялись и то прибывали, то убывали. Как мне никто из них не был слишком короток, то и не помню я из них почти ни одного, что и неудивительно по моему возрасту.
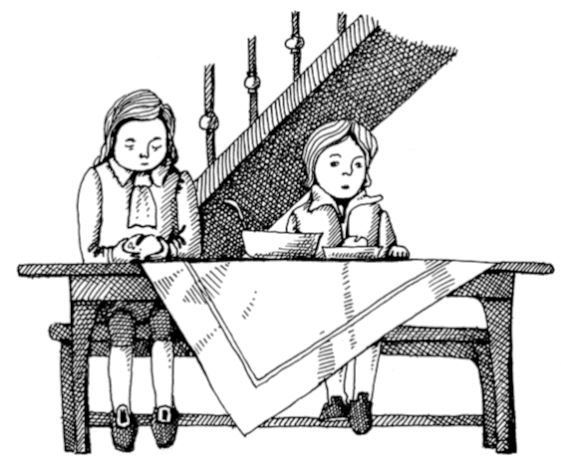
Учитель мой был человек старый, тихий и весьма добрый; он и жена его, такая же старушка, любили меня отменно от прочих. Он сам нас мало учивал, потому что по обязанности своей должен был всякий день ходить в классы в кадетский корпус и учить кадетов, и так доставалось ему самому нас учить двенадцатый час, да в вечер еще один час. Прочее время учил нас старший из его сыновей, которых было у него двое. Одного звать Александром, и он был нарочито уже велик и мог уже по нужде обучать и был малый изрядный, а другой еще маленькой, по имени Фридрих, и малой огненный, резвый и дурной. За резвость и бешенство его мы все не любили.
Что касается до содержания и стола для нас, то был он обыкновенно пансионный, то есть очень-очень умеренный; наилучший и приятнейший кусок составляли булки, приносимые к нам по утрам и которыми нас каждого оделяли. Сии были по счастию отменно хороши, и хлебник, пекущий оные, умел их так хорошо печь, что мне хороший вкус их и поныне еще памятен. Обеды же были очень-очень тощи и в самые скоромные дни, а в постные и того хуже. Но привычка чего не может сделать! — сколько сначала ни были мне такие тощие обеды маловкусны, однако я наконец привык и довольно бывал сыт, а особливо когда поутру либо лишнюю булочку, либо скоромный прекрасный кренделек купишь и съешь, которые так нам казались вкусными, что подберешь и крошечки. Нередко же случалось, что иногда и ложка-другая-третья хороших щей с говядиною, варимых для себя слугою моим, помогали обеду и которые нередко казались мне вкуснее и сытнее всего обеда.
Как я ученью французского языка начало сделал еще в Курляндии, и тут стоило только продолжать оный, то успех учения моего был весьма хороший. Я столь был понятен и прилежен, что менее нежели в полгода обогнал всех моих сотоварищей и сделался первенствующим в школе, и каков был ни мал, но мог всем указывать и за всеми поправлять. Учение наше состояло наиболее в переводах с русского на французский язык Езоповых басней и газет русских; и метода сия не дурна, мы чрез самое то спознакомливались от часу больше с французским языком, а переводя газеты, и с политическим и историческим штилем, и с званиями государств и городов в свете.
Как обещано было, чтоб выучить меня и географии, то чрез несколько времени принял учитель наш или пригласил какого-то немца, чтоб приходил к нам и учил нас часа два после обеда сей науке. Для меня была она в особливости приятна и любопытна. Я пожирал, так сказать, все говоренные учителем слова, и мне не было нужды два раза пересказывать. Европейская карта, которую он одну нам только и трактовал, впечатлелась так твердо в уме моем, что я мог всю ее пересказать по пальцам; но жаль, что учение сие не долго продолжалось: не знаю и не помню, что тому причиною было, что он ходил к нам не очень долго, по сему и учение было весьма слабое и короткое. Со всем тем получил я чрез сей случай нарочитое о географии понятие, но что более моей удобопонятности, охоте и любопытству приписывать должно; а судя по учению, то оное не принесло б мне дальней пользы, так как прочим пользовало оно очень мало.
Что принадлежит до истории, то сей науке в пансионе нашем не было обыкновения учить…
Но недостаток сей наградил я некоторым образом собственным своим любопытством и чрезвычайною охотою к чтению книг, полученною около сего времени. За охоту к тому обязан я книге «Похождение Телемака». Не могу довольно изобразить, сколь великую произвела она мне пользу! Учитель наш заставлял меня иногда читать ее у себя в спальне для науки, но я ее мало разумел по-французски, а по крайней мере узнал, что она такое, и, достав не помню от кого-то русскую, не мог довольно ей начитаться. Сладкий пиитический слог пленил мое сердце и мысли и влил в меня вкус к сочинениям сего рода, и вперил любопытство к чтению и узнаванию дальнейшего. Я получил чрез нее понятие о мифологии, о древних войнах и обыкновениях, о Троянской войне, и мне она так полюбилась, что у меня старинные брони, латы, шлемы, щиты и прочее мечтались беспрерывно в голове, к чему много помогали и картинки, в книге находившиеся. Словом, книга сия служила первым камнем, положенным в фундамент всей моей будущей учености, и куда жаль, что у нас в России было тогда еще так мало русских книг, что в домах нигде не было не только библиотек, но ни малейших собраний, а у французских учителей того меньше. Литература у нас тогда только что начиналась, следовательно, не можно было мне, будучи ребенком, нигде получить книг для читания.
Но не одним сим я, живучи в сем пансионе, воспользовался: я уже упоминал прежде, что я с самого малолетства получил великую склонность к рисованию и маранию красками. Еще в то время, как я учился писать по-русски, то писаришка, учитель мой, вперил в меня первую охоту рисованием своих кораблей, церквей, колоколен и прочего; дядька мой также умел гваздать колокольни и чернецов, и я насмотрелся у него. Охота сия возросла еще того более в Курляндии, когда учитель мой Чаах научил меня держать кисть в руках и безделицы ими мазать красками. Словом, склонность моя к сему искусству была так велика, что в то время, когда ехали мы из Курляндии в Петербург, почитал я наивеличайшим благополучием в свете, когда б мог я иметь котел с кранами вокруг, такой, чтоб из каждого крана текла мне из него разная краска, и какой бы я отвернул, такая бы и потекла. Но тут жил я, окружен будучи вокруг рисовальными мастерами, и имел наивожделеннейший случай насмотреться, как они рисуют и как составляют разные краски, и получить ближайшее понятие о сем искусстве; меня оно столь прельщало, что я досадовал, для чего меня не учат, и писал к родителю моему, чтоб он сделал милость и велел меня учить. Он и сделал мне сие удовольствие: живущий с нами об стену рисовальный мастер Дангауер нанят и приговорен был меня учить; итак, начал я к нему ходить и по нескольку часов учиться. Но какая досада была для меня, что учить меня начали не так, как мне хотелось, красками, а карандашом и рисовать все фигуры. В этом прошло все время, и мне не удалось поучиться рисовать красками и любимые свои ландшафты, которые мне всего были милее, но по крайней мере имел я тут случай насмотреться и узнать многое. Сам учитель рисовал очень хорошо, и наиболее яйца гусиные красками; я же научился у него изрядно рисовать карандашами…

…Продолжал я тут жить и учиться во весь остаток зимы, во всю весну и лето; а между тем родитель мой перешел с полком своим в самый город Выборг, ибо полку его велено было стоять тут во все лето лагерем. Желал бы он охотно, чтоб я прожил у учителя моего еще год, но усиливающаяся его слабость и болезненное состояние принудили его прервать, против хотения своего, мое учение и взять меня к себе из Петербурга. Он прислал за мною нарочных лошадей, и я принужден был, оставив Петербург и все свои науки, к нему в Выборг ехать…
Таким образом, не продолжалось учение мое в Петербурге более одного года, и заплачено за меня с небольшим сто рублей, но сии сто рублей принесли мне великую пользу. Лета мои, сколь ни были еще нежны и малы, однако я тут многому набрался не столько учася, сколько наглядкою. Что ж принадлежит до французского языка, то оному, судя по летам моим, я довольно выучился и не только мог говорить, но и переводить по нужде. Напротив того, немецкий язык я совсем почти позабыл, ибо как во всей нашей школе ни один человек не разумел и не говорил по-немецки, то, не имея случая целый год ни с кем ни единого слова промолвить, и разучился я оному так, что не умел и пикнуть. Вот что делает отвычка и не употребление! Однако читать, писать и разуметь я все-таки еще мог.
По приезде моем в Выборг нашел я родителя моего стоящего на маленькой квартирке по ту сторону города и подле самого поля по конец всего форштадта[27], где неподалеку стоял и полк его лагерем… Родитель мой не преминул меня проэкзаменовать во всех моих знаниях. Он доволен был, что я по-французски сколько-нибудь научился, любовался моими рисунками, а паче всего мило ему было, что я имел уже некоторое понятие о географии. Он сам любил и знал сию науку и не мог довольному моему знанию нарадоваться, а не менее и я рад был, что нашел у него целый атлас с ландкартами и мог любопытство свое по желанию удовольствовать. Одно только родителю было не весьма приятно, что я за французским языком совсем немецкий позабыл. Чтоб пособить сему сколько-нибудь, то заставил он прежнего учителя моего Миллера, который у него в доме жил, по нескольку часов в день возобновлять мне язык сей. Я принужден был ходить к нему в сарай, где он имел свое жилище, и там препровождать с ним по нескольку часов в читанье и говоренье; однако хотя продолжалось сие более месяца, но пользы от него получил я мало, ибо он совсем не способен был к учению.

Сию скуку заменял я в праздное время другими и приятнейшими для меня упражнениями. Я узнал, что у родителя моего был целый ящик с книгами. Я добрался до оного, как до некоего сокровища, но, к несчастью, не нашел я в них для себя годных, кроме двух, а именно: Курасова сокращения истории[28] и истории принца Евгения[29]. Не могу, однако, довольно изобразить, сколько сии немногие книги принесли мне пользы и удовольствия. Первую я несколько раз прочитал и получил через нее первейшее понятие об истории, а вторую не мог довольно начитаться: она мне очень полюбилась, и я получил через нее понятие о нынешних войнах, об осадах крепостей и многом, до новой истории относящемся. Пуще всего было мне приятно и полезно, что в книге сей находились планы баталиям и крепостям.
Я скоро научился их разбирать и получил такую охоту к военному делу, что у меня одни только крепости, батареи, траншеи, ретраншементы и прочие укрепления на уме были. Нередко просиживал я по нескольку часов, читая сию милую для меня книгу и рассматривая чертежи и рисунки. И читание сие подало однажды повод к особливому происшествию: как я однажды ее сим образом читал, то вздумалось родителю моему, лежащему в комнаточке, отгороженной от того покоя, где я читал, спросить меня, что я делаю.
— Читаю, батюшка, книгу, — сказал я.
— А какую, мой друг?
— Принца Евгения.
— О мой друг! — сказал родитель мой, сие услышав. — Книгу сию читать тебе еще рано.
— Но почему же? — спросил я. — Я ее довольно понимаю и разумею, и мне она очень полюбилась.
— Ну, хорошо, мой друг, — сказал родитель мой, — ежели так, то пожалуй себе читай.
А услышав, что я ее уже в другой раз читаю, а Кураса три раза прочел, похвалил меня за охоту мою к чтению и за мое любопытство особливое.
А. Болотов
«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков»
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Первоначальное расселение словен
Первоначальное расселение словен Первые письменные сведения о словенах восходят к концу V — началу VI в. В совокупности с археологическими материалами они позволяют очертить границы расселения славянских племен.Особенно ценно свидетельство Иордана, опирающегося на
Первоначальное расселение антов
Первоначальное расселение антов Антам рубежа V–VI вв. Кассиодор отводит территорию к востоку от словен, от Днестра до Днепра. При этом кажется, что южной границей их он полагает Черное море («там, где Понтийское море делает дугу, простираются от Данастра вплоть до
Часть третья Первоначальное «собирание земли русской»
Часть третья Первоначальное «собирание земли русской» 1Русская историческая наука, и, естественно, советская, вдохновенно внушала всем слушателям о великом предначертании Москвы, о ее исторической миссии по «собиранию земли русской», о величайшем благе для покоренных
Первоначальное пространство московского Кремля
Первоначальное пространство московского Кремля Это был московский Кремль в первоначальном своем очертании: он занимал, как это выяснено И. Е. Забелиным в его Истории г. Москвы, западный угол кремлевской горы, обрывавшийся крутым мысом к устью Неглинной у нынешних
Первоначальное воспитание. Игрушки
Первоначальное воспитание. Игрушки Игра — занятие детское. «Пока жила, я играла» (dum vixi, lusi), — гласит надгробие пятилетней Геминии Агаты{385}. Девочке, как и мальчику, уже во младенчестве давали шумные игрушки (чаще металлические, иногда глиняные): трещотки (sistrum) и
§ 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
§ 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО При Екатерине II административное устройство частей Белоруссии, присоединенных по второму и третьему разделам, сообразовалось с тем устройством, какое было дано частям, присоединенным по первому разделу. Поэтому
Приложение 1 Первоначальное распределение английских войск в Южной Африке
Приложение 1 Первоначальное распределение английских войск в Южной Африке Войска в Натале 4-я пехотная дивизия – командир полковник Пэнн-Саймонс (Penn-Symons)1-я пехотная бригада – полковник Говард.1-й батальон Девонширского полка.2-й батальон Гайлендеров Гордона.1-й батальон
Методы воспитания
Методы воспитания Конечно, чтобы управлять подобной иерархической структурой и поддерживать ее в надлежащем равновесии, необходимо «формировать», воспитывать, убеждать тех, кто состоит в обществе, что они идут по правильному пути. И внушаемые убеждения должны быть
Первоначальное расселение словен
Первоначальное расселение словен Первые письменные сведения о словенах восходят к концу V — началу VI в. В совокупности с археологическими материалами они позволяют очертить границы расселения славянских племен.Особенно ценно свидетельство Иордана, опирающегося на
Первоначальное расселение антов
Первоначальное расселение антов Антам рубежа V–VI вв. Кассиодор отводит территорию к востоку от словен, от Днестра до Днепра. При этом кажется, что южной границей их он полагает Черное море («там, где Понтийское море делает дугу, простираются от Данастра вплоть до
1.1. Первоначальное основание итальянского Рима в XIV веке
1.1. Первоначальное основание итальянского Рима в XIV веке Согласно нашей реконструкции, итальянский Рим был основан Иваном Калитой = ханом Батыем в первой половине XIV века во время великого = «монгольского» завоевания. Поясним нашу мысль.Как мы обнаружили, Иван Калита, они
3. Первоначальное место обитания кельтов; их приход в Галлию
3. Первоначальное место обитания кельтов; их приход в Галлию Прежде всего необходимо уточнить, где изначально жили кельты. Античные авторы дают на этот счет весьма неопределенные и даже противоречивые сведения. Геродот располагал Кельтику в верховьях Дуная; к сожалению,
Первоначальное накопление по Марксу
Первоначальное накопление по Марксу Вернемся в первый том «Капитала» и обратимся к последней (фактически), XXIV, главе, которую Маркс назвал «Так называемое первоначальное накопление». Эпитет «так называемое» очевидно выражает иронию автора (дескать, все было не так, как
§ 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ ТВЕРСКОГО КРАЯ
§ 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ ТВЕРСКОГО КРАЯ Археологи нашли в Тверской области около 3000 поселений каменного века. Её заселение человеком стало возможным в конце и после таяния валдайского ледника — с 10-го тыс. до н.э. или несколько ранее.Юг и восток области были свободны