Часть II
Часть II
В начале 1751 года великий князь, полюбивший так же, как и я, посланника Венского двора графа Берни, вздумал говорить с ним о своих голштинских делах, о долгах, которыми страна эта тогда была обременена, и о начатых с его разрешения переговорах с Данией. Он мне сказал как-то раз, чтоб и я поговорила с графом Берни; я ответила, что, если он мне это приказывает, я не премину это сделать. Действительно, на первом же маскараде я подошла к графу Берни, остановившемуся у балюстрады, за которой танцевали, и сказала, что великий князь приказал мне поговорить с ним о делах Голштинии.
Граф Берни выслушал меня с большим интересом и вниманием. Я ему вполне откровенно сказала, что хотя я молода и мне не с кем посоветоваться, в делах, может быть, плохо смыслю и вовсе не имею опыта, который я могла бы привести в свою пользу, но взгляды у меня свои собственные; пусть не хватает для этого многих знаний, но мне кажется прежде всего, что голштинские дела не в таком отчаянном положении, как хотят их представить.
Далее, что касается обмена самого по себе, то я довольно хорошо понимаю, что он может быть полезнее для России, чем лично для великого князя; конечно, ему, как наследнику престола, должен быть дорог и важен интерес империи; если для этого интереса необходимо нужно, чтоб великий князь отделался от Голштинии, дабы прекратить нескончаемый разлад с Данией, то и тогда дело лишь в том, чтобы, сохраняя пока Голштинию, выбрать наиболее благоприятный момент, когда бы великий князь согласился на это; настоящее время, как мне кажется, не такой момент ни для интереса империи, ни для личной славы великого князя; между тем могло бы наступить время или обстоятельства, которые сделали бы этот акт и более важным, и более славным для него, и, может быть, более выгодным для самой Российской империи; но теперь все это имеет вид явной интриги, которая при удаче придаст великому князю такой вид слабости, от которого он не оправится, может быть, в общественном мнении во всю свою жизнь; он, так сказать, лишь немного дней управляет делами своей страны, он страстно любит эту страну, и, несмотря на это, удалось убедить его обменять ее, неизвестно зачем, на Ольденбург, которого он совсем не знает и который больше удален от России; сверх того, один только Кильский порт в руках великого князя может быть важен для русского мореплавания.
Граф Берни вошел во все мои соображения и сказал мне в заключение: «Как посланник на все это я не имею инструкций, но как граф Берни я думаю, что вы правы». Великий князь сказал мне после этого, что имперский посланник ему сказал: «Все, что я могу сказать вам об этом деле, так это то, что, по моему мнению, ваша жена права, и что вы очень хорошо сделаете, если ее послушаете».
Вследствие этого великий князь очень охладел к этим переговорам, что, очевидно, и заметили и что было причиной, по которой стали с ним реже говорить об этом. После Пасхи мы по обыкновению переехали на некоторое время в Летний дворец, а оттуда – в Петергоф. Пребывание здесь с каждым годом становилось короче.
В этом году случилось событие, которое дало придворным пищу для пересудов. Оно было подстроено интригами Шуваловых. Полковник Бекетов, о котором говорилось выше, со скуки и не зная, что делать во время своего фавора, который дошел до такой степени, что со дня на день ждали, кто из двоих уступит свое место другому, то есть Бекетов ли Ивану Шувалову, или последний первому, – вздумал заставлять малышей певчих императрицы петь у себя.
Он особенно полюбил некоторых из них за красоту их голоса, и так как и он сам, и его друг Елагин были стихотворцы, то он сочинял для них песни, которые дети пели. Всему этому дали гнусное толкование; знали, что ничто не было так ненавистно в глазах императрицы, как подобного рода порок. Бекетов, в невинности своего сердца, прогуливался с этими детьми по саду: это было вменено ему в преступление.
Императрица уехала в Царское Село дня на два и потом вернулась в Петергоф, а Бекетов получил приказание остаться там под предлогом болезни. Он там остался в самом деле с Елагиным, схватил там горячку, от которой чуть не умер, и в бреду он говорил только об императрице, которой был всецело занят; он поправился, но остался в немилости и удалился, после чего был переведен в армию, где не имел никакого успеха. Он был слишком изнежен для военного ремесла.
В это время мы поехали в Ораниенбаум, где бывали каждый день на охоте; к осени вернулись в город.
В сентябре императрица определила камер-юнкером к нашему двору Льва Нарышкина[78]. Он только что вернулся с матерью, братом, женой этого последнего и с тремя своими сестрами из Москвы. Это была одна из самых странных личностей, каких я когда-либо знала, и никто не заставлял меня так смеяться, как он.
Это был врожденный арлекин, и если бы он не был знатного рода, к какому он принадлежал, то он мог бы иметь кусок хлеба и много зарабатывать своим действительно комическим талантом: он был очень неглуп, обо всем наслышан, и все укладывалось в его голове оригинальным образом.
Он был способен создавать целые рассуждения о каком угодно искусстве или науке; употреблял при этом технические термины, говорил по четверти часа и более без перерыву, и в конце концов ни он и никто другой ничего не понимали во всем, что лилось из его рта потоком вместо связанных слов, и все под конец разражались смехом.
Он, между прочим, говорил об истории, что он не любит истории, в которой были только истории, и что, для того чтобы история была хороша, нужно, чтобы в ней не было историй, и что история, впрочем, сводится к набору слов. Еще в вопросах политики он был неподражаем. Когда он начинал о ней говорить, ни один серьезный человек этого не выдерживал без смеха.
Он говорил также, что хорошо написанные комедии большею частью скучны. Как только он был назначен ко двору, императрица дала его старшей сестре приказание выйти замуж за некоего Сенявина[79], который для этого был определен камер-юнкером к нашему двору. Это было громовым ударом для девицы, которая вышла за него замуж лишь с величайшим отвращением.
Брак этот был очень дурно принят обществом, которое взвалило всю вину на Шувалова, фаворита императрицы; он имел большую склонность к этой девице до своего фавора, и ее так неудачно выдали замуж только для того, чтобы он потерял ее из виду. Это было поистине тираническое преследование; наконец, она вышла за него замуж, впала в чахотку и умерла.
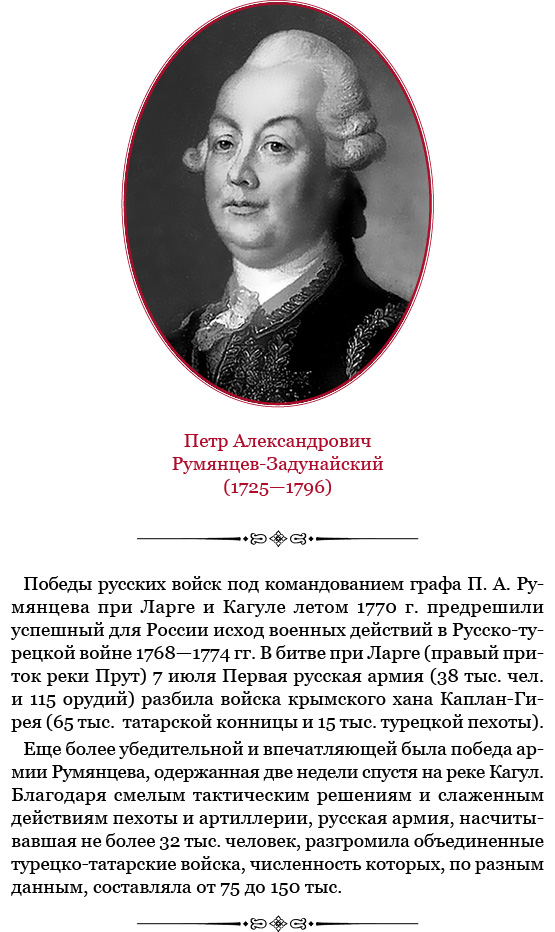
В конце сентября мы снова перешли в Зимний дворец. При дворе в это время был такой недостаток в мебели, что те же зеркала, кровати, стулья, столы и комоды, которые нам служили в Зимнем дворце, перевозились за нами в Летний дворец, а оттуда – в Петергоф и даже следовали за нами в Москву.
Билось и ломалось в переездах немалое количество этих вещей, и в таком поломанном виде нам их и давали, так что трудно было ими пользоваться; так как нужно было особое приказание императрицы на получение новых вещей и большею частью трудно, а подчас и невозможно было до нее добраться, то я решила мало-помалу покупать себе комоды, столы и самую необходимую мебель на собственные деньги, как для Зимнего, так и для Летнего дворца, и, когда мы переезжали из одного в другой, я находила у себя все, что мне было нужно, без хлопот и потерь при перевозке. Такой порядок полюбился великому князю; он завел такой же для своих покоев.
Что касается Ораниенбаума, принадлежавшего великому князю, мы там имели за свой счет все, что нам было нужно. Для своих комнат в этом дворце я все покупала на свои деньги, во избежание всяких споров и затруднений, ибо Его Императорское Высочество, хотя и очень был мотоват на все свои прихоти, но жалел денег на все, что меня касалось, и, вообще, вовсе не был щедрым; но так как то, что я делала для своих комнат на собственный кошт, служило к украшению дома, то он был очень этим доволен.
В течение этого лета Чоглокова особенно меня полюбила, и так искренно, что, вернувшись в город, не могла без меня обойтись и скучала, когда я не бывала с ней. Сущность этой привязанности заключалась в том, что я совсем не отвечала на привязанность, которую ее супругу угодно было ко мне проявить, что придало мне необычайную заслугу в глазах этой женщины.
По возвращении в Зимний дворец Чоглокова каждый день после обеда присылала за мной с приглашением к себе; у нее бывало немного народу, но все же больше, чем у меня, где я была одна за чтением или с великим князем, который появлялся только затем, чтобы ходить большими шагами по моей комнате и говорить о вещах, которые его интересовали, но для меня не имели никакой цены.
Эти прогулки продолжались часа по два и повторялись несколько раз в день; надо было шагать с ним до изнеможения, слушать со вниманием; надо было ему отвечать, а речи его были большею частью бессвязны, и воображение его часто разыгрывалось. Помню, что как-то раз он был занят почти целую зиму проектом постройки в Ораниенбауме дачи в виде капуцинского монастыря, где он, я и весь двор, который его сопровождал, должны были быть одеты капуцинами; он находил это одеяние прелестным и удобным.
Каждый должен был иметь клячу и по очереди ездить на ней за водой или возить провизию в мнимый монастырь; он помирал со смеху и был вне себя от удовольствия ввиду изумительных и забавных эффектов, какие произведет его выдумка. Он заставил меня набросать карандашом план этой чудесной затеи, и каждый день надо было прибавлять или убавлять что-нибудь.
Как я ни была полна решимости быть в отношении к нему услужливой и терпеливой, признаюсь откровенно, что очень часто мне было невыносимо скучно от этих посещений, прогулок и разговоров, ни с чем по нелепости не сравнимых. Когда он уходил, самая скучная книга казалась восхитительным развлечением.
К концу осени при дворе возобновились дворцовые и публичные балы, так же как и погоня за нарядами и изысканностью маскарадных костюмов. Граф Захар Чернышев вернулся в Петербург; как к старинному знакомому я продолжала очень хорошо к нему относиться; от меня зависело на этот раз принимать его ухаживания, как мне угодно. Он начал с того, что сказал мне, что находит меня очень похорошевшей. В первый раз в жизни мне говорили подобные вещи. Мне это понравилось и даже больше: я простодушно поверила, что он говорит правду.
На каждом балу – новые разговоры в том же духе; как-то раз княжна Гагарина принесла мне от него девиз; разламывая его, я заметила, что он был вскрыт и подклеен; билетик в нем был, как всегда, печатный, но это были два стиха, очень нежных и чувствительных. Я велела принести себе после обеда девизы и стала искать между ними билетик, который мог бы отвечать, не компрометируя меня, на его билетик; нашла подходящий, положила его в девиз, изображавший апельсин, и дала его княжне Гагариной, которая передала его графу Чернышеву.
На следующий день она принесла мне от него еще девиз, но на этот раз я нашла в нем его собственноручную записку в несколько строк. На этот раз и я ответила, и вот мы с ним в правильной, очень чувствительной переписке. На первом маскараде, танцуя со мною, он стал мне говорить, что имеет сказать мне тысячу вещей, которых не смеет доверить бумаге или вложить в девиз, так как княжна Гагарина может раздавить его в кармане или потерять по дороге, а потому он просит назначить ему на минуту свидание у меня в комнате или где это я найду удобным.
Я ответила ему, что это совершенно невозможно, что мои комнаты совершенно недоступны и что я также не могу выходить из них. Он мне сказал, что переоденется, если это нужно, лакеем, но я наотрез отказалась, и дело остановилось на переписке, какую прятали в девизы. Наконец, княжна Гагарина спохватилась, что из этого может выйти, стала бранить меня за то, что я ей это поручаю, и не захотела больше принимать девизы.
Между тем окончился 1751 год и начался 1752 год. В конце Масленой граф Чернышев уехал в свой полк. За несколько дней до его отъезда мне надо было пустить кровь. Это было в субботу; в следующую среду Чоглоков пригласил нас к себе на остров в устье Невы; он имел там дом, состоявший из одного зала посередине и нескольких боковых комнат. Рядом с этим домом он велел устроить катальные горы.
Приехав туда, я застала графа Романа Воронцова, который, увидав меня, сказал: «Я все устроил, я заказал отличные санки для катанья с гор». Так как он и раньше часто меня катал, я охотно приняла его предложение, и тотчас же он велел привезти санки, в которых было своего рода маленькое кресло; я в него уселась, а он стал позади меня, и мы начали спускаться, но на половине ската он не справился с санями: они опрокинулись, я вылетела вон, а граф Воронцов, очень тяжеловесный и неуклюжий, повалился на меня, или, вернее, на мою левую руку, из которой дня за четыре, за пять назад пускали кровь. Я поднялась, и он также, и мы пошли пешком к придворным саням, поджидавшим всех, кто скатывался, и отвозившим их на место, откуда они спускались, чтобы желающие могли снова кататься.
Сидя в этих санях с княжною Гагариной, которая вместе с графом Иваном Чернышевым поехала со мною, причем Чернышев и Воронцов стояли на запятках, я почувствовала, что левую мою руку обдает теплом от неизвестной мне причины; я засунула правую руку в рукав шубы, чтобы узнать, в чем дело, и, вытащив ее, увидела, что она в крови. Я сказала обоим графам и княжне, что, по-видимому, у меня открылась жила и что из нее течет кровь.
Они погнали сани, и, вместо гор, мы отправились домой; там мы нашли только одного тафельдекера. Я сняла шубу, тафельдекер дал нам уксусу, и граф Чернышев исполнял обязанности хирурга. Мы все согласились и рта не открывать насчет этого происшествия. Как только рука моя была перевязана, я вернулась на горы; весь остальной вечер я танцевала; потом мы поужинали, я вернулась домой, и никто не подозревал, что со мною случилось; однако от этого у меня почти на месяц как бы отнялся большой палец на руке; но понемногу это прошло.
Потом у меня была сильная перебранка с Чоглоковой; вот в чем дело. Мать моя с некоторых пор находилась в Париже; старший сын генерала Ивана Федоровича Глебова[80], вернувшись из этой столицы, передал мне от матери два куска очень богатых и красивых материй. Глядя на них в присутствии Шкурина, который их развертывал у меня в уборной, я невольно сказала, что эти материи так хороши, что мне хотелось бы подарить их императрице.
И, действительно, я выжидала минуту, чтобы сказать о них Ее Императорскому Величеству; я видела ее очень редко, и то большей частью в публике. Я не говорила об этом с Чоглоковой. Это был подарок, который я хотела сделать лично; я запретила Шкурину говорить кому бы то ни было о том, что у меня сорвалось с языка только при нем; но он первым делом поспешил передать тотчас Чоглоковой то, что у меня сорвалось с языка.
Через несколько дней, в одно прекрасное утро Чоглокова вошла ко мне и сказала, что императрица велела поблагодарить меня за материи, что она оставила одну, а другую возвращает мне. Я была поражена от удивления, услышав это. Я сказала: «Как?» Тогда Чоглокова ответила мне, что она снесла мои материи императрице, услыхав, что я их предназначаю Ее Императорскому Величеству.
Тут я так рассердилась, как и не упомню, чтобы это со мной случалось; я бормотала, почти не могла говорить, но все же сказала Чоглоковой, что я радовалась тому, что подарю сама эти материи императрице, и что она лишила меня этой радости; что она, Чоглокова, не могла знать моих намерений, потому что я ей не говорила о них, и что если она их знала, то только из уст предателя-лакея, который выдал свою госпожу, ежедневно осыпавшую его благодеяниями.
Чоглокова, у которой всегда были свои доводы, сказала мне и стала утверждать, что я никогда не должна ни о чем сама говорить с императрицей, что она мне объявляла этот приказ от имени Ее Императорского Величества, и что мои слуги должны были передавать ей все, что я говорю, что, следовательно, Шкурин исполнил только свой долг, а она – свой, снеся Ее Императорскому Величеству без моего ведома предназначенные мной для императрицы материи, и что все это сделано правильно.
Я не мешала ей говорить, потому что у меня не было слов от гнева; наконец, она ушла; я направилась в маленькую переднюю, где Шкурин обыкновенно находился по утрам и где были мои платья; застав его там, я влепила ему изо всех сил здоровую пощечину и сказала, что он предатель и самый неблагодарный из людей, так как посмел передать Чоглоковой, о чем я запретила ему говорить; что я осыпала его благодеяниями, а он выдавал меня даже в таких невинных словах; что с этого дня я больше ничего не стану ему давать, что я его прогоню и велю отодрать.
Я его спросила, на что он рассчитывает при таком поведении; ведь я всегда останусь тем, что я есть, а Чоглоковы, всеми ненавидимые и презираемые, кончат тем, что их выгонит сама императрица, которая, наверное, рано или поздно признает и их непроходимую глупость, и неспособность к своей должности, на которую определил их своими происками дурной человек; что если он хочет, то ему стоит только пойти передать то, что я ему сейчас сказала; что со мной из-за этого, конечно, ничего не случится, но он сам увидит, что с ним будет. Мой Шкурин упал на колени, заливаясь горючими слезами, и просил у меня прощения, с искренним, как мне показалось, раскаянием.
Я была тронута и сказала, что дальнейшее его поведение покажет мне путь, какого мне с ним держаться, и что с его поведением я согласую свое обращение. Это был толковый малый, у которого не было недостатка в уме и который никогда больше не поступал против меня; наоборот, он дал мне доказательства самого явного усердия и верности в наиболее трудные времена.
На выкинутую Чоглоковой со мною штуку я жаловалась всем, кому могла, дабы это дошло до ушей императрицы. Увидев меня, императрица поблагодарила меня за материи, и я из третьих рук узнала, что она не одобряет поступка Чоглоковой; дело на этом и закончилось.
После Пасхи мы перешли в Летний дворец. Я уже несколько времени замечала, что камергер Сергей Салтыков бывал чаще обыкновенного при дворе; он всегда приходил со Львом Нарышкиным, который всех забавлял своей оригинальностью, – я уже привела некоторые черты ее. Сергей Салтыков был ненавистен княжне Гагариной, которую я очень любила и к которой питала даже доверие. Льва Нарышкина все терпели и смотрели на него, как на личность совсем не значащую и очень оригинальную.
Сергей Салтыков заискивал, как только мог, у Чоглоковых; но так как Чоглоковы не были ни приятны, ни умны, ни занимательны, то его частые посещения должны были иметь какие-нибудь скрытые цели.
Чоглокова была тогда беременна и часто нездорова; так как она уверяла, что я ее развлекаю летом так же, как и зимою, то она часто просила, чтобы я к ней приходила. Сергей Салтыков, Лев Нарышкин, княжна Гагарина и некоторые другие бывали обыкновенно у нее, когда не было концерта у великого князя или представления при дворе. Концерты надоедали Чоглоковой, которая или поздно, или совсем на них не появлялась. Чоглоков никогда их не пропускал.
Сергей Салтыков нашел необыкновенное средство занимать его. Не знаю, как он выискал в этом человеке, самом тупом и лишенном всякого воображения и ума, страстную наклонность к сочинению песен, не имевших здравого смысла. Как только сделано было это открытие, каждый раз, как хотели отделаться от Чоглокова, просили его сочинить новую песню; он с большою готовностью сейчас же садился в угол комнаты, большею частью к печке, и принимался за свою песню, что заполняло весь вечер.
Потом находили песню прелестной, это его поощряло сочинять все новые. Лев Нарышкин клал их на музыку и пел с Чоглоковым, а пока тот их сочинял, разговор шел в комнате без стеснения и говорили что угодно, ибо когда Чоглоков куда-нибудь усаживался, то он уже не вставал со стула во весь вечер; таким образом, от места, где он сидел, зависело, чтобы он был удобен или неудобен, невыносим или очарователен; последним он бывал только тогда, когда находился очень далеко. У меня была толстая книга его песен, не знаю, что с ней сталось.
Во время одного из этих концертов Сергей Салтыков дал мне понять, какая была причина его частых посещений. Я не сразу ему ответила; когда он снова стал говорить со мной о том же, я спросила его: на что же он надеется? Тогда он стал рисовать мне столь же пленительную, сколь полную страсти картину счастья, на какое он рассчитывал; я ему сказала: «А ваша жена, на которой вы женились по страсти два года назад, в которую вы, говорят, влюблены и которая любит вас до безумия, – что она об этом скажет?»
Тогда он стал мне говорить, что не все то золото, что блестит, и что он дорого расплачивается за миг ослепления. Я приняла все меры, чтобы заставить его переменить эти мысли; я простодушно думала, что мне это удастся; мне было его жаль. К несчастью, я продолжала его слушать; он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем.
У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какой дают большой свет и особенно двор. Ему было 26 лет; вообще, и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся; свои недостатки он умел скрывать: самыми большими из них были склонность к интриге и отсутствие строгих правил; но они тогда еще не развернулись на моих глазах.
Я не поддавалась всю весну и часть лета; я видала его почти каждый день; я не меняла вовсе своего обращения с ним, была такая же, как всегда и со всеми: я видела его только в присутствии двора или некоторой его части. Как-то раз я ему сказала, чтобы отделаться, что он не туда обращается, и прибавила: «Почем вы знаете, может быть, мое сердце занято в другом месте?»
Эти слова не отбили у него охоту, а наоборот, я заметила, что преследования его стали еще жарче. При всем этом о милом супруге и речи не было, ибо это было дело известное, что он не любезен даже с теми, в кого он влюблен, а влюблен он был постоянно и ухаживал, так сказать, за всеми женщинами; только та, которая носила имя его жены, была исключена из круга его внимания. Между тем Чоглоков пригласил нас на охоту на свой остров, и мы все туда отправились в лодках; наши лошади были высланы вперед.
Тотчас по приезде я села на лошадь, и мы поскакали за собаками. Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему; я слушала его терпеливее обыкновенного. Он нарисовал мне картину придуманного им плана, как покрыть глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае.
Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно меня любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему не равнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения.
Наконец, он стал делать сравнения между другими придворными и собою и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится.
Часа через полтора разговора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему не равнодушна; я ответила: «Да, да, но только убирайтесь», а он: «Я это запомню» – и пришпорил лошадь; я крикнула ему вслед: «Нет, нет!», а он повторил: «Да, да!». Так мы расстались.
Вернувшись в дом, находившийся на острове, мы там поужинали; во время ужина поднялся сильный ветер с моря, который вздымал волны так сильно, что они поднялись до ступеней лестницы и весь остров был покрыт водою на несколько футов над уровнем моря. Мы были принуждены оставаться на острове у Чоглокова, пока не утихнет буря и не спадет вода, что продолжалось часов до двух или до трех утра.
В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, доставляя ему возможность дольше любоваться мною, и наговорил еще множество подобных вещей; он уже считал себя очень счастливым, а я не совсем была счастлива; тысяча опасений смущали мой ум, и я была, по-моему, очень скучна в этот день и очень недовольна собою; я думала, что могу управлять его головой и своей и направлять их, а тут поняла, что и то, и другое очень трудно, если не невозможно.
Два дня спустя Сергей Салтыков сказал мне, что один из камер-лакеев великого князя, Брессан[81], француз родом, передал ему, что Его Императорское Высочество сказал в своей комнате: «Сергей Салтыков и моя жена обманывают Чоглокова, уверяют его, в чем хотят, а потом смеются над ним».
Надо правду сказать, что отчасти оно так и было, и великий князь это заметил. Я ему посоветовала в ответ, чтобы впредь он был более осмотрителен. Несколько времени спустя у меня сильно заболело горло, что продолжалось более трех недель при сильном жаре, во время которого императрица прислала мне княжну Куракину, выходившую замуж за князя Лобанова.
Я должна была ее причесывать; ее усадили для этого в придворном платье и в больших фижмах на мою постель; я старалась, как могла; но Чоглокова, видя, что мне не удастся убрать ей голову, велела ей сойти с моей постели и докончила ее прическу. Я не видала этой дамы с тех пор.
Великий князь был тогда влюблен в девицу Марфу Исаевну Шафирову, которую императрица недавно приставила ко мне так же, как и ее старшую сестру, Анну Исаевну. Сергей Салтыков, который по части интриг был настоящий бес, втерся к этим двум девицам, чтобы узнавать, какие могли быть на его счет речи у великого князя с двумя сестрами, и чтоб извлечь из них себе пользу. Эти девушки были бедные, довольно глупые и очень корыстные, и, действительно, они стали с ним очень откровенны в весьма короткий срок.
Между тем мы отправились в Ораниенбаум, где я снова была целый день на лошади и, за исключением воскресений, не носила другого костюма, кроме мужского. Чоглоков и его жена стали кротки, как овечки. Я приобрела в глазах Чоглоковой новую заслугу: я очень любила и ласкала одного из ее сыновей, бывшего с ней; я заказывала ему платья и Бог знает сколько я надавала ему игрушек и тряпья; мать же с ума сходила об этом ребенке, который потом стал таким негодяем, что за свои проделки был посажен по суду в крепость на пятнадцать лет[82].
Сергей Салтыков стал другом, поверенным и советчиком Чоглоковых; конечно, никакой человек со здравым смыслом не стал бы принуждать себя к столь тяжелому делу, как выслушивание по целым дням бредней двух дураков, гордых, заносчивых и себялюбивых, если бы не имел в том очень большого интереса. Отгадали, предположили тот интерес, какой он мог иметь; это дошло до Петергофа, до ушей императрицы.
А в это время очень часто случалось, что когда Ее Императорскому Величеству хотелось браниться, то она не бранила за то, за что могла бранить, но ухватывалась за предлог бранить за то, за что и в голову не приходило, что она может бранить. Это заметка царедворца; я знаю о ней из собственных уст ее автора, а именно от графа Захара Чернышева.
В Ораниенбауме вся наша свита, как мужчины, так и женщины, согласились сделать себе на лето костюмы одинакового цвета: нижнее платье серое, остальное – синее с черным бархатным воротником, и все безо всякой отделки; это однообразие было нам удобно во многих отношениях. К этим-то костюмам и придрались, и особенно к тому, что я всегда была одета в костюм для верховой езды и что я езжу по-мужски.
Когда мы однажды приехали в Петергоф на куртаг, императрица сказала Чоглоковой, что моя манера ездить верхом мешает мне иметь детей и что мой костюм совсем неприличен; что когда она сама ездила верхом в мужском костюме, то, как только сходила с лошади, тотчас же меняла платье. Чоглокова ей ответила, что для того, чтобы иметь детей, тут нет вины, что дети не могут явиться без причины и что хотя Их Императорские Высочества живут в браке с 1745 года, а между тем причины не было.

Тогда Ее Императорское Величество стала бранить Чоглокову и сказала, что она взыщет с нее за то, что она не старается усовестить на этот счет заинтересованные стороны; вообще, она проявила сильный гнев и сказала, что ее муж колпак, который позволяет водить себя за нос соплякам.
Все это было передано Чоглоковыми в одни сутки доверенным лицам; при слове «сопляки» сопляки утерлись и в очень секретном совещании, устроенном сопляками по этому поводу, было решено и постановлено, что, следуя с большою точностью намерениям Ее Императорского Величества, Сергей Салтыков и Лев Нарышкин притворятся, будто подверглись немилости Чоглокова, о которой он сам, пожалуй, и не будет подозревать, и под предлогом болезни их родителей поедут к себе домой недели на три, на четыре, чтобы прекратить бродившие темные слухи.
Это было выполнено буквально, и на следующий день они уехали, чтобы укрыться на месяц в свои семьи.
Что меня касается, то я тотчас переменила одеяние, ставшее к тому же бесполезным. Первая мысль об однообразном костюме явилась у нас от того костюма, который носили на куртагах в Петергофе: снизу он был белый, остальная часть – зеленая, и все обшитое серебряным галуном. Сергей Салтыков, который был брюнет, говорил, что в этом белом с серебром костюме он похож на муху в молоке.
Впрочем, я продолжала посещать Чоглоковых по-прежнему, только побольше у них скучала; и муж и жена жалели об отсутствии двоих главных героев их общества, в чем, конечно, я им не противоречила. Болезнь и смерть матери Сергея Салтыкова еще продлила его отсутствие, во время которого императрица велела приехать нам из Ораниенбаума к ней в Кронштадт, куда она отправилась для открытия канала Петра I, начатого по его приказанию и теперь законченного.
Она приехала в Кронштадт раньше нас. Первая ночь по ее приезде была очень бурной. Ее Императорское Величество, пославшая тотчас по своем прибытии сказать нам, чтобы мы ехали к ней в Кронштадт, подумала, что мы во время этой бури находимся на море; она очень беспокоилась всю ночь, и ей казалось, что какое-то судно, которое было ей видно из ее окон и которое билось на море, могло быть той яхтой, на которой мы должны были переехать по морю.
Она прибегла к мощам, которые всегда находились рядом с ее постелью. Она поднесла их к окну и делала ими движения, обратные тем, которые делало боровшееся с бурей судно. Она несколько раз вскрикивала, что мы, наверное, погибнем, что это будет ее вина, потому что недавно она посылала нам выговор, и что мы, вероятно, для засвидетельствования большей готовности, поехали тотчас по прибытии яхты.
Но на самом деле яхта приехала в Ораниенбаум уже после этой бури, так что мы взошли на нее только на следующий день после полудня. Мы оставались трое суток в Кронштадте; в это время совершено было с большою торжественностью освящение канала и впущена в него в первый раз вода.
После обеда был большой бал. Императрица хотела остаться в Кронштадте, чтобы видеть, как снова выпустят воду из канала, но она уехала на третий день, а спуск так и не удался: этот канал не был осушен до тех пор, пока в мое царствование я не велела выстроить огненную мельницу, которая удаляет из него воду, – впрочем, это было бы и невозможное тогда дело, так как дно канала ниже моря, но этого не предусмотрели.
Из Кронштадта каждый вернулся к себе. Императрица поехала в Петергоф, а мы – в Ораниенбаум. Чоглоков просил и получил разрешение поехать в одно из своих имений на месяц. В его отсутствие его супруга очень суетилась из-за того, чтобы буквально исполнять приказания императрицы.
Сначала она имела несколько совещаний с камер-лакеем великого князя Брессаном; Брессан нашел в Ораниенбауме хорошенькую вдову одного художника, некую Грот; несколько дней ее уговаривали, насулили не знаю чего, потом сообщили ей, чего от нее хотят и на что она должна согласиться; потом Брессан должен был познакомить великого князя с этой молодой и красивой вдовушкой.
Я хорошо замечала, что Чоглокова была очень занята, но я не знала, чем, когда наконец Сергей Салтыков вернулся из своего добровольного изгнания и сообщил мне приблизительно, в чем дело.
Наконец, благодаря своим трудам, Чоглокова достигла цели, и, когда она была уверена в успехе, она предупредила императрицу, что все шло согласно ее желаниям. Она рассчитывала на большие награды за свои труды, но в этом отношении она ошиблась, потому что ей ничего не дали; между тем она говорила, что империя ей за это обязана.
Тотчас после этого мы вернулись в город, и в это время я убедила великого князя прервать переговоры с Данией; я ему напомнила совет графа Берни, который уже уехал в Вену; он меня послушался и приказал прекратить переговоры без всякого решения, что и было сделано. После недолгого пребывания в Летнем дворце мы перешли в Зимний.
Мне показалось, что Сергей Салтыков стал меньше за мною ухаживать, что он становился невнимательным, подчас фатоватым, надменным и рассеянным; меня это сердило; я говорила ему об этом, он приводил плохие доводы и уверял, что я не понимаю всей ловкости его поведения. Он был прав, потому что я находила его поведение довольно странным.
Нам велели готовиться к поездке в Москву, что мы и сделали. Мы отправились из Петербурга 14 декабря 1752 года. Сергей Салтыков остался там и приехал лишь через несколько недель после нас. Я отправилась из Петербурга с кое-какими легкими признаками беременности. Мы ехали очень быстро и днем и ночью; на последней станции эти признаки исчезли при сильных резях.
Приехав в Москву и увидев, какой оборот приняли дела, я догадывалась, что могла легко иметь выкидыш. Чоглокова оставалась в Петербурге, потому что у нее только что родился ее последний ребенок – дочь; это был седьмой по счету. Когда она встала, она приехала к нам в Москву. Здесь нас поместили в деревянном флигеле, только что отстроенном в эту осень, так что вода текла с обшивок и все комнаты были необычайно сыры.
В этом флигеле было два ряда комнат, по пяти-шести в каждом; из них выходившие на улицу были моими, а находившиеся на другой стороне – великого князя. В той же комнате, которая должна была быть моей уборной, поместили моих камер-юнгфер и камер-фрау, с их служанками, так что их было семнадцать девушек и женщин в одной комнате, имевшей, правда, три больших окна, но никакого другого выхода, кроме моей спальной, через которую они должны были проходить за всякого рода нуждою, что не было удобно ни им, ни мне.
В течение десяти первых дней по моем прибытии в Москву они со мною принуждены были терпеть это неудобство, которому я ничего подобного не видела. Кроме того, их столовой была одна из моих прихожих; я была больна по приезде; чтобы устранить это неудобство, я велела наставить в моей спальне больших ширм, с помощью которых разделила ее на три части; но это почти нисколько не помогло, потому что двери постоянно открывались и закрывались, что было неизбежно.
Наконец, на десятый день императрица пришла навестить меня, и, видя это постоянное хождение, она вошла в соседнюю комнату и сказала моим женщинам: «Я велю сделать вам другой выход, а не через спальню великой княгини». Но что же она сделала? Она приказала устроить перегородку, которая отняла одно окно у этой комнаты, где и без того с трудом жило семнадцать человек; теперь комнату сузили, чтобы выгадать коридор; окно было пробито на улицу, к нему приделали лестницу, и мои женщины принуждены были выходить на улицу; под их окнами поставили для них отхожие места; когда они шли обедать, им опять приходилось идти по улице.
Словом, все это устройство никуда не годилось, и я не знаю, как эти семнадцать женщин, жившие в такой тесноте и подчас болевшие, не схватили какой-нибудь гнилой горячки в этом жилье, и это рядом с моей комнатой, которая благодаря им была полна всевозможными насекомыми до того, что они мешали спать.
Наконец, Чоглокова, оправившись от родов, приехала в Москву, а несколько дней спустя приехал и Сергей Салтыков. Так как Москва очень велика, и все там всегда очень раскидывались, то он воспользовался такой выгодной местностью, чтобы ею прикрыться и притворно или действительно сократить свои частые посещения двора.
По правде говоря, я была этим огорчена, однако он мне приводил такие основательные и действительные причины, что, как только я его увижу и поговорю с ним, мое раздумье исчезало. Мы согласились, что для уменьшения числа его врагов я велю сказать графу Бестужеву несколько слов, которые дадут ему надежду на то, что я не так далека от него, как прежде.
Я возложила это поручение на некоего Бремзе, который был чиновником в Голштинской канцелярии у Пехлина. Этот человек, когда не бывал при дворе, часто ходил в дом канцлера графа Бестужева. Он очень усердно взялся за это и сказал мне, что канцлер сердечно этому обрадовался и сказал, что я могу располагать им каждый раз, как я найду это уместным, и что если со своей стороны он может быть мне полезен, то он просит указать мне надежный путь, которым мы можем сообщать друг другу, что найдем нужным.
Я поняла его мысль и ответила Бремзе, что подумаю. Я передала это Сергею Салтыкову, и тотчас же было решено, что он поедет к канцлеру под предлогом сделать ему по приезде визит.
Старик отлично его принял, отвел его в сторону, говорил с ним о внутренней жизни нашего двора, о глупости Чоглоковых и сказал ему между прочим: «Я знаю, что хотя вы очень к ним близки, но судите о них так же, как я, потому что вы неглупый молодой человек».
Потом он стал говорить с ним обо мне, о моем положении, как будто жил в моей комнате; затем сказал: «В благодарность за благоволение, которое великой княгине угодно было мне оказать, я отплачу ей маленькой услугой, за которую она будет, я думаю, признательна мне; я сделаю Владиславову кроткой, как овечка, и она будет делать из нее что угодно. Она увидит, что я не такой бука, каким меня изображали в ее глазах».
Наконец, Сергей Салтыков вернулся в восторге и от этого поручения, и от Бестужева. Он дал лично ему несколько советов, столь же умных, сколь и полезных. Все это очень сблизило его с нами, хотя ни одна живая душа и не знала об этом. Между тем Чоглокова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала: «Послушайте, я должна поговорить с вами очень серьезно».
Я, понятно, вся обратилась в слух; она с обычной своей манерой начала длинным разглагольствованием о привязанности своей к мужу, о своем благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения или отягощения уз супруга или супруги, и затем свернула на заявление, что бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правил. Я дала ей высказать все, что она хотела, не прерывая, вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумленная, и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренно.
Пока я внутренне так размышляла, она мне сказала: «Вы увидите, как я люблю свое отечество и насколько я искренна; я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтения: предоставляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то избранник ваш последний».
На это я воскликнула: «Нет, нет, отнюдь нет!» Тогда она мне сказала: «Ну, если это не он, так другой наверно». На это я не возразила ни слова, и она продолжала: «Вы увидите, что помехой вам буду не я». Я притворилась наивной настолько, что она меня много раз бранила за это как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после Пасхи.
Тогда, или приблизительно около этого времени, императрица подарила великому князю имение Люберцы и несколько других, верстах в четырнадцати или пятнадцати от Москвы. Но прежде чем переехать на житье в эти новые владения Его Императорского Высочества, императрица праздновала в Москве годовщину своего коронования. Это было 25 апреля.
Нам объявили, что она приказала, чтобы церемониал был в точности соблюден сообразно с тем, как он был установлен в день самой коронации. Нам было очень любопытно посмотреть, что будет. Накануне императрица ночевала в Кремле; мы оставались в слободе, в деревянном дворце, и получили приказание явиться к обедне в собор.
В девять часов утра мы выехали из деревянного дворца в парадных экипажах, камер-лакеи шли пешком; мы проехали всю Москву шаг за шагом; проехать надо было семь верст, мы вышли из экипажей у церкви; несколько минут спустя приехала туда императрица со своим кортежем, в малой короне на голове, в императорской мантии, которую, как обыкновенно, несли камергеры. Она встала в церкви на своем обычном месте, и во всем этом не было еще ничего необычного, что не совершалось бы во все большие праздники ее царствования.
В церкви была пронизывающая холодом сырость, какой я никогда в жизнь не испытывала; я вся посинела и мерзла от холода в придворном платье и с открытой шеей. Императрица велела мне сказать, чтобы я надела соболью палатину, но у меня не было ее при себе; она велела принести свои, взяла из них одну и накинула на шею; я увидела в коробке другую и думала, что она пошлет мне ее, чтобы надеть, но ошиблась.
Она ее отослала; я сочла это за знак явного недоброжелательства; Чоглокова, видя, что я дрожу от холода, достала мне, не знаю от кого, шелковый платок, который я и надела на шею. Когда обедня и проповеди закончились, императрица вышла из церкви; мы сочли долгом последовать за нею, но она велела нам сказать, что мы можем вернуться домой. Тогда только мы узнали, что она будет обедать одна на троне и что в этом церемониал будет тот же, как и в день коронации, когда она обедала одна.
Устраненные от этого обеда, мы вернулись, как и приехали, с большим парадом: наши люди, сделав пешком четырнадцать верст туда и обратно по Москве, а мы – окоченев от холода и умирая с голода. Если императрица показалась нам в очень дурном расположении духа во время обедни, то она отослала нас ничуть не в лучшем настроении от столь неприятного для нас знака, по крайней мере, пренебрежения к нам, чтобы не сказать более.
Во время других празднеств, когда она обедала на троне, мы имели честь обедать с ней; на этот раз она публично нас отослала. Дорогой, находясь в карете одна с великим князем, я ему высказала, что об этом думаю; он мне ответил, что будет жаловаться. Вернувшись домой, окоченевшая от холода и уставшая, я пожаловалась Чоглоковой на то, что простудилась; на следующий день был бал в деревянном дворце; я сказалась больной и не поехала.
Великий князь действительно велел что-то сказать Шуваловым по этому поводу, а они также велели ответить ему что-то для него удовлетворительное, не знаю, что именно; больше и речи об этом не было. Около этого времени мы узнали, что Захар Чернышев и полковник Николай Леонтьев[83] поссорились между собою из-за игры в карты у Романа Воронцова, что они дрались на шпагах и что граф Захар Чернышев был настолько тяжело ранен в голову, что его не могли перенести из дома графа Романа Воронцова в его собственный; он там и остался, был очень плох, и говорили о трепанации.
Мне это было весьма неприятно, так как я его очень любила. Леонтьев был по приказанию императрицы посажен под арест. Этот поединок занял весь город, благодаря многочисленной родне того и другого из противников. Леонтьев был зятем графини Румянцевой и очень близким родственником Паниных и Куракиных. Граф Чернышев тоже имел родственников, друзей и покровителей. Все случилось в доме графа Романа Воронцова; больной был у него. Наконец, когда опасность миновала, дело замяли, и тем все и закончилось.
В течение мая месяца у меня появились новые признаки беременности. Мы поехали в Люберцы, имение великого князя, в 12 или 14 верстах от Москвы. Бывший там каменный дом, давно выстроенный князем Меншиковым, развалился; мы не могли в нем жить; чтобы этому помочь, разбили во дворе палатки. Я спала в кибитке; утром с трех или четырех часов сон мой прерывался ударами топора и шумом, какой производили на постройке деревянного флигеля, который спешили выстроить, так сказать, в двух шагах от наших палаток, для того чтобы нам было где прожить остаток лета.
Почти все время мы проводили на охоте или в прогулках; я не ездила больше верхом, но в кабриолете. К Петрову дню мы вернулись в Москву, и на меня напал такой сон, что я спала по целым дням до двенадцати часов и с трудом меня будили к обеду. Петров день был отпразднован, как всегда.
На следующий день я почувствовала боль в пояснице. Чоглокова призвала акушерку, и та предсказала выкидыш, который у меня и был в следующую ночь. Я была беременна, вероятно, месяца два-три; в течение тринадцати дней я находилась в большой опасности, потому что предполагали, что часть «места» осталась; от меня скрыли это обстоятельство; наконец, на тринадцатый день место вышло само без боли и усилий; меня продержали по этому случаю шесть недель в комнате, при невыносимой жаре.
Императрица пришла ко мне в тот самый день, когда я захворала, и, казалось, была огорчена моим состоянием. В течение шести недель, пока я оставалась в своей комнате, я смертельно скучала. Все мое общество составляли Чоглокова, и то она приходила довольно редко, да маленькая калмычка, которую я любила, потому что она была мила; с тоски я часто плакала.
Что касается великого князя, то он был большей частью в своей комнате, где один украинец, его камердинер, по имени Карнович, такой же дурак, как и пьяница, забавлял его, как умел, снабжая его, сколько мог, игрушками, вином и другими крепкими напитками, без ведома Чоглокова, которого, впрочем, все обманывали и надували.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
ЧАСТЬ IV
ЧАСТЬ IV
ЧАСТЬ V
ЧАСТЬ V
25.24. TOTO [ЦЕЦЕ — целое вместо целого], ТОра [ЦЕча — целое вместо части], раТО [чаЦЕ — часть вместо целого], рара [чача — часть вместо части]
25.24. TOTO [ЦЕЦЕ — целое вместо целого], ТОра [ЦЕча — целое вместо части], раТО [чаЦЕ — часть вместо целого], рара [чача — часть вместо части] Когда означающее нечто целое слово относится ко всему целому, то такое словоупотребление именуют «totum pro toto» (целое вместо целого).
Часть I
Часть I Детство Все началось с радиолы «Кама» – с прекрасными белыми клавишами, которые издавали восхитительный звук при переключении диапазонов. Мы жили небогато, и покупка была значительной. Но папа решился. Мы притащили «Каму» домой, включили, нашли «Голос Америки» и
2.3. «Первая часть» Домициана — это, в основном, Михаил Романов, а «первая часть» Сабина — это Иван Сусанин + Богдан Сабинин
2.3. «Первая часть» Домициана — это, в основном, Михаил Романов, а «первая часть» Сабина — это Иван Сусанин + Богдан Сабинин Как мы сейчас увидим, первая часть жизнеописания «античного» Домициана является отражением Михаила Романова, а «первая часть» Сабина — отражением
Калининская ложкарная часть и ложкарная часть на Загороднот проспекте
Калининская ложкарная часть и ложкарная часть на Загороднот проспекте Современный адрес — Лесной пр., 17.Еще одну пожарную часть построили в 1930 году по проекту архитекторов Г.А. Симонова, И.Г. Капцюга на Лесном проспекте.Здание представляет собой два прямоугольных объема
Общий список литературы к беседам (часть I + часть II):
Общий список литературы к беседам (часть I + часть II): 1. Рим: путеводитель/ 12 прогулок по городу. — Вокруг света, 2004. — 203с.2. Роттердамский Эразм. Разговоры запросто. — М.: ХЛ, 1969. — 704с.3. Крысин Л.П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. — М.: Эксмо. 2011. —
Часть I
Часть I Пролог Европейские народы древности Древняя европейская цивилизация показала удивительное миролюбие. Как указывает Мария Гимбутас, ни один из примерно 150 дошедших до нас рисунков из Чатал-Хююка[1] не запечатлел конфликты, сражения, войны или пытки,[2] Древняя