Традиции ши в смутное время
Традиции ши в смутное время
События последних десятилетий II в., столь резко изменившие политическую ситуацию в Китае, все переменили и в положении ши. Сначала, с отменой «запрета клики», их вожди получили свободу действий и вернулись на политическую сцену триумфаторами. Недаром Хэ Цзинь, едва придя к власти, призвал ко двору свыше двадцати виднейших поборников «чистоты» и даже некоторых их малолетних потомков. Начавшаяся военная анархия превратила победителей в побежденных.
Конечно, несколько десятилетий действия «чистой» критики не пропали даром: основа традиции ши – практика персональных оценок – пустила прочные корни среди верхов тогдашнего общества, о чем свидетельствуют частые упоминания в хрониках тех лет о «славных мужах» той или иной местности. Но всеобщий хаос был тяжелым испытанием для хрупкого общества ши. С одной стороны, гибель евнухов лишила «чистые суждения» прежнего политического значения, с другой – войны и восстания подорвали социальную базу деятельности «чистых мужей».
К середине 90-х годов наиболее пострадавшие от смуты центральные и восточные районы бывшей империи, традиционный оплот «чистой» критики, находились в полном запустении. Смута раскидала «славных мужей» в разные стороны, заставив их искать прибежища у военных вождей. На пестром историческом фоне тех лет отношения военных лидеров и ши выделяются как одна из главных политических коллизий.
Отношения эти были столь же сложны и запутанны, как и сам облик эпохи. В известной мере обе стороны нуждались друг в друге. Военные вожди располагали реальной властью, на которую только и могли уповать ши. Апологеты «чистых суждений» хранили традиции политической культуры, обладали ценным в делах политики знанием и неким, хотя и призрачным в глазах военных, авторитетом, необходимым для консолидации новых режимов. Отчасти совпадали политические цели тех и других: в конце концов полководцы боролись за воссоздание империи, в которой ши надлежало занять ведущие позиции. Все это сделало невозможной открытую конфронтацию между военными и ши, но отнюдь не исключило трений между ними.
Военный авторитаризм «новых героев» претил морали и политическим идеалам «ученых служилых людей», наследовавших традициям имперского правления. Хранители культуры ши не могли смириться с ролью бесправных слуг честолюбивых полководцев и требовали от тех особых знаков почтения. Пропагандируя ритуальные взаимоотношения «мудрого правителя» и «достойного мужа», они присвоили себе право судить своих хозяев и менять их по собственному усмотрению. Разумеется, ши настаивали на том, что только правильное обращение с «возвышенным мужем» гарантирует успех.
Типично суждение подчиненного Цао Цао – Ван Цаня, который объяснял причину поражения соперников своего патрона следующим образом: «Юань Шао восстал в Хэбэе, привлек всеобщие чаяния, повел за собой Поднебесную, но, хотя любил достойных, не умел использовать их, поэтому незаурядные мужи покинули его. Лю Бяо владел областью Цзин-Чу, спокойно наблюдал за ходом событий, сам уподоблял себя Князю Запада (чжоускому Вэнь-вану. – В. М.). Те ши, которые спасались от смуты в Цзинчжоу, все были великими героями среди четырех морей. Бяо не знал, как сделать их своими помощниками, поэтому его царство, лишенное опоры, погибло» [Саньго чжи, цз. 21, с. 2а].

Если озлобленность будет накапливаться в сердцах народа, а клеветники и развратники будут находиться в окружении правителя, то добрые советы не смогут преодолеть преград на пути к правителю, а царство окажется в опасности.
Мо-цзы
Что же касается военных лидеров, то они, нуждаясь в «незаурядных мужах», естественно, не могли допустить, чтобы моральный ригоризм ши угрожал их единоличной власти.
В итоге взаимоотношения военных диктаторов и ши характеризуются причудливым сочетанием взаимной вражды и доброжелательности.
Первая тенденция ярко запечатлена в фигуре правителя Ючжоу Гунсунь Цзаня, не скрывавшего неприязни к мастерам нравоучительного и политического витийства. Гунсунь Цзань «непременно предавал казни добрых ши, чья слава превосходила его собственную. Он часто говорил, что именитые чиновники слишком гордятся своими титулами и не выражают благодарности за оказанную милость. Поэтому среди тех, кого он жаловал и любил, было много торговцев и простых людишек. Он постоянно грабил, бесчинствовал, и народ ненавидел его» [Хоу Хань шу, цз. 73, с. 13б].
Позицию Гунсунь Цзаня в той или иной мере разделяли и прочие региональные лидеры, охотно пользовавшиеся услугами богатых купцов. Тем не менее экстремизм Гунсунь Цзаня в отношении «добрых ши» был исключением. Гораздо чаще можно наблюдать, как военачальники привлекают ши и заигрывают с ними.
Так, во владениях независимого правителя Ляодуна Гунсунь Ду образовалась большая колония ши, бежавших из охваченного войнами Хэбэя. На другом конце Китая Лю Бяо зазывал в Цзинчжоу «славных мужей» из центра и учредил у себя конфуцианскую академию, в которой находилось более трехсот ученых. Милостиво обходились с бежавшими от смуты ши и властители Цзяннани. То же самое в еще большей степени было свойственно Юань Шао и его окружению.
Однако ши на каждом шагу могли убедиться в том, что гостеприимство военных гегемонов имело жесткие границы. О Юань Шао и Лю Бяо хронисты пишут в совершенно одинаковых словах, называя их людьми «с виду благочестивыми, а в душе злобными» [Саньго чжи, цз. 6, с. 26а, 37б]. Эти отзывы, как и приведенный выше памфлет Го Цзя, обнажают изнанку отношений военных вождей и ши – их взаимное недоверие и подозрительность, небезосновательные с обеих сторон.
Юань Шао хладнокровно казнил посланных к нему Дун Чжо для переговоров «чистых мужей», своих вчерашних единомышленников [Хоу Хань шу, цз. 74а, с. 4а-б].
Лю Бяо, сам начинавший карьеру как «славный муж» Шаньяна, жестоко расправился с несколькими, возможно, чересчур строптивыми учеными, после чего, по отзыву хрониста, «все ши в Цзинчжоу почувствовали себя в опасности» [Саньго чжи, цз. 21, с. 15б].
Сунь Цюань предал смерти ученых Шэнь Ю, вздумавшего насадить в его ставке нравы «чистой» критики, и Шэнь Сяня, названного его другом Кун Жуном высшим авторитетом среди «рассуждающих ши в Поднебесной» [Вэнь сюань, с. 581; Саньго чжи, цз. 47, с. 2б-3а].
Дать общую оценку позиции ши в новых условиях не просто. Ни твердого статуса, ни четкой программы они не имели, и их единство основывалось на весьма расплывчатом осознании причастности к общему кругу ценностей. Кажется, что многое, если не все, зависело от их индивидуального решения или... невозможности принять его. Друзья и даже члены одной семьи легко расходились по разным лагерям, а будучи вместе, могли иметь разные политические симпатии.
Применительно к ши говорить, в сущности, приходится не о программе определенного социального слоя, но о двух линиях политического поведения. Одна из них заключалась в активном сотрудничестве с новыми военными режимами и настойчивом утверждении жизненных ценностей ши. Другая – в пассивном неприятии власти, «внутреннем отшельничестве».
Обе линии иногда предстают в источниках довольно отчетливо. Так, известные ученые из Бэйхая Шао Юань и Гуань Нин вместе укрылись от смуты у Гунсунь Ду. Шао Юань, сообщает его биограф, «был по натуре тверд и прям, чистыми суждениями оценивал других, мерил себя» и тем вызвал нерасположение властителя Ляодуна. Гуань Нин советовал другу изменить поведение, чтобы не навлечь на себя беды. Сам он пользовался благосклонностью Гунсунь Ду и на аудиенциях в его ставке «говорил только о канонических книгах, никогда не касался текущих событий» [Саньго чжи, цз. 11, с. 23а]. Оба обладали огромным авторитетом: Гуань Нин стал первой величиной в тамошней колонии ши, а Шао Юань, поспешивший вернуться во внутренний Китай, заслужил от Гунсунь Ду лестный отзыв: «Белый журавль в облаках. Такого не поймаешь сетью для перепелок» [Шишо синьюй, с. 108].
Многие ши, ощущавшие свою ненужность в ставках региональных владык, мечтали о простоте и естественности отшельнической жизни. Тот же Гуань Нин и другие видные ученые из его окружения занимались благотворительностью в окрестных деревнях и конфуцианским воспитанием их жителей [Саньго чжи, цз. 11, с. 23а]. Так же поступали и некоторые авторитетнейшие «славные мужи» Цзинчжоу.
Новая обстановка заставила современников по-иному, чем прежде, взглянуть на практику персональных оценок. В те годы появился термин «чистые беседы» (цин тань), первые упоминания о которых относятся ко временам диктатуры Дун Чжо. Один из сановников Дун Чжо, обсуждая силы вождей восточной коалиции, говорил о тогдашнем правителе Юйчжоу Кун Гунсюе, что тот умеет «вести чистые беседы, возвышенно рассуждать, своим дыханием может оживить мертвое, умертвить живое, но не обладает талантом полководца» [Хоу Хань шу, цз. 70, с. 2б].
Как явствует из комментария, речь идет именно о критических оценках людей и событий, что позволяет в данном контексте считать «чистые беседы» синонимом «чистых суждений». Приведенному высказыванию, однако, свойствен оттенок иронии, противопоставление субъективного мнения Кун Гунсюя реальной действительности, где все решает военная сила. Возможно, ощущение бесполезности морализирования в новых условиях как раз и побудило современников говорить не о «чистых суждениях», а о «чистых беседах». Эта догадка подтверждается еще одним упоминанием о цин тань, связанным с именем другого члена восточной коалиции – Цзяо Хэ, который проводил время в «чистых беседах», но не умел навести порядок в своих владениях и пал жертвой собственной беспечности [Саньго чжи, цз. 7, с. 13б].
Крушение прежних надежд, атмосфера всеобщей подозрительности и страха не оставила выбора и «славным мужам». Презрев боевые лозунги своих предшественников, они последовали принципу Чэнь Ши: «Хорошее относить на счет других, в плохом винить себя».
Бэйхайский ши Хуа Синь, служа у себя на родине, в дни отдыха запирался дома и «беспристрастно рассуждал, никогда не обижая других» [Саньго чжи, цз. 13, с. 10б].
Один из «славных мужей» Цзинчжоу Сыма Хой, опасаясь коварства Лю Бяо, «никогда не высказывал суждений» и отзывался о других только хорошо, не обсуждая их достоинств и недостатков. Когда жена упрекнула его в чрезмерном благодушии, он с улыбкой ответил: «И ты тоже сказала хорошо!» [Шишо синьюй, с. 16]. Разговорчив Сыма Хой был в другом месте и, вероятно, по другим поводам. Сохранилось известие, что он владел тутовой плантацией и за сбором шелковых коконов дни напролет, забыв о еде, беседовал со своим другом Пан Гуном [Бэйтан шучао, цз. 98, с. 4а].

Хороший лук трудно натянуть, но посланная из него стрела летит высоко и вонзается глубоко. Хорошую лошадь трудно объездить, но она может далеко везти тяжелый груз. Прекрасный талант трудно найти, однако мудрый может дать совет правителю и оценить достоинства.
Мо-цзы
За безобидными «беседами» тогдашних ши нетрудно увидеть их бессилие претворить свои «возвышенные устремления» и их разочарование в прежних целях «чистой» критики. Эти беседы знаменуют пору переоценки ценностей в традиции ши.
Ситуация в лагере Цао Цао особенно явственно отобразила дилемму сотрудничества и противостояния военного режима и ученых людей. Наиболее удовлетворявший политическим чаяниям ши, к тому же человек образованный и первоклассный поэт, он был во многих отношениях и наиболее чуждым им. Он, по собственному признанию, «не происходил из славных мужей», не считал нужным с ними церемониться и до самой смерти держал подчиненных в страхе.
Но, как мудрый политик, Цао Цао воспользовался всеми выгодами сотрудничества с ши. Еще в начале карьеры он добивался покровительства «чистых» сановников и хвалебных эпиграмм от корифеев «чистых суждений». В бытность региональным военачальником Цао Цао с готовностью прибегал к услугам ши и умел делать им комплименты.
Особенно большую роль в привлечении ученых людей на сторону Цао Цао сыграл его советник Сюнь Юй, выходец из именитого в кругах «чистых мужей» инчуаньского семейства Сюнь, перешедший к Цао Цао от Юань Шао в 191 году5. Предложение Сюнь Юя «собрать со всей Поднебесной одаренных и красноречивых конфуцианских ученых» не вызвало энтузиазма у его хозяина, но он не стал стеснять свободы действий своего советника. За несколько лет Сюнь Юй рекомендовал Цао Цао 16 человек, названных в источниках «славными мужами». Среди них девять были уроженцами Инчуани, трое – района Чанъаня и трое – восточных областей. Когда Цао Цао захватил владения Юань Шао, его советники указали ему тамошних «славных мужей», часть их Цао Цао назначил правителями уездов [Саньго чжи, цз. 11, с. 10б, цз. 23, с. 5б]. В юго-восточных районах Цао Цао также распорядился назначить правителями уездов местных «славных мужей», после чего, отмечал хронист, «среди служилых людей постепенно установился порядок» [Саньго чжи, цз. 12, с. 13а]. Присоединив в 208 г. север Цзинчжоу, Цао Цао и на сей раз наполнил свое окружение многими видными ши с юго-запада. В конце концов под началом Цао Цао собрался почти весь цвет «славных мужей», включая потомков Ли Ина, Чэнь Ши, Чжун Хао и других патриархов «чистой» критики.
Привлекая ши, Цао Цао, как и все диктаторы, действовал по принципу «разделяй и властвуй». Под его руководством, сообщает хроника, «отбирали только чистых и непорочных людей. Те, кто не следовал в поведении главному, даже если они имели громкую известность, не могли продвинуться. Поэтому среди ши Поднебесной не было таких, кто не проявлял бы истово бескорыстие и порядочность» [Саньго чжи, цз. 12, с. 8а].
Решительно подавляя аристократические тенденции, Цао Цао ничуть не считался с престижем ши и убирал каждого, кто своим авторитетом представлял хотя бы малейшую угрозу его диктатуре. Но та же обтекаемая формулировка напоминает о том, что Цао Цао, взявшийся за воссоздание бюрократии, не мог не признавать морали «чистоты» и не опираться на институты традиции ши. Общество «славных мужей» в ставке Цао Цао продолжало жить по своим законам и вести за собой провинциальную элиту.
В жизнеописании Ли Дяня, местного магната, примкнувшего к Цао Цао вместе с несколькими тысячами семей зависимого люда, сказано, что в столице Ли Дянь «чтил конфуцианскую изысканность, не спорил с военачальниками из-за почестей, преклонялся перед достойными шидафу» [Саньго чжи, цз. 18, с. 2б]. Можно предположить, что «достойные шидафу» в ставке Цао Цао, выступая своего рода связующим звеном между центром и местным обществом, способствовали консолидации нового режима на основе культурных ценностей ши.
Сразу после решающих военных побед Цао Цао сановник Хэ Куй обратился к нему со следующим предложением: «Порядок в государстве установлен только в самых общих чертах, и при отборе на службу не руководствуются действительными качествами людей. Я полагаю, что впредь кандидатуры отбираемых на службу должны быть прежде определены в деревнях, чтобы старшие и младшие занимали свои места и не нарушали порядка» [Саньго чжи, цз. 12, с. 14б]. Программа Хэ Куя, одобренная Цао Цао, предполагала использование в политических целях практики «чистых суждений», выражавшей интересы и ценности ши.
О том, что эта программа имела реальную социальную базу и проводилась в жизнь, можно заключить из биографии Лу Су, советника Сунь Цюаня. В 208 г., когда Цао Цао предложил Сунь Цюаню мир, Лу Су говорил своему патрону: «Если я перейду к Цао, он отправит меня в родную округу (Лу Су был родом из области Линьхуай. – В. М.), чтобы там определили мое положение в обществе. Я всегда смогу получить должность служащего и ездить в запряженном быком экипаже в свите чиновника. Я буду вращаться в обществе ши, подниматься по службе и всегда буду иметь возможность занять должность в провинциальных управах» [Саньго чжи, цз. 54, с. 12б].
Местное общество ши, о котором говорил Лу Су, являлось лишь основанием целой пирамиды «чистых суждений» в иерархии служилых людей. Вершину ее увенчивали «достойные шидафу» в столице, которые слыли «славными мужами в пределах четырех морей». Как символы единства ши, они представляли ту социальную среду, на базе которой, как мы увидим ниже, в северном Китае выросла стабильная политическая система. Напротив, государства Лю Бэя и Сунь Цюаня не могли перерасти рамки региональных группировок, державшихся только на личной преданности их членов своему вождю и потому не имевших будущего.
Трудно согласиться с мнением Тан Чанжу и других китайских историков, считающих Цао Цао последовательным противником «чистых суждений» [Тан Чанжу, 1955, с. 92]. Скорее следует говорить о двойственности политики Цао Цао, стремившегося совместить относительно неустойчивую военную диктатуру со стабильным социально-политическим укладом, оформлявшимся традицией ши.
Сохранились и другие свидетельства того, что дом Цао охотно обращался к традиции «чистых суждений» в своей политической пропаганде. Когда в 219 г. Сунь Цюань временно признал верховную власть Цао Цао, сановник Чжун Ю направил наследнику последнего Цао Пи записку следующего содержания: «Бывший управляющий работами Сюнь Шуан из моей области говорил: „Человек должен жить страстно. Как ненавистны те, кто ненавидит меня, и как милы те, кому я мил!“ Думая о Сунь Цюане, я нахожу его ненавистно милым!». В ответ Цао Пи писал: «Из вашего послания я узнал, что вы очарованы южным государством. Что касается „чистых бесед“ управляющего работами Сюня и вашего мнения о „ненавистно милом“ Сунь Цюане, вздыхая и смеясь, я не выпускаю письма из рук. Если Сунь Цюань снова начнет свои происки, мы должны заклеймить его ежемесячными оценками Сюй Шао» [Саньго чжи, цз. 13, с. 5б].
Ответ Цао Пи подтверждает мнение о том, что «чистыми беседами» именовали в то время практику суждений о людях, причем наследник Цао Цао связывает их с традицией «ежемесячной критики» Сюй Шао. Цао Пи отдает дань пропагандистской значимости «чистых бесед», но шутливый тон переписки вновь наводит на мысль об утрате «чистой» критикой реальной почвы, что и повлекло за собой трансформацию «чистых суждений» в изысканно-риторическое словотворчество.
О жизненной позиции и нравах ши в ставке Цао Цао можно судить на примере одного из авторитетнейших «славных мужей» своего времени – Кун Жуна (153-208).
Отпрыск именитой служилой семьи, Кун Жун был последним из старой гвардии поборников «чистоты». Еще в юные годы он заслужил похвалу Ли Ина и прятал скрывавшегося за преследования Хэ Юна, за что едва не поплатился жизнью. С началом военной смуты он укрепился в Бэйхае, где оказывал всяческие знаки внимания ученым людям. Вынужденный оставить Бэйхай под натиском повстанческих отрядов и соседних военачальников, Кун Жун в 196 г. нехотя примкнул к Цао Цао и служил в резиденции Сянь-ди.
Вся деятельность Кун Жуна при дворе была сплошной конфронтацией с диктатором. Когда Цао Цао под надуманным предлогом заключил сановника Ян Бяо в тюрьму, Кун Жун первым встал на защиту человека, который, по его словам, имеет за собой «четыре поколения чистой добродетели и чтим в пределах четырех морей». Когда Цао Цао предложил ужесточить наказание, Кун Жун стал его главным оппонентом, думая в первую очередь о защите достоинства служилых людей. На приказ Цао Цао запретить в целях укрепления дисциплины производство и употребление вина Кун Жун откликнулся ядовитой запиской, в которой советовал запретить заодно и браки, поскольку женщины тоже отвлекают от государственных дел. Наконец, когда Кун Жун потребовал восстановить власть ханьского дома, Цао Цао казнил строптивого сановника, задним числом обвинив его в безнравственности.
Кун Жун был признанным авторитетом в «чистых беседах». Один из его биографов сообщает: «Хотя [Кун Жун] сидел дома и не имел власти, его дом каждый день был полон гостей. Он ценил одаренных мужей, любил вино и часто говорил: „Всегда заполнены места для гостей, в кувшине не иссякает вино. Мне не о чем печалиться“» [Саньго чжи, цз. 12, с. 6а].
Есть сведения, что Кун Жун «дни напролет» проводил в беседах с историком Сюнь Юэ [Хоу Хань шу, цз. 62, с. 11а]. Известно содержание одной из этих бесед. Сюнь Юэ и Кун Жун обсуждали поступок человека, который убил в дороге спутника, чтобы спасти себя и брата от голодной смерти. Сюнь Юэ полагал, что этот человек эгоистически «сохранил свою жизнь, погубив другую» и потому заслуживал наказания. Кун Жун же утверждал, что убийца поступил правильно, так как, во-первых, он выполнял сыновний долг, обязывавший его оберегать дарованные родителями жизни, а во-вторых, убитый не был его другом, и убить его значило убить всего лишь «говорящее животное» [И линь, с. 60].

Если в человеке естество затмит воспитанность, получится дикарь, а если воспитанность затмит естество, получится знаток писаний. Лишь тот, в ком естество и воспитанность пребывают в равновесии, может считаться достойным мужем.
Конфуций
Неважно, насколько аутентичен рассказ о споре Кун Жуна и Сюнь Юэ. Важно, что он отразил умонастроение ши того времени. Доводы Кун Жуна характеризуют его как поборника «страстного» образа жизни в стиле Сюнь Шуана и вместе с тем обнажают сугубо элитарную природу понятия дружбы в кругах ши.
Заслуживает внимания и образ мыслей Кун Жуна, близкий к софистической игре понятиями: строгий морализм служит у него оправданием аморализма. Без сомнения, «чистые беседы» Кун Жуна свидетельствуют о кризисе конфуцианской морали, утратившей былую власть над умами.
В свете сказанного особый интерес приобретает еще один памятник «чистых бесед» Кун Жуна, на сей раз непосредственно касающийся проблемы самосознания ши. Кун Жун заявлял, что ши Жунани превосходят своих инчуаньских коллег, и отстаивал свою точку зрения в спорах с Чэнь Цюнем, внуком Чэнь Ши.
Сохранился текст эссе Кун Жуна, в котором он доказывает свою правоту на примере восьми выдающихся уроженцев Жунани. Первым среди них Кун Жун называет Дай Цзуня, одного из близких сподвижников Гуан У-ди. «Хотя ши Инчуани неутомимы в благочестивых подвигах, – заявляет Кун Жун, – не было среди них стоявшего рядом с Сыном Неба».
Второй персонаж у Кун Жуна – некто Сюй Цзэбо, о котором сказано следующее: «Сюй Цзэбо с друзьями обсуждал падение нравов и громко рыдал по ночам. Хотя ши Инчуани скорбели о своем времени, не было среди них такого, кто так горько оплакивал свой век».
Далее следует служащий областной управы Сюй Ян, оросивший несколько сотен цин земли, и Чжан Шао, который после смерти явился другу во сне и попросил прийти на его похороны. «Хотя среди инчуаньских ши было много необычайных людей, – комментирует Кун Жун, – на такие чудеса они оказались неспособны». Затем названы: Ин Фэн, прославившийся своей ученостью; Ли Хун, решившийся умереть вместо осужденного на смерть родственника; правитель области Хо Цзывэй, якобы первым поднявший восстание против Ван Мана. Последним стоит имя Юань Чжу, казненного Лян Цзи за обличительные доклады.
Если в Хо Цзывэе Кун Жун прославляет решимость «пожертвовать семьей ради государства», то в Юань Чжу он хвалит способность «ради правды погубить себя» [Ивэнь лэйцзюй, цз. 22, с. 6а-7а].
Эссе Кун Жуна читается как миниатюрная энциклопедия нравов тогдашних ши. Остается загадкой, что побудило его восхвалять ученых Жунани за счет инчуаньцев, тем более что к числу последних принадлежал его любимый собеседник Сюнь Юэ. Возможно, ограничивая свой выбор ши позднеханьским периодом, Кун Жун преследовал определенные политические цели. Шестеро из названных им лиц прославили себя борьбой против неправедной власти: трое (Дай Цзунь, Сюй Ян, Хо Цзывэй) были врагами Ван Мана, трое (Сюй Цзэбо, Ин Фэн, Юань Чжу) отличились как бесстрашные критики временщиков. Не намекал ли Кун Жун, учитывая его враждебность к Цао Цао, на необходимость борьбы против нового диктатора?
Отметим еще два обстоятельства. Во-первых, хотя Кун Жун выступает в этом эссе наследником традиции «чистой» критики, есть основания усомниться в его преданности старым идеалам. Во-вторых, дискуссия Кун Жуна и Чэнь Цюня была чистой условностью, поскольку сановники в ставке Цао Цао за долгие годы скитаний утратили связь с родными местами и фактически представляли только самих себя. Не будет ли справедливым сказать, что в позиции Кун Жуна и в данном случае есть немалая доля позы и риторики?
Как бы там ни было, позиция Кун Жуна, совмещавшая «страстность» и холодный расчет, нравоучительное витийство и внеморальную оценку ценности жизни, довольно сложна. Такое совмещение свидетельствует о самоотчужденности ши от своих же ценностей, что было обусловлено самим характером режима Цао Цао и местом ши в нем. Но эта самоотчужденность отнюдь не означала ни нигилизма, ни фрондерства. Она была сопряжена с мучительным переживанием ши обстановки безвременья и напряженным поиском своего призвания.
Об этой внутренней стороне духовной жизни ученых людей тех лет мы узнаем из творчества близких Кун Жуну подчиненных Цао Цао – Ван Цаня, Сюй Ганя, Чэнь Линя, Жуань Юя, Лю Чжэня. Состоя в окружении Цао Цао, все эти ученые откровенно тяготились службой, и вклад их в дело полководца ограничивался написанием по заказу литературных произведений.
Все они были прежде всего поэтами, причем поэтами эпохального значения, задавшими тон лирической поэзии Китая на несколько столетий вперед. Как литераторы они держались на равных с Цао Цао и особенно с Цао Пи, с которым, по его словам, вместе «наслаждались возвышенными беседами» [Вэнь сюань, с. 589]. В их стихах ужасы разрушений и жестокости войны, тоска вечного скитания и одиночества, чувства отчаяния и безысходности сопряжены с пафосом внутренней стойкости и преданности мечте о свободе от «мира пыли и грязи».
Поэты кружка Цао Пи сделали предметом поэзии свою личную жизнь, и творчество их знаменовало освобождение изящной словесности от оков конфуцианского морализма. Недаром Цао Пи, оставивший критические заметки об их творчестве, считается родоначальником литературной критики в Китае.
Говоря о ши нового поколения, нельзя пройти мимо такой яркой личности, как Чжунчан Тун (179-220). Уроженец Шаньяна, Чжунчан Тун уже в юности приобрел известность в кругах служилых людей и был приглашен в ставку Цао Цао, где получил пост в Палате документов.
Невыдержанный, резкий в словах и обхождении, он снискал прозвище «бешеный». Как мыслитель и политик Чжунчан Тун был безоговорочно предан бюрократическому практицизму. Для него «дела людей – главное, путь Неба – второстепенное», и разговоры о мистике имперского правления – вредная демагогия. Он убежден, что миром правит сила, и советует Цао Цао, не оглядываясь на древность, действовать, как требует обстановка.
История представлялась Чжунчан Туну одним неотвратимым упадком, к его времени достигшим предела. Он бранит позднеханьских временщиков и сравнивает дворцовую знать рухнувшей империи с варварами. «О горе! Уж не знаю, как мудрые правители будут восстанавливать правду», – восклицает Чжунчан Тун, подводя итог урокам истории и видя единственное спасение в диктатуре.
Чжунчан Тун призывает Цао Цао железной рукой навести порядок в государстве, ужесточить законы, связать население круговой порукой, раздавить магнатов, притесняющих простой люд, и распределить землю между крестьянами.
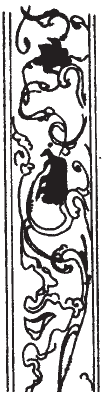
Я внизу на земле, я вверху в небесах, я живу среди этих великих двоих. Я сплетаю в уме, собираю в одно и людей и тварей земли. Заиграю на лютне мелодию классическую эту: «Юный ветер, благовонный ветер...» Издаст она чарующие звуки в отчетливо прекрасной гамме нот. И вот я в мечтах гуляю над всем населенным миром, бросаю случайные взгляды на небо и землю вокруг. Не подлежу я нареканьям людей, с которыми живу. Я сохраняю надолго себе срок жизни и судьбы. При жизни такой мне можно взлетать к небесам и Небесной Реке, выходить за всякие грани-пределы зримых нами миров. Зачем мне стремиться к тому, чтоб входить, выходить через двери царей-государей?
Чжунчан Тун
Административная деловитость ничуть не мешала Чжунчан Туну презирать службу. В эссе, озаглавленном «О довольной душе», он мечтает о жизни в просторном доме на берегу реки с хозяйством и многочисленной челядью. Перечислив занятия, доставляющие удовольствие (беседы с друзьями за чашей вина, прогулка в лесу, купание, охота и рыбная ловля, «успокоение духа в женских покоях», музицирование и физические упражнения, дарующие бодрость и душевную безмятежность), Чжунчан Тун заключает:
«И вот я в мечтах гуляю над всем населенным миром, бросаю случайные взгляды на небо и землю вокруг... При жизни такой мне можно взлетать к небесам и Небесной реке, выходить за всякие грани-пределы зримых миров. Зачем мне стремиться к тому, чтоб входить, выходить через двери царей-государей?» [Китайская классическая проза, с. 171].
Сохранились и стихи Чжунчан Туна, в которых мистический порыв предваряется яростным протестом: Чжунчан Тун посылает проклятия небесам, готов уничтожить все книги и жаждет, отрешившись от всего земного, «как змея сбрасывает кожу», витать в бескрайних просторах «великой чистоты».
В мировоззрении Чжунчан Туна при всем его индивидуальном своеобразии отразились резкие, подчас драматические противоречия умонастроения ши того кризисного времени, поиск нового идеала в атмосфере разочарования и пессимизма. Великим достижением этого поиска стали новая лирика и свободный от оков ханьской ортодоксии взгляд на мир и человека.
И все же судьба культуры ши определена в целом преемственностью как самих культурных норм, так и их духовного содержания. Новое сознание ши имело в своей основе все тот же опыт «ученого, не встретившего судьбы». Это обстоятельство лишний раз напоминает о том, что смысл развития культуры ши следует искать не только и, может быть, не столько во внешних переменах, сколько в постоянном углублении ее категорий и тем, последовательном развертывании ее нормативного опыта, заданного всей исторической средой императорского Китая.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Смутное время
Смутное время Период истории России между 1598 и 1613 годами получил название Смуты, Смутного времени. Смутное время, поистине – одна из самых загадочных и страшных эпох в истории России.В чём же заключались причины наступления Смуты? В первую очередь, немаловажную роль
Смутное время
Смутное время Термин «Смутное время» был принят историками XVIII–XIX вв. В советский период историки отвергли его как «дворянско-буржуазный», предложив взамен «крестьянскую войну и иностранную интервенцию», что, безусловно, не соответствует полностью определению этого
Смутное время
Смутное время Причины, ход и значение смуты. Смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году, не оставившего после себя детей, пресеклась Рюрикова династия московских государей. Земский собор избрал на царство боярина Бориса Годунова, правившего государством при царе Феодоре.
6. Смутное время
6. Смутное время Осенью 1914 г., после того как Германия объявила войну России, Барченко оказался в рядах действующей армии. Правда, не надолго. Уже в 1915 г. после тяжелого ранения он возвращается в Петербург. Вновь берется за перо — пережитое на поле брани подсказывает ему
Смутное время
Смутное время Появление самозванца Соловьев считал, что «чудом спасшийся царевич» не был, конечно, царевичем Дмитрием. По одним слухам, царевича спас доктор, по другим – мать, поскольку все ожидали, что Дмитрия в живых Борис не оставит. Вот ребенка и подменили другим, а
Это смутное смутное время
Это смутное смутное время Под Смутным временем на Руси принято понимать насыщенный разнообразными событиями непродолжительный исторический период от смерти сына Ивана Грозного Федора Иоанновича в 1598 году до воцарения первого Романова (Михаила Федоровича) в 1613. За эти 15
Смутное время
Смутное время Главную опасность для существования Пагана представляли многонациональные окраины государства с сильными в них центробежными тенденциями. В Паганское царство входили и культурные, развитые города-государства монов и многочисленные горные племена,
Смутное время
Смутное время От Смутного времени нас отделяют почти четыре столетия. Но интерес к тем событиям не ослабевает. Все новые и новые поколения советских людей черпают в отечественной истории образцы мужества и героизма, стойкости и верности воинскому долгу, познают
4. 2. Смутное время
4. 2. Смутное время Смуту 1605—1613 годов породило боярство, желавшее гарантировать себя от репрессий царской власти, пережитых при Иване Грозном, да и возвыситься вновь – в этом смысле смута была обычным для тех времен конфликтом абсолютной монархии и феодальной
8. СМУТНОЕ ВРЕМЯ
8. СМУТНОЕ ВРЕМЯ «Ты знаешь, сейчас сажают ни за что». Замечание местного руководителя, 1938 г.[1]. Слежка — это когда население находится под наблюдением; террор — когда представители населения подвергаются массовым арестам, казням и другим формам государственного насилия
Смутное время
Смутное время Бесконечные войны Ивана IV, его безжалостное и опасное переустройство социально-политической структуры Московии, кампании безудержного террора против собственного народа — все это принесло стране огромные беды. Пострадали все слои общества. Многие бояре
Смутное время
Смутное время В боковых воротах Троицкой церкви, рядом с ракой с мощами Сергия Радонежского есть отверстие. Это след от некогда попавшего в храм ядра. Отверстие специально не стали заделывать, оно напоминает о событиях XVII века, которым на обелиске митрополита Платона
СМУТНОЕ ВРЕМЯ
СМУТНОЕ ВРЕМЯ 1. — Причины смуты. 2. — Накануне Смутного времени. 3. — Угличское дело. 4. — Царствование Бориса Годунова. 5. — Лжедимитрий I. 6. — Правление Василия Шуйского. 7. — Семибоярщина. 8. — Второе ополчение и освобождение Москвы. Сегодня у нас пойдет разговор о
IX. Смутное время
IX. Смутное время Появление Димитрия Самозванца в Курском крае. – Волнение в народе. – Вопрос об отношении высшего служилого сословия к Димитрию Самозванцу, переход на его сторону низших классов населения и казачества. – Пустота осадных дворов во время похода Самозванца.