Церковь и культура
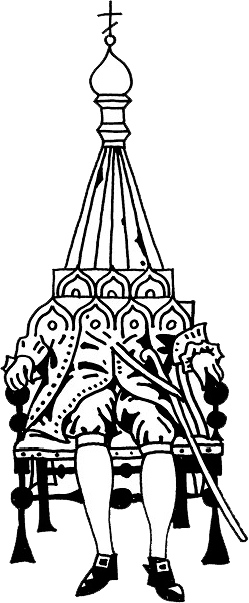
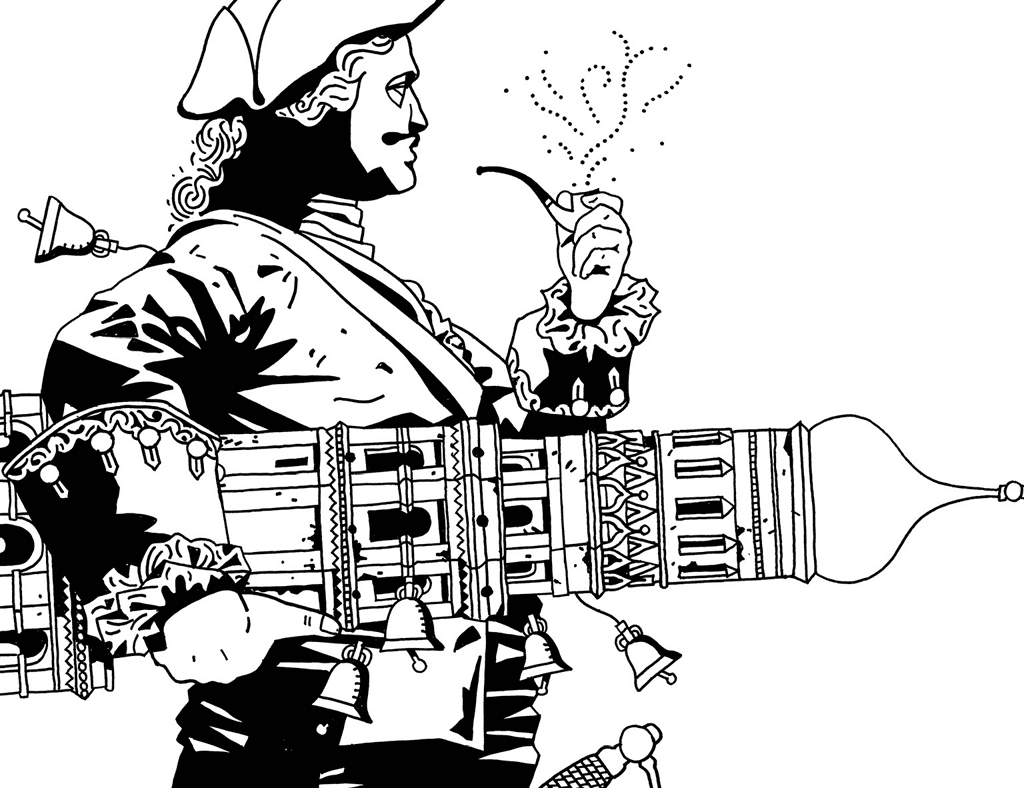
Почитатель:
Нет, все-таки Вы, сударь, беспощадны: в нынешние времена моя речь в защиту церковной политики Петра может потянуть на "оскорбление чувств верующих" и книжку нашего вполне невинного диалога спалят на площади в Москве, а ее издательницу накажут. Как ни смиренны и послушны государству нынешние попы, но Петра они люто ненавидят и, может быть, впервые за всю историю (под благожелательным взором с вершин власти) не стесняются это выражать и разносят нашего государя по кочкам — посмотрите соответствующие сайты. Это как бы месть за 200 лет "синодального периода Русской православной церкви". Наверняка Вы будете говорить о замене патриарха Священным правительствующим синодом, вспомните о кортике, который государь в ответ на просьбы членов Синода вернуться к системе патриаршества воткнул перед ними в стол и сказал: "Вот вам патриарх!", коснетесь также истории петровского Монастырского приказа, лишившего церковь земель, скажете о снятых церковных колоколах, о намерении государя ликвидировать монастыри и т. д. Много чего подобного можно, как говорят нынешние судейские, вчинить Петру.
Но я сразу Вам скажу главное — Петр Великий был глубоко, искренне верующим человеком. Он хотя и не получил систематического духовного образования, но великолепно знал Священное Писание, церковную службу и никогда никому не позволял смеяться над верой. Подчас это выходило за цивилизованные рамки — известна страшная и совершенно достоверная история, происшедшая в 1705 году в Полоцке, где Петр, вероятно пьяный, посетил униатский Софийский собор и, якобы не стерпев слов униатов о православии, убил четырех монахов и священника. Позже он сам признался в совершенном преступлении, опубликовав манифест, в котором говорилось, что четыре униатских монаха были убиты, а пятый повешен "за учиненное ими государю злоречие и переписку со шведами". Последнее, зная нравы нашей страны, было добавлено для убедительности расправы. Если отбросить в сторону уголовщину, можно признать, что Петр, как и вся Московская патриархия, более всего ненавидел униатов, принявших католическое богословие, но служивших по восточному обряду. Наша православная церковь была готова признать обрезание, лишь бы не пожимать руки униатскому священнику. Когда к Петру подступали католические профессора и епископы с предложением объединить церкви, он дипломатично уходил от ответа, говорил, что это, мол, дела духовные, от меня, необразованного светского правителя, далекие. На самом деле он хорошо разбирался в этих вопросах и твердо придерживался традиционной точки зрения, полагая, что подобное объединение будет означать подчинение Москвы Риму, чего пуще огня боялись иерархи православной церкви на протяжении всей ее историю. Не колеблясь, Петр одобрял жестокие расправы церкви и со староверами. В общем, он не выглядит отступником, атеистом, противником веры по православному обряду.
Да, Всепьянейший собор — организация, прямо скажем, зазорная, с откровенными намеками на церковную иерархию (пусть даже католическую). Но, во-первых, собор не был публичным, но действовал как этакий постоянный "корпоративчик" своих, проверенных людей, при которых можно и в словах, и даже в буйствах не стесняться (вспомним "Волка с Уолл-стрит"). Во-вторых, мы имеем дело с карнавальным, святочным элементом, вполне тогда допустимым.
Словом, отбирая у Вас вопрос, спрашиваю: коли государь был таким истым верующим, почему же он так сурово обходился с Русской православной церковью? Дело в том, что Петр, будучи умнейшим и проницательнейшим человеком, увязывал веру в Бога с рациональной философией своего века. Тогда, как бы далеко люди ни заходили в познании мира, они все же видели первопричину всего в Боге. То, что Бог создал мир и человека, казалось достаточным, чтобы верить в него. Не нужно обращаться к Нему по мелочам (успешно сдать экзамен или удачно выйти замуж), не следует идолопоклонничать и верить "слезоточащим иконам", разоблачение которых, как и других подобных "чудес", Петр проводил с большим удовольствием. Зачем это все, если общепризнано, что в начале всего сущего был Бог, ну а дальше мир развивался по естественно-научным законам. На Бога надейся, а сам не плошай (или как у Кромвеля — "держи порох сухим"), открывай, усердно изучай законы мироздания, совершенствуй свою жизнь, и в этом Бог будет тебе помощник, хоть конечный замысел Его и непостижим. Сохранилась история о том, как однажды Петр смотрел в телескоп и был потрясен видом звездного неба. Оторвавшись от окуляра, он задумчиво произнес: "Бесконечен звездный мир, что свидетельствует о бесконечности Бога и Его непознаваемости людьми. Светские науки далеко еще отстают от познания Творца и Его творения". Наверное, многие и теперь скажут нечто подобное.
Примечателен и не лишен правдоподобия рассказ царского токаря А. К. Нартова о посещении новгородского собора Святой Софии Петром и Яковом Брюсом — известным книжником, точнее чернокнижником, алхимиком, о чьем безверии и связи с дьяволом говорили многие современники. Стоя с царем возле рак святых, Брюс рассказал Петру о причинах нетленности лежащих в них тел. Нартов пишет: "Но как Брюс относил сие к климату, к свойству земли, в которой прежде погребены были, к бальзамированию телес и к воздержанной жизни, и сухоядению или пощению (от слова "пост". — Е. А.), то Петр Великий, приступя, наконец, к мощам святого Никиты, архиепископа Новгородского, открыл их, поднял их из раки, посадил, развел руки, паки сложив их, положил, потом спросил: "Что скажешь теперь, Яков Данилович? От чего сие происходит, что сгибы костей так движутся, яко бы у живого, и не разрушаются, и что вид лица, аки бы недавно скончавшегося?" Граф Брюс, увидя чудо сие, весьма дивился и в изумлении отвечал: "Не знаю сего, а ведаю то, что бог всемогущ и премудр"". Может быть, Брюс действительно несколько растерялся и сразу не нашел что сказать Петру, который, согласно Нартову, при этом поучительно заметил: "Сему-то верю и я и вижу, что светские науки далеко еще отстают от таинственного познания величества творца, которого молю, да вразумит меня по духу". Представим себе эту фантасмагорическую ситуацию, когда, стоя у переворошенной священной раки с сидящим в ней мертвецом, всероссийский самодержец и ученый генерал-фельдцейхмейстер ведут философскую беседу о пределах познания мира. И эта сцена поражает одновременно своим кощунством (ибо нельзя забывать, что происходит она не в кунсткамере, а в одной из православных святынь, у нетленного праха святого, которому поклоняются поколения верующих с XII века!) и тем, как точно отражает лишенную мистики и суеверия веру Петра, который находил доказательства бытия Божия также и в бессилии науки.
Нет сомнений, что, осуществляя церковную реформу, Петр исходил из положений протестантизма, ставившего государя во главу церкви. Это было неизбежно, учитывая его симпатии к протестантскому образу мышления, его любовь к Голландии и Англии, его имманентный авторитаризм. В итоге в России ликвидация патриаршества сопровождалась установлением коллегиальной формы управления духовными делами, а государь был объявлен главой Русской православной церкви. В этом стоит искать не ересь, а продолжение традиций Московского царства. Главенство государства над церковью существовало всегда. С давних пор на Руси назначение епископов не было внутренним делом церкви, а являлось функцией самодержца, выраженной в форме согласия государя на назначение кандидата, которого церковь рекомендовала на вакантную кафедру. Никогда не было ни равенства, ни настоящего согласия (как тогда говорили, симфонии) светской и церковной власти. Трудно припомнить, чтобы государь в своих делах советовался с патриархом (правление патриарха Филарета при сыне Михаиле Федоровиче не в счет) или чтобы патриарх просил царя проявить милосердие к павшим. Если бы он и обратился с такой просьбой, то, согласно одной из легенд, царь довольно грубо выгнал бы его из камеры пыток, указав при этом верховному иерарху его место на земле. Когда светской власти было что-то нужно, она, не стесняясь, диктовала свою волю церковникам. Сами патриархи попадали на свой трон исключительно с одобрения государя и в дальнейшем во всем зависели от него. В конечном счете ожесточенный спор иосифлян и нестяжателей закончился победой первых, а значит, победой светской власти, дающей церкви все: земли, крестьян, деньги, тарханные грамоты, освобождавшие церковные владения от налогов и повинностей. Ну а кто же кусает руку кормящего? Что ж, дальнейший результат известен. Как писал Бродский, "с государством щей не сваришь. // Если сваришь — отберет".
Петр, в сущности, ничего особенно не подавлял — изначально, в X веке, православная вера была выбрана Владимиром Красное Солнышко не за ее обрядную красоту и благолепие, как сказано в летописи, а за покорность ее служителей византийскому басилевсу, за готовность служить светскому правителю, да еще на понятном толпе туземном языке. Так было до Петра, так стало после него, так есть и сейчас. Когда во второй половине XVII века разгорелась борьба сторонников новой "никонианской" веры с верой старой, будущий патриарх Иоаким выразился более чем откровенно: "Не знаю [ни] старые веры, ни новые, но что велят начальницы, то и готов творити и слушать их во всем".
Реформируя церковь, Петр пошел своим путем, ведущим к установлению в обществе регулярности и целесообразности. Как и во многих других делах, он считал своей обязанностью перед Богом и людьми реформировать церковное устройство, или, как тогда выражались, "духовный чин". Важно, что Петр представлял церковную реформу как богоугодное дело богобоязненного монарха, озабоченного исключительно исполнением своего христианского долга: "Между многими, — читаем мы в указе 1721 года, — по долгу богоданными нам власти попеченьями о исправлении народа нашего ‹…› посмотря и на духовный чин и видя в нем много нестроения и великую в делах скудость, несуетный на совести нашей возымели страх: да не явимся неблагодарны Вышнему, аще толикая от него получив благопоспешества во исправлении как воинского, так и гражданского чина, пренебрежем исправление и чина духовного. И когда нелицемерный Он, Судия, вопросит от нас ответа о толиком нам от Него врученном приставлении, да не будем безответни". Нельзя положа руку на сердце не сказать, что кроме присущего Петру мессианства тут было известное лукавство и демагогия.
Причины реформирования церкви Петру были очевидны. Во-первых, среди политических противников Петра было немало церковников, не хотевших, чтобы представитель худородных Нарышкиных сидел на троне. Его поведение, привязанность к Немецкой слободе и всему иностранному убеждали их в "негодности царишки". Для Петра же люди в рясах оставались частью той "старины", которую он ненавидел. Отношение к ним видно в указе Петра 1698 года: певчим запрещалось появляться в Новодевичьем монастыре, где сидела царевна Софья. Тяжелым гневом дышит этот указ: "Певчих в монастырь не пускать, поют и тамошние старицы хорошо, лишь бы вера была, а не так, что в церкви поют "Спаси от бед", а на паперти деньги на убийство дают". Не случайно он приблизил к себе священнослужителей из киево-могилянского круга, которые были и образованнее отечественных святителей, и принадлежали к другому, хотя и православному миру, не связанному с московской "стариной". Да и потом он не церемонился со своими реальными и мнимыми врагами в рясе. Монашество, клобук, епископский посох, преклонные годы и общепризнанная святость не спасали людей церкви от дыбы и тюрьмы. Тут были и серьезные подозрения церковников в государственных преступлениях, но встречались и обвинения в пренебрежении правилами и законами светского государства. В сыскные органы попадали священники и архимандриты, которые (случайно или нет) ошибались в имени государя при возглашениях, забывали в службе помянуть Синод, не служили в установленные государством "календарные дни", запаздывали с присягой, возмущались ликвидацией патриаршества. Петру казалось, что для строгостей есть все основания. И дело царевича Алексея в 1718 году это подтвердило: его окружение было "пропитано ладаном", густым церковным духом, а среди ближайших сподвижников Алексея нашлось немало церковников, которые, как стало известно царю на следствии, мечтали о приходе царевича к власти и восстановлении старины.
Во-вторых, Петр включил церковь в новую систему общества как важную ее часть. Церковь должна была не только молиться о благе России, кадить и окроплять знамена новых полков, но и служить органом просвещения, образования, культуры. В 1700 году при посещении патриарха Адриана Петр произнес речь о пользе учения и наук и необходимости объединить их с верой, ибо "вера без дела, а дело без правыя веры мертво есть обоя". Это было сказано молодым царем не случайно. Петр верил, что у церкви есть особая вполне прагматическая миссия — нести свет Божественного учения, нравственности и культуры в народ. Нужно согласиться со знатоком допетровской Руси А. М. Панченко, писавшим: причина церковной реформы — нецивилизованность церкви, "именно церковь в глазах Петра была виновата в том, что за семь веков, протекших со времен Святого Владимира, на Руси отсутствовало правильное образование. Духовное сословие Петр хотел превратить в ученое сословие". Мысль Петра была проста: учась грамоте по специально составленным духовным текстам, люди могли освоить и грамоту, и одновременно проникнуться заложенными в этих текстах вечными истинами. Именно просветительскую миссию церкви Петр ставил выше всего.
Не буду скрывать, что он стремился сделать церковь рупором своей политики. Это естественно вытекало из непременного участия ее в повседневной и особенно праздничной жизни общества. С церковного амвона привычно звучало чтение царских указов и манифестов, а уж если победа, "шум и клики на Неве", то без торжественного богослужения, колокольного звона (может быть, уж не семидневного, как во время празднования Ништадтского мира в 1721 году) никак нельзя было обойтись: чай, мы — люди православные!
Словом, петровская церковная политика при всей ее жесткости, следовании зачастую сиюминутным политическим целям все же была по преимуществу культурообразующей. Мечта Петра о возвышении России, укреплении ее могущества зиждилась не только на вере в мощь флота и армии, но и на идеях распространения в стране культуры, грамотности, образования, современных технологий и мастерства. Христианские народы Европы, как было сказано раньше, являлись образцом для Петра. Он стремился доказать им, что и мы, русские, такие же цивилизованные люди, как и они. По мысли Петра, истинный сын Отечества — это образованный, воспитанный, занятый полезным делом подданный, одновременно законопослушный, верноподданный и непременно верующий человек. Для царя нравственность могла быть только христианской, православной. Более того, он был убежден, что она тождественна регулярности, вводимой им во всех сферах русской жизни. Военные должны были знать основы веры так же, как воинский устав. Петр полностью разделял мысль шведского короля Густава II Адольфа о том, что армия — школа христианской нравственности, что дикая природа человека исправляется только двумя началами — дисциплиной и верой.
Придавая столь важное значение просветительской деятельности церкви, Петр сам контролировал содержание речей и проповедей, которые звучали с амвона. Вообще, он был убежденным сторонником "говорящего" закона, доступно объясняющего каждому, в чем польза и необходимость его введения и пунктуального следования ему. Так же он относился и к духовному слову с амвона, поэтому был убежден в величайших возможностях живого слова и особо ценил проповедь (как позже Ленин — кино), восторгаясь златоустцами в рясах. В резких выражениях Петр осуждал бездумное следование церковному ритуалу, формальное служение Богу, вызывающее у людей только скуку и равнодушие.
Не случайно он особо благоволил тем, кто был образован, мог хорошо писать и говорить, точнее владел искусством элоквенции и произносил яркие, доходчивые проповеди. Недаром двое из первейших иерархов Русской православной церкви выдвинулись благодаря своим блистательным проповедям. Один из них — Стефан Яворский, скромный настоятель одного из киевских монастырей, — произнес такую проникновенную надгробную проповедь над телом генерала Шеина, что был доставлен в Москву, чтобы потом, после смерти патриарха Адриана, стать местоблюстителем патриаршего престола, а затем и президентом Священного Синода. Второй — Феофан Прокопович — произнес в Киеве речь в честь Полтавской победы, которая тронула царя своей образностью и красотой. Впоследствии Феофан фактически стал теоретиком самодержавия Петра. Не уступали им Феодосий Яновский, Феофилакт Лопатинский и другие талантливые церковнослужители. Все они составили весьма влиятельный круг высшей церковной элиты. Это не случайно. Все они вышли из Киево-Могилянской академии — лучшего, а точнее наилучшего православного учебного заведения, дававшего своим ученикам (в основном украинцам, белорусам и полякам) великолепное образование, которое они расширяли также за счет длительных командировок в Европу и особенно в Рим. Сила сторонников "латинской учености", "латинщиков" (так их называли туземные иерархи) зиждилась на прекрасном знании богословской и философской науки, проповедническом и писательском даровании, но более всего — на полной и безусловной поддержке царя, ценившего их ученость, ораторский талант и… годность в том смысле, как сказано выше. Они, как Феодосий и Феофан, пришлись ко двору тем, что поддержали Петра в стремлении полностью подчинить церковное управление светской власти.
Были среди "латинщиков" и другие — истинно праведные люди. Дело в том, что одной из важнейших задач Русской православной церкви Петр считал христианизацию огромных масс язычников Поволжья, Урала и Сибири. Царь знал, как зачастую без души, небрежно и формально собирают язычников, скопом крестят, дают им по полтине (собственно, ради этого они и съезжались на призыв пастыря) и отпускают — есть о чем написать победное доношение в Синод: новое достижение креста Господня — тысячи новообращенных христиан пополнили ойкумену. Петр понимал, что на эту необыкновенно тяжелую, но истинно христианскую работу никак не поднять инертное отечественное духовенство. Проблемой было даже найти пастыря, который бы согласился поехать, так сказать, на передний край миссионерства — в Тобольск. Под разными предлогами кандидаты увиливали от этой кафедры, считая ее местом ссылки. А вот поляк по происхождению, выпускник Киево-Могилянской академии Филофей Лещинский согласился сразу, поехал в Тобольск и стал одним из выдающихся миссионеров. Он пользовался полным доверием Петра за свой неутомимый миссионерский подвиг. Как писали современники, Филофей неустанно ездил по многим глухим и очень опасным местам Западной Сибири, неся слово Божие "закоренелым язычникам", встречавшим его совсем не дружелюбно. Однажды язычники два дня не позволяли ему сойти на берег с лодки, а он проповедовал им и читал молитвы. Когда он поднял над головой крест, пущенная с берега стрела пронзила его руку — чем не символ истинного христианского миссионерства!
После всего сказанного неудивительно, почему у Петра так чесались руки преобразовать Русскую православную церковь. В цитированном ранее указе он писал, что взялся за реформу, "посмотря и на духовный чин и видя в нем много нестроения и великую в делах скудость". Обратите внимание, что с присущим ему жаром он ухватился за две проблемы: "нестроения", то есть плохую организацию, и "великую в делах скудость", то есть, по-современному говоря, неэффективность, что применительно к церкви выглядит, конечно, экзотично. Решая первую, он преобразовал всю систему управления, ранее ориентированную на власть патриарха, заменив ее Синодом — коллегией, подобной тем коллегиям, которые были созданы ранее. Петр смотрел на церковь не как на Богом созданный институт, а как на человеческую организацию. И в этом смысле "княжеская" система церковного управления выглядела архаично в стройном ряду коллегий. Это все равно что представить собор Василия Блаженного Бармы и Постника вмонтированным в здание Двенадцати коллегий Д. Трезини. Тут Вы бы, наверно, сказали: "Вот так и была создана контора по делам церкви. С этого и начался мрачный "синодальный период" в истории церкви!" Но поймите, коллегиальная система, построенная на принципах камерализма, по тем временам была самой передовой и эффективной. В том, что церковь превратилась впоследствии в "контору" со всеми присущими этому понятию несимпатичными коннотациями, Петр не виноват. Ведь конгрессы и коллегии пресвитериан не бюрократические конторы! Он сам часто бывал на заседаниях Синода, показывая его членам, как нужно быстро и эффективно решать разные духовные дела. Причину же "скудости в делах" он, как уже сказано, видел в дремучести русских пастырей — необразованных, с трудом читающих, неспособных написать и произнести проповедь, погрязших в мирских делах и грехах.
При Петре началась массовая подготовка новых церковных кадров. Московская академия была реорганизована по образцу Киевской академии, которая, в свою очередь, копировала устройство и систему преподавания иезуитских школ (коллегиумов). Подобным образом была организована учебная работа и в Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге, куда были переведены образованные преподаватели из Киева и откуда получившие образование молодые монахи и священники отправлялись в провинции "окормлять" народ, руководить епархиями, настоятельствовать в знаменитых соборах, организовывать школы для обучения детей церковников. В этом направлении много сделал новгородский митрополит Иов, который, пригласив в Великий Новгород знаменитых греков братьев Лихуд, создал школу, ставшую образцом для создания впоследствии подобных двухклассных учебных заведений во всех епархиям.
Примечательно, что царь безусловно уважал Иова, мудреца и книжника, ценил его как лояльного церковного деятеля, поддерживал его культурные начинания, но исходил из иных — общегосударственных и светских — интересов. Так, он приветствовал организацию в Новгородской епархии благотворительных учреждений — домов престарелых и незаконнорожденных, "подкидных младенцев". Но в этом начинании Петр усмотрел, как ему казалось, государственную пользу. Известно, что царь, как и Иов, стремился переломить свойственное тогдашнему обществу пренебрежительное отношение к бастардам (по-русски — "выблядкам"), которых сразу после появления на свет несчастные матери, боявшиеся позора, топили, душили, бросали в отхожие места, оставляли на морозе. Начиная столь важное дело, Иов исходил из идеи гуманизма и соблюдения христианских норм. Но эта мера полностью укладывалась в весьма светские представления Петра, считавшего, что незаконнорожденные дети — такие же солдаты и подданные России, как и законнорожденные, а внебрачные связи — эффективный способ прироста населения. Царь считал, что нужно таких младенцев принимать и воспитывать как полезных государству и государю подданных. Начинания Иова по организации богаделен, гостиниц и больниц для немощных в Колмовом монастыре на Волхове были не просто одобрены Петром, а послужили в некотором смысле образцом. В начале 1712 года Петр дал Сенату указ: "По всем губерниям учинить шпиталеты для самых увечных, таких которая ни чем работать не смогут, ни стеречь, также и зело престарелым, также прием незазрительной и прокормление младенцем, которые не от законных жен раждены (дабы вящего греха не делали сиречь убийства) по примеру новогородского архиерея".
Благотворительная деятельность Иова, поддержанная царем, стала примером (может быть, не столько приятным, сколько обязательным) для других сановников. Новгородский ландрихтер Я. И. Римский-Корсаков, тесно связанный с Иовом, устроил особую больницу и гостиницу в Знаменском соборе. В 1715 году Петр приказал пристроить к гостиницам бани, поварни и покои за казенный счет. На это дело дали пожертвования царские родственники и семья Меншикова. В некотором смысле в Новгороде был поставлен удачный эксперимент того, что ныне называется "социальной защитой". В контексте поощрения этого рационального гуманизма в отношении выблядков нужно рассматривать и знаменитую казнь придворной девицы Марии Гамильтон, умертвившей двух незаконнорожденных младенцев. Успех дела Иова навел царя на мысль о превращении всех монастырей в богадельни, поставив монашествующих на службу светскому отечеству. Естественно, Иов, если бы вскоре не умер, наверняка возразил бы против этого начинания, изменившего суть монастырской жизни.
Никто ни до Петра, ни после не выражался так резко о монашестве, не издавал таких указов, в которых обвинял всех монахов в тунеядстве и утверждал, что люди "бегут в монастыри от податей, а также от лености, дабы даром хлеб есть". Конечно, среди монахов были и есть бездельники, симулянты — имитаторы веры, грешники и "сластоедцы". Порой и сейчас, видя на Пушкиногорской субботней ярмарке толстущего монаха, вальяжно гуляющего по рядам, невольно вспоминаешь достопочтенного Балду и его незадачливого нанимателя в рясе. Все это неизбежно, поскольку дьявол усерднее трудится по совращению душ в святых местах, а над нами, и так погрязшими в грехах, пролетает без остановки. Но признаем, что и среди монашьей братии было (наверное, есть и сейчас) немало праведных и святых людей. Я затрудняюсь однозначно объяснить столь яростную атаку Петра на монастыри и монастырский образ жизни. Что стояло за этим? Возможно, это старая ненависть к "старине" — символу всего враждебного. Недаром он дважды издавал указы, запрещавшие монахам писать, запершись в кельях. Ясно, что так писались филиппики и подметные письма против его власти. Наверняка за закрытыми дверями "книгописец" Григорий Талицкий сочинил свои антиправительственные "Тетради". Возможно, Петр вспоминал виденные им на Западе иезуитские монастыри-госпитали или так проявилось желание реально применить протестантские принципы общей пользы, единства служения и труда?
Недоброжелатель:
А я укажу Вам на истинную причину столь "яростной атаки" Петра на монастыри. Исходя из концепции "регулярства", Петр стремился зарегламентировать все, что видел, и при этом считал себя высшим судией всему, что делалось в России. Прав исследователь петровской религиозной политики А. С. Лавров, который считает, что совсем не секуляризация, не пропаганда своих начинаний, не распространение просвещения были главной целью петровской церковной реформы, а "социальное дисциплинирование", или, попросту говоря, использование церкви для усиления контроля за обществом, ибо ни одна институция не была столь всепроникающей, как церковь. И тут в своем фанатичном стремлении контролировать и направлять образ жизни и мышления своих подданных Петр яростно отвергал саму идею монашества, и совсем не потому, что монахи казались ему бездельниками, тунеядцами или дезертирами, а потому, что царю была невыносима сама мысль, что в его регулярном государстве, где все — "государевы рабы", ходящие по струнке, есть люди, внутренне независимые от него — светского правителя, живущие иными, чем исповедует он, ценностями и идеалами.
В высшей степени примечателен для нового видения устройства общества как тотально контролируемого петровский указ "о запрете страдания". В 1721 году в Тайной канцелярии рассматривалось дело Варлаама Левина, который на пензенском базаре публично осуждал власть. При этом выяснилось, что он, делая это публично, сознательно хотел "волею своею пострадать и умереть". Этот случай был замечен Петром, и вскоре появился удивительнейший в русской истории указ, в котором его желание резко осуждалось, да еще с элементами наставления "простым душам": "Не всякое страдание, но только страдание законно бываемое, то есть за известную истину, за догматы вечныя правды, за непременный закон Божий, полезно и богоугодно есть". В России же — православной стране — места для законного страдания нет, так как "таковаго правды ради гонения никогда в Российском, яко православном государстве, опасатися не подобает, понеже то и быти не может". Чем не аргументация советского чекиста в "профилактической беседе" с начинающим диссидентом! Иначе говоря, нет в России причин идти на костер идеи ради. Но, как известно, страдальцев в России любят. Только дай нашему человеку "претерпеть за правду" — жизнь его освещается смыслом и обоготворяется народом. А такого бесконтрольного страдания, по мысли власти, допускать ни в коем случае нельзя. Левина казнили с особой жестокостью — после долгих пыток он был колесован, а голову его в банке со спиртом отправили в Пензу, как считала власть, в пример другим.
Был еще один важный момент, который при изучении церковной реформы Петра ускользает от исследователей. Это нескрываемый страх перед силой, которая выше светской власти с ее полицией и армией. Дело в том, что церковь — организация духа, врата неземного и горнего царства — символизировала собой независимость от государства — царства земного и тленного. Конечно, со времен иосифлян церковь пропиталась земным духом, а уж ее византийская сервильность у Русской православной церкви от рождения (здесь я с Вами согласен). И все же! При определенных условиях церковь могла бы оказать сопротивление светской власти в ее не знающих пределов преобразованиях. Петр отлично это понимал, слыша тихий ропот церковников. Указ о запрете приводить певчих в Новодевичий монастырь явно свидетельствует о его опасениях на сей счет. Опора на киевских монахов — из тех же соображений: чуждые в русской среде, они были послушны царю. Задумав ликвидацию патриаршества и введение Синода, Петр в знаменитом "Духовном регламенте" (заметьте, что его написал Феофан, а Петр отредактировал) простодушно и откровенно признавался, что, вводя коллегиальное правление в церкви, он рассчитывает, что при коллегиальности церковь не будет оппонировать самодержавию: "…от соборного правления не опасатися отечеству мятежей и смущения, яковые происходят от единаго собственнаго правителя духовного ‹…› ибо простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от Самодержавной; но великою Высочайшаго Пастыря (то есть патриарха. — Е. А.) честию и славою удивляемый, помышляет, что таковой правитель есть то вторый Государь, Самодержцу равносильный, или и больше его, и что духовный чин есть другое и лучшее Государство, и се сам собою народ тако умствовати обыкл…" А дальше самое главное: "Тако простые сердца мнением сим развращаются, что не так на Самодержца своего, яко на Верховного Пастыря в коем-либо деле смотрят. И когда услышится некая между оными распря, вси духовному паче, нежели мирскому правителю, аще и слепо и пребезумно согласуют, и за него поборствовати и бунтоватися дерзают". И как будет славно при Синоде: "…когда видит народ, что Соборное сие Правительство монаршим указом и сенатским приговором установлено есть, то и паче пребудет в кротости своей и весьма отложит надежду имети помощь к бунтам своим от чина духовного".
Конечно, здесь слышны отзвуки той распри, которая разгорелась за полстолетие до этого между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном, гордо называвшим себя "величеством", "государем" и писавшим, как самодержец, указы. Но зачем нужно было вспоминать эту историю в 1721 году? Думаю, это вызвано опасением, что патриаршая церковь с ее освященной традицией мощью и широкой поддержкой "простых сердец" в какой-то момент могла бы стать единственной силой, имеющей моральное право оказывать сопротивление немыслимым, издевательским для русского человека преобразованиям Петра. Хорошо известно, что в 1611 году не покорившийся полякам-оккупантам и коллаборантам из Семибоярщины патриарх Гермоген поднял страну в борьбе за независимость, будучи запертым в зловонном холодном подвале, где впоследствии умер от голода. И как?! С помощью узеньких, свернутых в трубочку "грамоток", которые верные люди развозили по всем городам оккупированной врагами России. Эти грамотки в конечном счете привели к победе ополчения Минина и Пожарского над поляками.
Подобного ревнивая светская власть допустить не могла. Заметим, что в советский период власти крайне сурово обходились с церковью именно потому, что окормлять народ, промывать ему мозги должен один "хозяин", с одной идеологией. Вот истинные причины церковной реформы Петра. Вы бы могли спросить, а почему он не провел реформацию, как Лютер. Возможно, Петр был бы не против, но он понимал, что в делах веры есть вопросы, которую не решить своей дубинкой. У всех перед глазами был пример поистине героического сопротивления "заледенелых" раскольников, счастливых тем, что могут за веру пострадать от власти и официальной церкви. Для государства это очень опасно, потому что ради духовных ценностей люди готовы идти на костер — это не наживное и тленное защищать. Зная, что эти мужественные люди поднимутся на эшафот как на Голгофу, государство вело себя с ними как настоящий убийца: тайно, ночью "твердого раскольника" казнили в камере Петропавловской крепости, а потом тело спускали под лед Невы, чтобы не было ни могилы, ни поклонения.
Теперь по поводу сервильности Русской православной церкви и традиционной трусости ее иерархов. Я не склонен упрекать их. Все помнят подвиг Филиппа Колычева и его судьбу. Многие помнят подвиг Арсения Мацеевича, возвысившего голос против значительно более гуманной, чем Иван Грозный, Екатерины II. Чем это для него закончилось? Конечно, Екатерина об этом ничего не писала своему сердечному другу М. Гримму — этакому европейскому "громкоговорителю", транслятору ее идей и рефлексий, но сама поступила с Мациевичем как ее кровожадные предшественники на троне: заморила несчастного в заложенной кирпичами камере Ревельского замка.
Так как Русская православная церковь находилась под серьезной угрозой реформации в условиях тотального наступления государства на церковь, ее первейшей миссией стало собственное выживание, сохранение себя во имя будущего. Достигалось это путем уступок, компромиссов, одобрения безнравственных деяний и даже преступлений светской власти. Правда, были пределы, за которые церковь не заходила. Так, в 1718 году иерархи отказались подписать смертный приговор наследнику престола царевичу Алексею Петровичу. Несмотря на явное давление светской власти, они не одобрили сыноубийства, что по тем временам было неслыханной дерзостью. Петр, зная только послушную церковь, понял, что в своем желании согнуть ее он достиг предела, и, как умный человек… отступил. Но в остальном церковь всю свою синодальную историю молчала, кивала, угождала. Эта стратегия выживания дорого ей обошлась. Утратив доверие общества, особенно в XIX веке, она совсем омертвела, обюрократилась, опобедоносилась, стала именно конторой для исполнения всем известного ритуала. Хотя сама вера не исчезла и, как мне кажется, нашла выход в расцветшем во второй половине XIX веке институте старчества. Это чутко уловил в "Братьях Карамазовых" Достоевский. Именно через старцев, носителей простых истин, мудрости и сердечного отношения к людям, стало возможно возвращение к истинной вере. Мне кажется, этот путь открыт и сейчас — надо лишь подождать, когда старцы появятся.
Возвращаясь к петровской церкви, все же не могу, при всем моем понимании ее проблем, простить и забыть ее иерархам двух грехов: греха смертоубийства и греха доносительства. И в этом я не вижу нарушение законов историзма, ибо две тысячи лет существует единая шкала христианских ценностей, по которой можно судить всех христиан. Эту шкалу для верующих никто не отменял. Недаром царя-убийцу Ивана Грозного порой охватывал страх за совершенные им преступления и он истово просил у Господа прощения за пролитую невинную кровь. Тогда он судорожно писал свой синодик — список загубленных им душ, дабы вечно поминать их в церкви. А уж об Иуде Искариоте и его сребрениках помнит каждый.
Деятели петровской церкви, вроде Феофана и Феодосия, должны гореть в аду за те преступления, которые они совершили в отношении значительной части русского народа — старообрядцев. Заметим, что за покорность церкви светская власть платила ей сторицей: без государственной силы и могущества официальная церковь никогда бы не справилась со старообрядчеством — истинно народной верой. А именно старообрядцы признавались церковью заклятыми врагами, недостойными пощады. Горделивое утверждение некоторых отечественных историков о том, что в России XVII–XVIII веков не было ужасов западноевропейской инквизиции, требует значительных оговорок. Действительно, церковных судов, подобных католической инквизиции, в России не было. Но их роль исправно исполняли органы политического сыска, как и все государство, взявшее на себя функции защиты православной веры в ее единственной официальной версии. Процесс, который целое столетие велся церковью над старообрядцами, был полностью скопирован со светского политического процесса и был так же пристрастен, жесток и несправедлив. Нераскаявшихся раскольников пытали, сжигали, подвергали позорным казням и ссылкам. В России не было такого количества костров для еретиков, как в Западной Европе, но их заменяли гари, к которым официальная церковь и власти своими грубыми, бесчеловечными методами понуждали старообрядцев. Законодательство о раскольниках имело неуклонную тенденцию к ужесточению, что видно по принятым законам конца XVII — первой половины XVIII века. Петровское время прошло под знаком — без преувеличения — тотального преследования старообрядцев. На них, как на диких зверей, устраивались в лесах многолюдные облавы. Своей бескомпромиссностью, жестокостью в борьбе с "расколом" официальная церковь способствовала, в сущности, подлинному расколу России на "добропорядочных" подданных и париев, изгоев, оказавшихся за гранью человеческого и гражданского сообщества. Вместе с тем наступление на раскольников как врагов веры и государства вело к усилению старообрядческого фанатизма, проникнутого ожиданиями конца света, и росту тайных симпатий к ним в народной среде, к двоемыслию и ханжеству.
Прощение мог получить только тот раскольник, который отрекался от своей веры и приносил унизительное покаяние. Да и потом за ним устанавливался тщательный надзор со стороны церкви. Нераскаявшихся старообрядцев подвергали разнообразным ограничениям, их принуждали нести двойные повинности и платить двойные налоги, им запрещали заниматься торговлей и другими видами деятельности, состоять в мирских должностях, свидетельствовать в суде, их нельзя было приводить к присяге, им не давали издавать, переписывать, хранить книги, учить детей грамоте, запрещали читать и писать. Особые знаки на одежде выделяли их из толпы. В сущности, это был настоящий геноцид по религиозному принципу, вроде того, что устраивал испанский король Филипп II в отношении морисков в середине XVI века.
Такое положение стало возможным исключительно благодаря позиции Петра, давшего полную свободу фанатикам и карьеристам в рясе расправляться со своими идейными противниками. За поддержку его синодальных начинаний царь предоставил церковным деятелям свободу расправы с конкурентами, и они с необыкновенным рвением взялись за роль инквизиторов. Синодальные члены постоянно выступали экспертами Тайной канцелярии. Оттуда они забирали к себе, в монастырскую тюрьму, раскаявшегося под воздействием пыток раскольника и в тонкой беседе с ним выясняли, подлинно ли он раскаялся или только сделал вид, что готов подчиниться официальной церкви, а после этого писали "отчет" начальнику Тайной полиции. Истинно, спустя три века так же стыдно читать эти отчеты, как "отчеты" советских священников в КГБ.
Да, и сам Священный синод почти с первого дня работы в 1721 году фактически стал филиалом Тайной канцелярии, имел собственные камеры пыток. Феодосий и чаще Феофан, гордившийся своей ученостью, любили устраивать "диспуты". Удобно расположившись в золоченом кресле, они спорили на богословские темы с подвешенным на дыбе "заледенелым раскольником", да и то не всегда выигрывали этот спор — старообрядческие старцы были очень образованны и умны, легко находили аргументы в виде пространных цитат из Священного Писания, ясных и логичных умозаключений, а их фанатичная вера придавала им уверенность. И надо сказать, читая эти пропитанные кровью старообрядцев протоколы допросов, испытываешь гордость за свой народ — действительно, как много было в порабощенном государстве порядочных, совестливых, достойных людей. Оказывается, не все были сволочи, не все предатели, пригибающиеся под неимоверной тяжестью государственного ярма или продавшиеся за пайку. Среди документов Сыскного приказа, созданного, как сказано в указе, "для изыскания истины пытками", крайне мало свидетельств поражения старообрядцев, признания ими своей неправоты, ничтожно число просьб о пощаде и совсем нет доносов на свою братию — и это в стране, где царил культ доноса! А пыточная система в Сыскном приказе была гораздо страшнее, чем в Тайной канцелярии, что вообще характерно для церкви. Примечателен спор Святейшего синода и Правительствующего сената в 1742 году по поводу того, с каких лет можно пытать людей, сделавших описку в титуле императрицы. Сенат считал, что пытать нужно с 17 лет, а Синод настаивал на том, чтобы пытали с 12 лет, а то и раньше, ибо, считали иерархи церкви, человек становится преступником, как только начинает грешить, а способность грешить у человека появляется уже в 7 лет. И это церковь Христа!
Возвращаюсь к старообрядцам и приведу несколько примеров их страданий и мужества. Крестьянин Дмитрий Белов был пытан в 1752 году 13 апреля (50 ударов кнута) и 6 ноября (35 ударов), а 18 января 1753 года за отказ "признать свою ересь" получил еще 35 ударов, но не покорился. При этом у дыбы стоял священник и увещевал вернуться в лоно православной церкви, что тотчас бы прервало нечеловеческие мучения узника.
Так было и с 60-летним каменщиком Яковом Куприяновым, которого пытали в 1752 году. На первой пытке ему дали невероятное количество (90!) ударов кнута, а на второй — 70 ударов. На третьей пытке несчастный получил 100 ударов! Уму непостижимо, как он страдал! В Тайной канцелярии, разбиравшей политические дела, нормой считалось 20, максимум 30 ударов кнута, который, как известно, своими острыми краями (полотно кнута состояло из полосы твердой, загнутой по краям свиной кожи) глубоко вонзался в тело несчастного и выдирал из него куски мяса. Несмотря на эти мучения, Куприянов от веры своей не отрекся. Его приговорили сначала к сожжению, но потом били кнутом и сослали на каторгу в Эстляндию, в Рогервик (в Сибирь раскольников не ссылали, боясь их побегов).
Упорствующий в расколе 70-летний дворцовый крестьянин Полуехт Никитин был настоящим борцом за то, что теперь называют свободой совести. В 1747 году он выдержал две пытки, на которых получил 73 удара кнутом, но по-прежнему утверждал: "Будь-де воля Божия, а до души моей никому дела нет". Так он и умер с этими словами на устах. И до сих пор Русская православная церковь не признала этого греха смертоубийства тысяч невинных людей и, уж конечно, не покаялась.
Теперь о грехе доносительства. Ни в одной православной церкви Вы не найдете иконы святого Яна Непомука, чешского священника, отказавшегося открыть королю исповедь королевы, за что он был утоплен во Влтаве. Культа его и не могло быть в нашей церкви, потому что доносительство было нормой ее жизни 200 лет. 1 мая 1722 года Святейший синод опубликовал указ, согласно которому каждому священнику предписывалось нарушать одно из основополагающих христианских таинств — тайну исповеди в том случае, если в словах прихожанина священник усмотрит состав совершенного или задуманного государственного преступления. Синод уверял, что нарушение тайны исповеди "не есть грех, но полезное, хотящаго быть злодейства пресечение". Услышав из уст своего духовного сына нечто подозрительное, священник был обязан тайно донести "куда следует", а затем обличать преступника во время расследования в органах сыска. Доказать состав государственного преступления, опираясь только на слова, сказанные исповедующимся под епитрахилью, было весьма трудно, но и не доносить стало опасно: духовный сын мог проговориться в другом месте или на допросе объявить, что священник знал о его преступном замысле. А священника, уличенного в недонесении, ожидало лишение сана, имущества и жизни как "противника и такового злодея согласника, паче же государственных вредов прикрывателя".
Мало того, Синод требовал от попов приносить особую присягу о неразглашении: "Когда же к службе и пользе Его императорского величества какое тайное дело или какие б оное не было, которое приказано мне будет содержать, то содержать в совершенной тайне и никому не объявлять". Указ 1722 года, как и ему подобные, поставил каждого православного священника в тяжелейшее положение: доносы на духовных детей являлись нарушением устоев веры, а недонесение шло вразрез с волей земного владыки. Все с той же целью усиления полицейского начала в церкви Петр ввел закон об обязательности ежегодной исповеди и причащения прихожан, а также записи явки на исповедь в специальных книгах. И священники послушно исполняли волю светской власти, ибо сами боялись доносов. Не явившиеся к исповеди автоматически признавались раскольниками, и в этом случае мать-церковь Христова безжалостно выбрасывала их за пределы своего священного поля. А для верующего человека это было порой страшнее смерти. Да и часто бывало, что мирянин не шел на исповедь не потому, что он сомневался в реформах Никона, а потому, что боялся доноса священника: как истинно верующий, слышавший или сказавший что-то против действующей власти, он должен был сказать всю правду, как перед Богом! Вот и возникала дилемма, мучившая русского человека на протяжении 300 лет нашей истории: "И доносить мерзко, и не доносить страшно". Выбор ужасающий: или Родину продать, или бессмертную душу, или донести во славу отечества, или отринуть участь Иуды. И это нужно было решать срочно: закон устанавливал трехдневный срок для доноса, иначе сам погоришь "за недоносительство". В итоге церковь вместе с государством поощряла доносительство, которое с Петровской эпохи стало обычным, вовсе не осуждаемым явлением, к которому были три столетия причастны все служители церкви от высших иерархов до сельских батюшек. Во всем этом было какое-то мерзкое бесстыдство. При Петре появились так называемые "исповедальные допросы", когда изломанный на пытках узник перед смертью хотел исповедоваться и причаститься, как положено христианину. И к нему являлся заранее проинструктированный священник. При исповеди он умело задавал нужные следователю вопросы, а потом писал отчет об исповедальном допросе. А если нужных "исповедальных показаний" он не добивался, то безжалостно покидал умирающего, не удостоив его последнего причастия и отпущения грехов. Так было и после Петра с самозванкой "Таракановой", так было и позже. Как вспоминает один из декабристов, он страшно обрадовался, когда к нему в камеру вошел священник, а тот, увидев святой порыв узника, сказал ему пару ласковых слов, а потом задрал подрясник, достал тетрадку и карандаш и бодро спросил: "Ну, в чем будем каяться?" И эта зараза доносительства расползлась по всему обществу, отравила жизнь многих поколений. Поэтому-то откуда знать православным, в чем состоял подвиг святого Яна Непомука.
Работать с материалами политического сыска — тяжкий труд для историка. Уходишь из архива мрачным и удрученным, поскольку наблюдаешь массовость доносов: друзей на друзей, детей на родителей, жен на мужей, сослуживцев на товарищей по службе. По материалам доносов видишь, как доносчик прислушивался к тихому разговору соседей за столом, к беседе на крыльце, к озорной частушке, к ворчанью в нужнике, как холоп подслушивал в скважину двери, что помещик, лежа с женой в постели, костерит государя, и т. д. и т. п. Удивляешься, как годами не решавшая элементарных проблем власть проявляла необыкновенно быструю "отзывчивость" к изветам всех видов. С помощью законодательства, полицейской практики, усилий церкви петровское государство создало такие условия, при которых подданный не доносить (без риска потерять свободу и голову) попросту не мог. Поэтому "извещали" тысячи людей. От этого чтения легко потерять веру и в народ, и в человечество. Это истинное копание в окаменелом дерьме.
Зная о системе доносов в других странах, памятуя об инквизиции, видя ящики для доносов в музеях Испании и Италии, невольно задумываешься об истоках этого гнусного общественного порока и всегда приходишь к выводу, что это становится возможным только тогда, когда этого хочет власть. Поощряя доносительство морально и материально, она откровенно развращает общество. Для России донос был еще и государственным институтом, частью системы управления, как ни странно это звучит. При слабости самоуправления, неэффективности, вороватости местной власти донос позволял более эффективно осуществлять функцию контроля. Рассматривая, например, законодательство о службе, землевладении, торговле, замечаешь, что почти каждый издаваемый указ или наказ содержит норму материального поощрения доносительства в отношении нарушителей этого конкретного закона. Расчет строился на том, что помещик донесет на своего соседа, уклонявшегося от службы, в надежде получить часть его имения — это была плата за донос. Купец в соседней лавке донесет на соседа-купца, приторговывавшего контрабандой. Возможно, в тогдашней России иной, лучшей формы государственного контроля и не было, а управлять страной можно было только при помощи страха и доноса: вероятный нарушитель закона в принципе должен бояться доноса, а вероятный доносчик должен знать, что его поощрят за "правильный", или, как тогда говорили, "доведенный", то есть доказанный донос. Появившийся при Петре институт штатных доносчиков — фискалов стал законченным выражением этого принципа.
Важно сказать, что созданная Петром система насилия и доносов не встречала в народной толще сопротивления или хотя бы скрытого саботажа. Екатерина II, в глубоком патриотизме которой нельзя сомневаться, справедливо писала, что русский народ "неблагодарный, наполненный доносчиками". Действительно, материалы политического сыска раскрывают бездну общественного порока. Кажется, что греху Иуды предавались все без исключения, а случаи жертвенного, христианского поведения встречаются крайне редко, да и то относятся они, как правило, к старообрядцам. Начиная с петровского времени общественная атмосфера была пронизана стойкими миазмами доносительства. Страх стать жертвой доноса был так силен, что известны случаи самодоносов. Так, в 1762 году был арестован солдатский сын Никита Алексеев, который явился автором оригинального самоизвета. Он, как записано в протоколе, "на себя показывал, что будто бы он, будучи пьяным, в уме своем поносил блаженныя и вечной славы достойныя памяти государыню императрицу Елизавету Петровну". По-видимому, следствие оказалось в некотором затруднении и потребовало от Алексеева уточнений. Но он лишь прибавил, что кроме императрицы еще и Бога бранил: "Он в уме своем рассуждал, что для чего-де на него, Алексеева, Бог прогневался и всемилостивейшая государыня его не смилует, что-де он часто находится в наказаниях и притом же в уме своем Бога выбранил и всемилостивейшую государыню поносил, а какими словами — не упомнит". А именно последнее и интересовало следователей более всего — в его деле свидетелей, которые "помогли" бы вспомнить сказанные "непристойные слова", быть не могло. Однако за Алексеевым числились и другие грехи, поэтому разбираться в этом странном самооговоре в Тайной канцелярии не стали, а приговорили преступника к битью кнутом и ссылке на каторгу.
Почитатель:
Ну, хватит о мрачном. Истории многих стран знают подобное. Поговорим под конец, как было принято в советских учебниках, о культуре. Вы должны согласиться, что Петровская эпоха стала настоящим прорывом в культуре. Русский язык стал искуснее, он быстро изжил церковнославянские архаизмы, его лексика обогатилась новыми словами, понятиями, и он стремительно превращался в современный литературный язык. Ломоносов — грандиозное культурное явление, которое без Петра было бы невозможно, — писал, что только с начала XVIII века мы заговорили на русском европейском языке. Первое же стихотворение Ломоносова на победу русской армии над турками в 1739 году звучит необыкновенно выразительно: "Шумит с ручьями бор и дол: // "Победа, Росская победа!" // Но враг, что от меча ушел, // Боится собственнаго следа!" Нет, при всем уважении к Древней Руси не могли так написать в XVII веке!
Да что стихи! Петр сделал так много для переноса в Россию совершенно ей необходимых культурных и интеллектуальных ценностей, начиная с закупок произведений искусства и заканчивая отправкой людей за границу для получения художественного образования (то и другое стало традицией в последующее время). А разве можно забыть "десанты" в Петербург приглашенных Петром иностранных художников, скульпторов, мастеров разных профессий?
Без сомнения, Петербург сыграл особую роль в приобщении России к культуре Западной Европы. Статус административной, военной и морской столицы делал неизбежным сосредоточение в нем самых разных, в том числе весьма образованных, специалистов с развитыми духовными потребностями, глубокой европейской культурой, обширными связями по всему миру. К тому же почти сразу город стал крупнейшим центром образования. Уже в XVIII веке ближние к Неве линии Васильевского острова напоминали Оксфорд или Кембридж. Кроме кадетов Сухопутного и Морского кадетских корпусов, здесь можно было увидеть учеников и студентов Академии художеств, гимназии и университета Академии наук, здесь встречались студенты Горного училища с 22-й линии, Учительской семинарии с 6-й линии, ученики Благовещенской и Андреевской школ с Большого проспекта, а также учащиеся частных учебных заведений. Не случайно именно в этом месте обитания тогдашней петербургской интеллигенции был открыт Петербургский университет, а потом гимназия Мая, Бестужевские курсы и т. д. Так формировалась питательная среда для развития русской культуры и науки.
Но и этого было мало для будущего культурного феномена "блистательного Петербурга". Для русской науки и искусства (по крайней мере до середины XIX века) важнейшим фактором развития стала императорская столичность Петербурга. Недаром все основные, структурообразующие институты культуры и искусства носили гриф "Императорский" (академии, театры, научные, просветительские, благотворительные общества). Как уже было сказано, в стране, где не было раньше университетских традиций, просвещенных феодалов и купцов-меценатов, наука и искусство могли развиваться только при поддержке государства, что с неизбежностью вело к зависимости деятелей культуры от бюрократии, от вкусов двора и самодержца, способствовало сервильности культуры. Но все эти недостатки имперской культуры и науки XVIII–XIX веков с лихвой окупались блестящими успехами ученых и художников.
Не будем забывать, что в большинстве своем наши самодержцы были людьми образованными, с развитым вкусом. Их дворцы стали подлинными музеями, где скапливались невероятные шедевры со всей Европы. Над заказами двора и подражавшей ему знати работали первоклассные художники, скульпторы, архитекторы. Во многом благодаря интенсивной культурной жизни двора в императорском Петербурге сформировались оригинальные культурные традиции. Более того, достижения имперской культуры стали во второй половине XIX — начале XX века основой для развития самых разнородных и независимых от власти культурных и художественных инициатив, идет ли речь о частных учебных заведениях или независимых журналах, творческих объединениях или театральных труппах. При этом борьба академических и неакадемических течений в науке, искусстве и культуре не была уничтожающе враждебна (судьба Репина и других тому пример), а оказалась благотворна, полезна для России.
Изначально созданные в рамках государства и дворцового ведомства, научные и художественные учреждения достаточно органично включились в общий культурный процесс новейшего времени. Причем долгое время академические традиции сохраняли свое влияние, оставались эталоном добросовестности, профессионализма, научной порядочности, формировали в стране устойчивые представления (а также мифы) об особой петербургской (ленинградской) интеллигенции. Эманация этой петербургской субкультуры волнами расходилась по всей Российской империи, формируя в целом русскую национальную культуру, которая уже была немыслима без Петербурга, без "имперского периода". И все Петр! Вы согласны?
Недоброжелатель:
Тут несколько возражений. Во-первых, приникая к источникам других культур, зачем нужно было яростно уничтожать свою, унаследованную от предков культуру, которой была почти тысяча лет? Как уже сказано, для Петра старина была синонимом вредного, плохого, смешного, неудобного. С его реформ в общественном сознании запечатлелось, что допетровская культура плоха, примитивна, малоинтересна. В сущности, до недавнего времени, до коллекций икон художников Грабаря, Корина, до повести "Черные доски" писателя Солоухина, до фильма "Андрей Рублев" Тарковского, до исследований академика Д. С. Лихачева повсеместно царило убеждение, что древнерусская культура вторична, тупикова. Причем такое отношение к старине из Российской империи перекочевало в Советскую империю. Еще живы люди, которые помнят "открытие" Андрея Рублева или Дионисия, замазанных синодальными богомазами. Сколько гениальных памятников прошлого было погублено из-за пренебрежения, сколько уничтожено старинных икон, книг, сколько угасло или прервалось культурных традиций, составляющих сущность русской культуры!
Кажется, будто Петр ломал русскую культуру через колено, поступал с ней как завоеватель. Неужели наш народ, живший до Петра тысячу лет, был так плох, что заслужил колонизаторское отношение? Ведь произошло нечто страшное: нарушилось то, что называется translatio studii — преемственность культуры. Даже Реформация в Европе не была столь радикальна в отношении культуры, как "культурная политика" Петра в России. Сравнивая Россию с Японией в правлении императора Мэйдзи, понимаешь, что Петр, модернизируя страну, ее экономику, армию, создавая современный флот, активно общаясь с иностранцами, перенимая достижения их культуры, имел возможность сохранить традиционные, старинные формы одежды, обычаи, песни.
Положа руку на сердце скажем, что почти весь XVIII век в культурном смысле пропал для России. С трудом усваивая европейские барокко и классицизм, сочиняя по европейским "прописям", русская культура целый век пребывала, в сущности, в состоянии ученичества, подражательства — до времен Пушкина и Глинки, когда привитое дерево наконец дало обильный плод. Но целый век — слишком дорогая цена за оригинальность.
Во-вторых, о каком достоинстве человека, дворянина, о каких зачатках гражданского общества можно говорить в те времена? Все сплошь представляли собой разные категории "государевых рабов". Петровский дворянин такой же раб государства, как крестьянин — раб дворянина. Сами жизнь и смерть не были собственными у человека той эпохи. Вы знаете, что Петр ввел законы, предписавшие казнь самоубийцам (живые они еще или уже мертвые), ибо признавалось, что жизнь подданного принадлежит не ему, а государству. В стране воцарилось повсеместное, невиданное прежде насилие. Можно говорить даже о его тотальных формах. Так, на крупных стройках просматривались черты будущего ГУЛАГа: тысячи закованных в цепи преступников строили города, крепости, гребли на галерах. В законодательстве стали преобладать суровые, даже свирепые нормы наказания. Кажется, что не было закона, который бы не предусматривал телесных наказаний. Били, пороли, истязали всех: дворян, солдат, стариков, женщин, детей. Все это историки права называют "раздачей боли".
Почитатель:
Да, Петр был горячим сторонником концепции "просвещенного принуждения", считая насилие крайне необходимым. Но согласитесь, что это насилие не каприз тирана, вроде Грозного, и не паранойя, как у Сталина, а распространенная в прошлом педагогическая норма, применимая к ленивому ученику — именно таким ему представлялся русский народ. У Петра не было другого способа заставить русских осваивать знания и навыки передовых народов, как только показывать на своем примере, учить, принуждать, ведь и ныне принуждение (в облагороженной форме) — основа просвещения. Да, на его знамени как будто было написано: "Прогресс через насилие!". Он видел себя воспитателем, учителем народа, как уже было сказано. Может быть, иначе в России и нельзя. Да и время было жестокое. Отец прусского короля Фридриха Великого говорил: "Когда я вижу сына, рука тянется к палке". В этих условиях трудно было избежать крайностей, но зато можно было достичь поставленных целей.
Недоброжелатель:
Вот-вот, знакомая песня: "Лес рубят — щепки летят". Может, поэтому все правители России, считая себя учителями, вечно недовольны народом, которым управляют. Старая концепция: народ — дети и с ним нужно построже! Впрочем, везде так. Вспоминаю слова одного испанского короля: "Народ как ребенок, его моют, а он плачет". Убогая умом Анна Иоанновна и та писала генерал-прокурору: "Ты им указ прочитай, да покричи на них страха ради". Они и теперь такие улыбчивые за границей, а с экрана телевизора с нами говорят строго, сурово, будто мы в чем-то изначально перед ними виноваты, будто мы все ленивы и жуликоваты.
Ну да ладно! Пусть насилие, но зачем в душу лезть, уничтожать веру, сокровенное, тайное, то, что недоступно никому, кроме Бога? Разве законы Петра об обязательной исповеди и обязательном нарушении ее тайны не есть насилие над душами?
Словом, Петр своими реформами способствовал консервации многих явлений Средневековья, которые начали было размываться перед его царствованием. Речь идет о резком усилении крепостного права, складывании жесткой политической системы, в которой господствовала ничем не ограниченная самодержавная власть и бюрократия… В целом можно сказать, что Петровская эпоха резко сузила возможности иного, то есть несамодержавного, некрепостнического, неимперского, неполицейского, развития России. Благодаря петровскому "прогрессу через насилие" из многих вариантов движения в будущее у России остался только один путь, по которому она идет до сих пор.
Возвращаясь к культуре, скажу то, что общеизвестно, однако не утратило своего значения. В Петровскую эпоху произошел тот важный тектонический разлом в культуре, ментальности, который столетия не давал покоя русскому обществу. Раньше, до Петра, народная культура была широко распространена в русском обществе, включая и его верхи. Песельники, сказочники входили в дом боярина и простого крестьянина, царя и холопа. Общие праздники и обычаи предков равно почитались на всех "этажах" русского общества. Теперь, с введением западных одежд, праздников и обычаев интеллектуальная и властная часть русского общества все дальше и дальше отходила от народа, становясь чуждой ему, вызывая неприятие и насмешку как своими париками, так и непонятным выговором с немецким или французским акцентом, своими развлечениями и бытом. Общепризнано, что культурный переворот Петра в сочетании с крепостным правом отделил элиту от народа. Они встречались только под сводами церкви, но и там стояли отдельно. Последствия этого культурного раскола были драматичны. Народ, лишенный своих вождей-интеллектуалов, устраивал бунт в камере — тот самый "бессмысленный и беспощадный", а у элиты (той ее части, у которой была совесть и незашоренные сословными предрассудками глаза) появился комплекс неполноценности (мы такие довольные, успешные, сытые, а "народушко-богоносец" страдает), стремление ему помочь, начиная от дурацкой разовой благотворительности ("отдам все старые фраки мужикам") до самоотверженных, но бессмысленных попыток просветить его с помощью "хождения в народ", известно чем закончившегося. И при этом две части нации не понимали друг друга. А потом грянул 1917 год, когда маргинальная масса вырвалась наружу и смела и "регулярное государство", и столетие рефлексировавших дворян и интеллигентов, и церковь, и европеизированную культуру. Плодами этой так называемой революции ловко воспользовалась узкая секта-партия во главе с Лениным…
* * *
Прерываю спорщиков. Читатель, возможно сбитый с толку нескончаемым спором двух достойных джентльменов, желает "разоблачения", проявления в конце концов моей личной позиции. А я… Как-то раз, отвечая на вопрос слушателя моей публичной лекции о причинах смерти царевича Дмитрия в Угличе, я пытался представить разные точки зрения в отечественной науке на это поворотное и до сих пор загадочное событие русской истории. И чем больше я говорил, тем больше чувствовал недоверие и нетерпение во взгляде человека, задавшего этот каверзный вопрос. Этот взгляд, казалось, говорил: "Ну, закрутил, завертел, а мне надо для ясности знать конкретно, КТО его там замочил!" Увы, так устроена жизнь с ее незатейливой конкретикой и иллюзорной простотой. К однозначному, "черному" или "белому" ответу приучают людей и современные массмедиа. Но история часто отвергает однозначный, комфортный для слушателя-читателя ответ (если, конечно, историк честен и пишет, "не стараясь угодить"). История мне напоминает реку, отчасти Стикс, она текуча, амбивалентна, слитна, непостижима. Порой тонкий, умный анализ отдельных ее явлений может быть и верен, но он неизбежно разрывает неуловимое единство разнородных исторических явлений и процессов, придает исследователю ощущение ложной ясности и… удаляет от непостижимой истины. Я многие десятилетия работаю с бумагами Петра, многие из них знаю почти наизусть, но ход мысли гения постичь мне не дано. Это какой-то "черный ящик", и сохранившиеся петровские бумаги не позволяют расшифровать процессы, в нем происходящие. Возможно, что дело в плохой работе, как говаривал Эркюль Пуаро, моих "серых клеточек". Вспоминаю и забавное высказывание Ольги Чайковской, писавшей, что Гоголь, конечно, может написать Чичикова, но Чичиков Гоголя — никогда. Если же говорить честно, то признаюсь, что ни одна из высказанных в книжке точек зрения мне особенно не близка, но ни одну из них я не отвергаю полностью. Это следствие не моей беспринципности, а убеждения в непостижимости истории, некоторого опыта участия в спорах в среде профессионалов и рядовых слушателей моих лекций на эту тему. Спор этот бесконечен и даже болезнен, потому что все равно в конечном счете речь идет не о прошлом, а о нашем настоящем и даже нашем будущем. Спорить о Петре — это спорить об острых проблемах современности, как оказывается, прочно связанной с Петровской эпохой. В этом соединении и даже единстве разных эпох есть какая-то непостижимая для меня мистика, ощущение нескончаемой повторяемости русской истории, как заевшего в проигрывателе диска. Есть ощущение, что эта история не окончена, что прошлое не остыло и жжет, как не остывшая до конца лава, а это, учитывая повторяемость русской истории, опасно… Слушатель-читатель требует конкретного ответа. Не знаю я его.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК