ЧАСТЬ 2
Юная княгиня Владимирская день ото дня хирела и таяла. Люд придворный перешёптывался:
— Испортили, испортили княгиню, не иначе! И какая же это сатана могла сотворить такое дело?!
— Какая?! — воскликнула матушка Анфиса, попадья дворцового протопопа Василья, дивясь недогадливости людской. Тут она оглянулась вправо, влево, как будто тот, кто был у неё на уме, мог подслушать, и когда обе высокие гостьи её — Маргарита, постельничья княгини Дубравки, а другая — Марфа, милостница княгини, поняв, что сейчас последует некое тайное имя, придвинулись к попадье, она вполушепот сказала: — Чегодаш!.. Егор Чегодаш. Он. Боле некому!..
Горстью обобрала роточек, и подняла кверху красивое узкое лицо, и застыла. Только золотые обручи её дутых серёг, оттянувшие мочки и без того длинных ушей, покачивались.
В тишине тяжкосводчатой комнаты слышно стало, как та и другая, задушевные подружки попадьи Анфисы, сглотнули слюнки зависти. Да и как же было не позавидовать — ведь и они обе видели знахаря сего в церкви на венчании князя Андрея, а вот не догадались же!..
«Он, он, Егор Чегодаш, больше некому!»
Постельничья и бельевая боярыня Маргарита опомнилась первая.
Живая норовом, быстроокая, всюду поспевающая — не ногами, так глазом, боярыня Маргарита сейчас не только попадью Анфису, а и саму себя готова была на куски разорвать — от досады.
«Ведь эк прохлопала, эк проморгала! — корила она себя внутренне. — И до чего ж проныра эта востроносая трясея, лихоманка, кутейница! — честила она в мыслях попадью. — Ведь в кою пору и догадалася!.. А и чего тут не догадаться? Этого Чегодаша и с простых свадеб стараются отвести — не приходил чтоб! — а тут нате вам: на великого князя свадьбу в самый собор был допущен!.. Нет, не обошлось тут и без Василья-попа!.. Да он же и её надоумил, свою попадью!.. Чёрные книги читает поп. Сам-то не колдует — страшится, а небось четвергову соль, освяченную, из-под полы продаёт лекарям да волшбитам разным!.. А теперь, гляди, ещё и в добрые ко князю войдут!..»
И боярыня Маргарита, словно бы они уже давно с попадьёй Анфисой обсудили, кто именно навёл порчу на княгиню, вдруг набросилась на боярыню Марфу, раздатчицу милостыни. А та сидела — полусонный, в золото затканный идол — и только изредка кивала головою в жемчужной кике да время от времени брала пухлыми белыми пальцами в перстнях горсть калёных волошских орехов, винную ягоду или ломтик засахаренного фрукта.
— Да как же это не он? — возмущённо кричала на неё боярыня Маргарита. — А кто в церкви на неё, на княгиню-то, глазищи свои пялил? Да нет, ты уж и не говори, Марфа Кирилловна, все, все призороки от него, от Чегодаша!.. Да ведь и до чего силён! Узнать может у тебя все мысли и все дела твои выскажет — и твои, и отцовы, и дедовы!.. Он у меня Славика моего обрызгивал — от родимца!.. А только лечит он редко, уж разве за большой подарок... А больше всё урочит да портит!.. Его уж и убивали посадские... Да разве таких людей убьёшь!
— А кто он такой, что и убить не могут? — спросила боярыня Марфа сонным, густым голосом.
Боярыня Маргарита только усилила презрительный поджим губ и промолчала, и дождалась-таки, что надменная милостница — словно самой судьбой назначенная раздавать княжую милостыню — Марфа обратила к ней набелённое лицо раскормленной красавицы и переспросила:
— Что уж, говорю, железный он, что ли, Чегодаш твой, что и убить не могут?
Боярыня Маргарита испуганно перекрестилась и сплюнула в сторону.
— Что ты, что ты, матушка моя! — сердито проговорила она. — «Твой»... Нет уж, пускай он лучше твой будет!..
— Я не к тому, — лениво возразила ей Марфа.
Боярыня Маргарита, успокоясь, пояснила, переходя на полушёпот:
— Не железный, а невидимый...
— Вот те на, уж и невидимый!..
— Невидимый, невидимый, коли захочет! — повторила Маргарита. — Да он, может, и ныне тут, возле нас, стоит, — произнесла она, содрогнувшись, и, словно бы ей холодно вдруг сделалось, укутала плечи персидским полушалком.
Боярыне Марфе, должно быть, зазорно стало признать, что Маргарита с попадьёю правы.
— А он кто, этот Чегодаш? — ещё раз спросила она. — Чем он хлеб свой добывает?
— Коневой лекарь, кровепуск!..
— Ну, вот и выходит нескладица. Стал ли бы он коновалить, когда у него этакая сила была — людей портить, людей лечить?!
Маргарита на сей раз не нашлась что ответить.
И тогда, торжествуя над нею да и над попадьёю Анфисою победу, боярыня Марфа важным распевом произнесла:
— Не-ет, девоньки, нет!.. Не Чегодаш, а сушит княгинюшку огненный змий.
Не прошла и неделя с той беседы трёх подружек, как месячной апрельской ночью, звонко ступая по хрупкому ледку, застеклившему лужи, шла, спускаясь под гору, где обитали ремесленники да купцы, попадья Анфиса в сопровождении мальчика-слуги.
Вот уже и кузницы прошла, раскиданные за околицею посада, словно чёрные шапки, а всё шла и шла. В лунном свете чернела кругом земля. В засохшем, ещё от осени уцелевшем былье просвистывал ветер. Месяц, большой и чистый, плыл над бором, над Клязьмой, чеканил каждую травинку, каждый кусток, каждый комочек земли, даже и от него клал длинные тени — и отблёскивал в стёклышках бесчисленных льдинок луговины.
Тоску, тоску какую сочит в сердце человеку этот весенний свет месяца! Старому человеку, когда уж могила близка, лучше не выходить в поле в такой месяц...
А отчего молодым тоскливо?..
Смолкли и Анфиса и парубок — оба, как только вышли за околицу, под свет месяца, — и пошли промежду редко разбросанных кузниц.
А вот и чёрное гнездовье Чегодаша!
На бугре, невдалеке от кузниц, — ибо конскому лекарю где и селиться, как не возле кузницы? — и почти над самой рекой: ведь рыбак да колдуй мри реке обитают, — стояла, будто чёрный маленький острожек, со всех сторон глухим частоколом обнесённая усадьба Егора Чегодаша.
А и впрямь колдун знал, видно, слово, уж если сам Батый в тридцать восьмом году, иол-Владимира сожегши, эту усадебку обошёл.
— Я им глаза отвёл, татарам, — бахвалился перед кузнецами Чегодаш. — Ведь коневой мордой ко мне в стену тыкались, а двора моего не видали!.. Вы не глядите, что слово — звук: оно звук-то звук, а и на том свете достанет!..
Попадье и сопровождавшему её тихому парубку сделалось страшно, когда они подошли и остановились у больших, с нахлобученным шатровым верхом ворот Чегодаша, собираясь постучаться.
На голубизне обветшавших тесовых полотнищ, озарённых светом полного месяца, чётко чернело железное толстое кольцо.
Попадья Анфиса подняла руку надо лбом, дабы перекреститься, как вдруг:
— Что ты тут закрестилась? — откуда-то сверху, из воздуха, послышался угрюмый окрик. — Что ты, в церкву пришла?
Попадья охнула и стала оседать, в своей шубейке колоколом, и уж у самой земли подхватил её под мышки провожатый и поставил на ноги. У парня и у самого зубы чакали от страха...
А меж тем тот же голос, неведомо откуда, провещал:
— Иохим! Гелловуй! Али не слышите? Стучат! Откройте!
А никто ещё не стукнул. Калитка сама собою отпахнулась вовнутрь двора. Подталкиваемый попадьёю, отрок ступил во двор. Нигде ни души.
— Матушка, не бойся, — сказал он Анфисе. — Иди.
Точно так же, сама собою, раскрылась пред ними и дверь в сени, и дверь в избу. Ступив через порог, попадья глянула в передний угол: на божнице было некое подобие образов, и она опять отважилась было сотворить крестное знаменье, но в этот миг из-под стола, за которым над книгою сидел Чегодаш, раздалось рычанье. Огромная чёрная собака с глазами, глядящими сквозь шерсть, словно бы сквозь кустарник, с рыканьем шла на неё.
— Цимберко! — крикнул на собаку Чегодаш.
Пёс повернул обратно и снова улёгся под столом, возле ног хозяина.
Чегодаш меж тем всё ещё не отрывал глаз от книги. Он как бы продолжал вслух чтение, от которого его отвлекли:
— «Аще у кого будут волосы желты, тому журавлиные яйца мешати с вином, и будут черны...» У тебя каки волосы, попадья? — спросил он. — Жёлтые?.. Нет, у тебя седые. Тогда слушай: «Аще у кого волосы седы, то поймай ворона, да положи его живого в гной конский, да лежит пятнадцать дён, да изожги его, живого, на огне, да тем пеплом мажь волосы седые — будут опять черны...» Вот, — сказал он, закрыв бережно доски переплёта. — Есть у твоего попа такая книга? Нету!.. Ну? — спросил он испытующе и глумливо. — Хворает ваша княгиня? Хворает! — ответил он сам. — Хворает и не перестанет хворать, доколе я не сыму с неё!..
«Он, он!..» — прозвучало в сердце Анфисы.
Чегодаш поднялся из-за стола, положил книгу на полку в переднем углу, оправил свой чёрный азям, пошевеливая угловатыми плечами, и вышел к попадье.
Она упала ему в ноги. И в то самое время, как прикасалась лбом к грязному полу, ей подумалось: «Ох, будет мне от бати моего!.. Что же это я делаю?»
Она поднялась. Егор Чегодаш, подбоченясь левой рукой, презрительно и лукаво смотрел на неё.
Попадья жалобно проголосила:
— Ой, да смилуйся ты над нами, Егорушко!.. Исцели ты нам её, нашу звёздочку ерусалимскую!
— А чего дашь? — угрюмо спросил волшбит.
Выгнав на улицу отрока и приготовляя всё, что надо для ворожбы, Егор Чегодаш изредка бросал попадье отрывистое, резкое слово, требовавшее безотлагательного ответа.
— Худо живут промеж собой? — спросил он, поправляя фитилёк, плававший в чашке с деревянным маслом, что стояла на угловой полке.
Попадья Анфиса замедлилась было ответить: ей казалось как-то неладно говорить здесь, перед мужиком, о супружеской жизни великого князя и молодой княгини его.
Чегодаш гневно обернулся.
— Молчишь, стервь? — обругал он супругу дворцового протопопа. — Ну и молчи! Да и убирайся отсюда!.. Ты думаешь, я для знатья спрашиваю?.. Я и без того всё знаю. А тово дело требует. Без того не будет пользы!.. Я и сам вперёд всё тебе расскажу. Вчера ездил князь Андрей к Палашке своей в Боголюбово? — спросил он.
— Ездил, — вынуждена была согласиться Анфиса.
— Так. А велела ему княгиня Дубравка боярынь всех его... ну, одним словом, наложниц, убрать из дворца?
— Велела, — уж поистине вострепетавшая перед прозорливостью чародея, ответствовала попадья.
— Ну вот видишь, — удовлетворённо произнёс Чегодаш. — А ты ещё таишься!
— Не буду, отец, не буду!..
Но, как бы желая довершить своё торжество, знахарь сказал:
— Пригрозила ему княгиня, что уйдёт от него к отцу, в Галич уедет?
— Ой, да правильно всё... всё правильно!.. — взмолилась Анфиса.
И с этого мига она уж ничего больше не скрывала от Чегодаша. А знала она отнюдь немало, супруга придворного протоиерея и первая вестовщица во всём Владимире.
Меж тем угрюмый волшбит приготовил на столе деревянную мису с водой и стал растоплять над ней тонкий прут олова с помощью огарка восковой свечки. Над чашею поднялся пар.
Знахарь вынул из воды причудливо очерченную, бугроватую пластинку олова. Держа её меж расставленных пальцев, он приказал попадье приблизить свечу. На степе избы появилась тень.
— Видишь? — спросил Чегодаш.
— Вижу, Егорушко, вижу...
— Тень указует, тень указует! — грозно вскричал волшбит. — Теперь представь мне на очи самое молодую княгиню.
— Батюшко! — воскликнула попадья. — Уж чего хочешь другого проси, а только не это!.. Чтобы я это — с речью к ней, когда не спрошена, — да уж лучше живую меня в землю заройте!
Нечто вроде любопытства блеснуло в чёрных глазах мужика.
— Ну, коли так, — снизошёл Чегодаш, — то предоставьте мне откуда-либо в затылок ей глянуть... из закрытия. У человека кость тонкая. А я ведь и сквозь жёрнов вижу!..
— Чем ты её поил, мерзавец, княгиню великую? — кричал Невский на Чегодаша.
Колдун сперва отпирался:
— Я? Да, Олександр...
Однако при первой же его попытке назвать князя по имени и отчеству Александр таким взглядом обдал колдуна, что тот осёкся и стал наименовывать его князем.
— Князь-батюшко, прости! — вскричал он, мотая головой. — Ничем, ничем не поил. Да разве меня допустят, мужика худого, пред светлые княжецкие очи?
Невский молчал и, не по-доброму наклони голову, начал подыматься из-за стола. Они были только вдвоём в комнате, в той самой, в которой останавливался Невский и в первый свой приезд из Новгорода, на свадьбу брата.
Александр только что прибыл во Владимир кратчайшим путём, через Москву, в сопровождении Андрея-дворского и всего лишь десятка отборных дружинников, сильно встревоженный недобрыми известиями о неладах между молодыми, и о намерении Дубравки оставить Андрея, и, наконец, о болезни молодой княгини.
Приехав и вызвав немедленно для доклада верных людей, оставленных им в городе и во дворце брата, Александр Ярославич узнал и о волхованьях вокруг Дубравки, и что замешаны тут попадья Анфиса и кое-кто из более высокостоящих. Однако не волшба и заклинанья этого чёрного проходимца беспокоили князя, — его ужаснуло известие, что Дубравку, неведомо для неё, поили каким-то зельем. У Александра тотчас же возникло подозрение, что это сделано не только по злому умыслу врагов — ибо чего только не бывало в княжеских семьях! — но и по тайному приказу Берке. Что Батый не пойдёт на это, а стало быть, и Сартак, который давно уже был аньда ему, Александру, то есть побратим, — в этом Александр был уверен. От Батыя можно было ожидать, что сгоряча он прикажет опустошить Владимирщину, прикажет вырезать «всех, кто дорос до чеки тележной», но Александр поручился бы чем угодно, что старый хан не пойдёт на отравленье никого из членов его, Александра, семьи, и тем более на отравленье Дубравки, этой невинной отроковицы. Но Берке, этот шакал, прикидывающийся львом, этот сквернавец, заждавшийся смерти своего старшего брата, — этот пойдёт на всё!
— Сказывай, мерзавец, чем ты поил княгиню?
Лицо колдуна дрогнуло.
«Эх, — подумал он, рухнув перед князем на колени, — спустил бы я тебе ножик в брюхо! Жалко, засапожник в хомуте остался: врасплох меня захватили!»
— Прости, князь, прости! Поил... не из своих только рук... а и одним добрым поил...
— Чем?
— А ничем, ну, просто, ничем... так — корешишко давал от гнетишныя скорби...
— Где оно у тебя, это зелье?
— А всё изошло, истратил.
— Прикажу людей послать — обыск сделать!
— Ох, запамятовал, княже, я, окаянный: вот, завалялся один корешишко за пазухой.
Колдун достал из-за пазухи красный узелок с корнем.
Невский швырнул узелок на стол и продолжал допрос Чего дата:
— От какой же ты болезни поил княгиню?
— От гнетишныя скорби... ну, от тоски, словом.
— Откуда тебе про то было ведомо?
— А от госпожи попадьи.
— А что же она тебе говорила?
— А, дескать, тоскует шибко княгиня... Утром, говорит, подушка от слёз не успевает просохнуть...
Невский нахмурился.
— А что ты ещё вытворял?
— А доброе слово шептал над тем над питьём: во здравие, во исцеление...
— Скажи.
Колдун развёл руками.
— А ведь воды пот, над чем шептать...
Невский поискал взглядом. Друза самородного хрусталя, которым он прижимал при чтении концы пергаментных свитков, попалась ему на глаза. Он взял хрусталь и всунул в руку Чегодаша.
— Вот пускай вода тебе будет. А если дознаюсь, что хоть одно слово утаил, землю будешь глодать вместе с червями земными!..
— Что ты, князь, что ты? Да пускай век свой трястись мне, как осинову листу!..
— Ну! — поторопил его Александр.
Егор Чегодаш, враз приосанясь, подобно коннику, которого спе?шили, заставили пройти вёрсты, а потом сызнова пустили на коня, принялся шептать заговор над друзою хрусталя, словно бы и впрямь над чашкой с водою.
«А ночью ведь его страшновато слушать!» — подумалось Александру.
Колдун забылся. Он как бы выступил душою за эти каменные степы княжой палаты, он как бы не существовал здесь. Глаза горели, сивая борода грозно сотрясалась, голос то становился похож на некое угрожающее кому-то пенье, то переходил в свистящий шёпот.
Александр хмуро слушал его.
— ...От чёрного волоса, от тёмного волоса, от белого волоса, от русого волоса, от всякого нечистого взгляду!.. — гудел в низких сводах комнаты голос колдуна.
Обезопасив доверившегося ему человека от порчи, от сглаза, колдун перешёл к расправе над наносной тоской, застращивая её и изгоняя. Он двигался, шаг за шагом, прямо на степу, наступая и крича на Тоску. И Александру казалось, что и впрямь некое проклятое богом существо — Тоска — кинется сейчас от этого высокого мужика в чёрном азяме и, окровавленная, станет биться о камни стен, о решётку оконницы, ища выхода и спасенья от истязующего её и настигающего слова!..
— ...Кидма кидалась Тоска от востока до запада, от реки до моря, от дороги до перепутья, от села до погоста, — нигде Тоску не укрыли! Кинулась Тоска на остров на Буян, на море на окиян, под дуб мокрецкой... Заговариваю я, раб... — Тут колдун на мгновенье запнулся, как бы выпиная какое-то слово, ему неприятное, но вскоре же и продолжал: — ...раб Егорий свою ненаглядную детушку Аглаю... Даниловну от наносной тоски по сей день, по сей миг!.. Слово моё никто не превозможёт ни воздухом, ни аером!..[38] Кто камень Алатырь изгложет, тот мой заговор переможёт!..
Колдун окончил. Он стоял, тяжело переводя дух. На лбу у него блестели капли пота.
Мало-помалу выражение власти и требовательного упорства сошло с лица Чегодаша, он снова стоял перед князем, покорно ждя уготованной ому участи.
— А более ты ничего не говорил? — насмешливо спросил Невский, глядя на колдуна.
И в первый раз за всю свою жизнь, с тех пор как покойный родитель перед смертью научил его волхвованью и обрызгиванию и передал ему, под страшною клятвою, слово, Чегодаш побожился.
— Ладно. Придётся на сей раз поверить. В чужое сердце окна нет, — сказал сурово Александр.
Чегодаш кинулся перед ним на колени. Стукнувшись лбом об пол, он воздел обе руки пред Александром:
— Княже, прости!.. Закаиваюсь волхвовать!
Суровая усмешка тронула уста Невского.
— Ладно, — сказал он, — отпускаю.
Вне себя от счастья, Чегодаш на карачках, пятясь задом и время от времени стукаясь лбом об пол, выполз из комнаты.
...В тот же вечер он пировал, на радостях, вдвоём со старинным дружком своим, Акиндином Чернобаем, мостовщиком. Бутыль доброго вина стояла перед закадычными дружками. Рядом — тарелка с ломтями чёрного хлеба, блюдо с балыком и другое — с солёными груздями.
Прислуживала хозяйка Чегодаша, унылая, замордованная мужем, недоброго взгляда женщина.
Чегодаш хвастался. Акиндин Чернобай, время от времени похохатывая и подливая самогонное винцо, внимал приятелю.
— Ну што они со мной могут, хотя и князья? — восклицал Чегодаш. — Я его, Олександра, вокруг перста обвёл!.. Нет, молод ты ещё против Егория Чегодаша, хотя ты и Невской!.. Слышь ты, — говорил он, тыча перстом в толстое чрево Акиндина, — ну, схватили они меня, заковали в железо, привели к ему... Глядит он на меня... А я и пошевельнуться не могу: руки скованы, ноги скованы... ведь колодку набили на ноги, окаянные... Ну, наверно, думает про себя князь-от: «Теперь он — мой!» А я от него... как вода промеж пальцев протёк!..
— Да как же это ты, кум? А? — спросил Чернобай. — От этакого зверя уйти?..
— Ха!.. — бахвалясь, произнёс Чегодаш. — Да ему ли со мной тягаться, Олександру! Есть у меня... — начал было он, приглушая голос, но тотчас же и спохватился и даже отодвинулся от Чернобая. — Ох нет, помолчу лучше: неравно пронесёшь в чужие уши!..
Купец обиделся.
— Ну что ты, кум, что ты! — восклицал он. — Во мне — как во гробе!..
И несколько раз начинал и всякий раз сдерживал Чегодаш готовое сорваться с языка тайное своё признанье. Наконец он решился:
— Лукерья, выйди отсюда! — приказал он своей бабе. Та, не прекословя, хотя и злобно сверкнув глазами на собутыльников, вышла в сенки.
Тогда, придвинувшись к самому уху Акиндина, колдун прошептал:
— Есть у меня из змеиного сала свеча!..
Александр круто повёл следствие. Он подозревал, что «корешишко от гнетишныя скорби», отваром коего поили Дубравку, отнюдь не столь был безвреден, как пытался это представить Чегодаш.
Попадья Анфиса была допрошена и во всём созналась.
Была очная ставка и с боярыней Марфой, и с боярыней Маргаритой. Итогом этой очной ставки для той и другой было то, что они обе изъяты были из двора княгини. Дальше судьба их была различна. Шустрая Маргарита выпросила себе пощаду: Андрей Ярославич внял большим заслугам её покойного мужа, ещё отцовского стольника, который погиб с князем Юрьем на реке Сити. Боярыне Маргарите пришлось только выехать из Владимира в своё дальнее сельцо. Боярыне же Марфе была объявлена ссылка в Белозерск.
Легче всех отделалась попадья Анфиса. Сперва Александр и Андрей решили было её отпустить: «зане скудоумна и суетна». Однако донесли на неё вовсе уже неладное: когда Дубравка стала недомогать, попадья Анфиса, которая сразу возненавидела юную княгиню, якобы за гордыню её и недоступность, стала будто бы пророчить ей скорую смерть. «Южное солнышко закатчивее северного!» — будто бы напевала попадья то одному, то другому из придворных.
— А и впрямь глупа! — покачав головою, сказал Александр.
— На псарню суку! — закричал Андрей Ярославич, весь багровея. — Батожьём её до полусмерти!.. Ну! — притопнув ногою на двоих дверников, стоявших позади попадьи, крикнул он.
Они подхватили воющую и оседавшую на ноги Анфису и поволокли.
Александр Ярославич поморщился.
— Напрасно... напрасно, брат! — сказал он, когда они остались вдвоём в комнате. — Огласка большая... да и не нашего суда её провинность. На то митрополия суд: зане церковный она человек — попадья.
Андрей вспылил.
— Поп Василий не приходской священник, а мне служит! — возразил он. — А впрочем, ведайся ты с ними, как знаешь... В твои руки передаю всё это дело...
Вечером к Александру прибыл митрополит Кирилл.
Уже из того, что владыка, обычно посещавший его запросто — в скуфейке и в простой монашеской ряске, хотя и с панагиею на груди, — на этот раз был одет в полное владычное одеяние, Александр понял, что предстоит беседа о злополучной попадье.
Однако митрополит начал не о том. После обычных расспросов о тяжком, только что свершённом пути, о здравии князя, Кирилл стал жаловаться на нечестие и многобуйные утехи владимирских граждан.
— Разве то христианские праздники правят? — горестно восклицал он. — В божественные праздники позоры бесовские творят, с свистаньем, с кличем и с воплем. И скоморохам плещут в долони свои. И за медведем водимым текут по улицам, и за цыганками-ворожеями влекутся!.. А церкви пустуют!.. Мало этого. Близ самых стен церковных сберутся скаредные пьяницы и станут биться меж собою дрекольем. И даже до смерти... И слову пастырскому не внемлют, и салу духовного не чтут!.. Не повелел ли бы ты, князь, — тебя послушают! — прекратить побоища эти... и пьянство?
— Оставь их, владыка святый, — отвечал Александр, — христиане они! А в том, что дрекольем бьются, не вижу большой беды. Иначе вовсе отвыкнут воевать. Но... вот на что прошу тебя обратить высокое внимание твоё: ходят по сёлам некие странники и смущают народ: якобы грешно в пятницу работать. И заклятье с людей берут, чтоб не работать. Ущерб великий. Осенесь у меня добрая треть женщин всех по пятницам не выходила лён дёргать... Управители мои жалуются...
— О суеверие!.. — сказал владыка. — Хорошо, князь, будет предложено мною, чтобы в пастырских своих увещаньях не забывали того иереи... Но во многом другом унижено ещё от власти мирской духовенство. Оттого и в глазах людских падает...
— По мере сил своих или брат мой стараемся блюсти и честь и власть духовную тех, кто алтарю предстоит, — отвечал Александр. — Да, кстати! — как бы внезапно вспомнив, воскликнул он. — Тут ждёт твоего решения дело одно...
И Александр Ярославич вкратце рассказал митрополиту всё касательно попадьи.
— Так вот, владыка, — заключил он, — бери уж ты на свой суд сию Пифониссу Фессалийскую!..
Кирилл наклонил голову.
— «Волхвам живым быти не попустите... и ворожеи не оставляй в живых... Математики, волхвы и прогностики да не будут между вамп!..» — произнёс он, цитируя тексты. — Что ж, — сказал он затем сурово, — я прикажу усекнуть ей главу!
Этого Александр никак не ожидал.
— Полно, владыко!.. — сказал он. — Боюсь, как бы такая мера не превысила преступление!.. Баба она глупая. А вообще же ты сам знаешь: простые люди падки на волхвованье!..
Кирилл рассмеялся. Лучики морщинок сделали его лицо весёлым и добрым.
— О, сколь истинно молвил, государь! — сказал он. — Всё тайноведие да звездочётие!.. А всё это книги худые: все эти «Рафли», да «Врата Аристотелевы», да «Хождения по мукам», да «Звездочётец», да «Астролог»!.. Отрыжка еретика Богу мила и нечестия эллинского... Тянет православных приподнять завесу судеб господних...
Улыбнулся и Александр.
— Это так!.. — сказал он, слегка поглаживая светлую бородку. — Мне Абрагам жаловался: едва он успел приехать сюда, во Владимир, как бояра здешние прямо-таки одолели его: «Составь мне гороскоп!»
...Итогом этой беседы Невского с владыкой было то, что попадью Анфису лишь подвергли церковному покаянию.
Уж третью неделю и Андрей Ярославич и Дубравка отдыхали у Александра, в Переславле-Залесском, в его вотчинном именье — Берендееве.
Дубравка поправилась, пополнела и выросла.
И уж не бледный золотистый колосок напоминала она теперь. Она была теперь как берёзка, — юная, свежая, крепкая, не совсем очнувшаяся, но уже готовая ринуться в бушующий вкруг неё зелёный кипень весны, — берёзка, едва приблизясь к которой начинаешь вдыхать запах первых клейких листочков-брызг — листочков ещё чуть-чуть в сборочках, оттого, что им тесно, что стиснуты, оттого, что ещё не успели расправиться.
Пьянеет от этого запаха и крепкий, суровый муж, словно бы нестойкий отрок, впервые вкусивший сока виноградной лозы, пьянеет не ведавший в битвах ни пощады, ни страха витязь! — и вот уже обнесло ему голову, захмелел, и вот уже едва держится на ногах!..
Но ещё велит себе: стой!..
Александр Ярославич, да и Андрей Ярославич тоже мальчишками почувствовали себя здесь, на родине, на сочно-зелёных берегах Ярилина озера. Они резвились и озорничали. Играли в бабки, в городки, в свайку. Метали ножи в дерево, состязались; стреляли из лука в мишень. А когда подымался ветер, катались под парусом по огромному округлому озеру — чаще все трое вместе, а иногда Александр в разных лодках с Андреем — наперегонки. Дубравка тогда, сидя на берегу, на любимом холмике под берёзкой, следила за их состязаньями.
— Хорошо, только тесно, — сказал как-то после такого плаванья Александр. — Это тебе не Ильмень, не море!.. А ведь как будто есть где наплаваться — озерцо слава тебе господи! В бурю с серёдки и краёв не видать! А всё будто в ложке... Моря, моря нам не дают, проклятые! От обоих морей отбили!
Однажды на прогулке в лесу Александр испугал Дубравку своим внезапным исчезновением прямо со средины просеки, по которой они шли, — словно бы взят был на небо! На мгновенье только отвела она глаза, и вдруг его не стало перед ней. Меж тем не слышно было даже и шороха шагов, если бы он перебежал в чащу, да и не было времени перебежать.
— Где он? — спрашивала Дубравка у Андрея, поворачиваясь во все стороны и оглядываясь.
— Не знаю, — лукаво отвечал Андрей.
— Ну, правда, где он? — протяжно, сквозь смех и досаду, словно ребёнок, восклицала Дубравка.
И вдруг над самой её головой послышалось зловещее гуканье филина. Это среди бела дня-то! Вслед за тем в густой кроне кряковистого дуба, чей огромный сук перекидывался над самой просекой, послышался смех Александра, а через мгновение и сам он, слегка только разрумянившийся и несколько учащённо дыша, стоял перед Дубравкой. Прыжок его на землю был упруг и почти бесшумен, и это, при исполинском росте его и могучем сложении, было даже страшно. Холодок обдал плечи Дубравки. «Словно барс прыгнул!..» — подумалось ей, и как раз в это время Андрей Ярославич, благоговевший перед братом и старавшийся, чтобы и Дубравка полюбила его, торжественно и напевно, как читают стихи, произнёс, поведя рукою в сторону Александра:
— Легко ходяй, словно пардус, войны многи творяй!..
Дубравка хотела узнать, когда это он успел и как вскарабкаться на дуб.
— Александр, ну скажи! — допытывалась она.
— Да не карабкался я совсем! — возразил он. — Что я — маленький, чтоб карабкаться! Ну вот, смотри же, княгиня великая Владимирская...
Сказав это, он ухватился за ветвь дуба обеими руками и без всякого видимого усилия взметнулся на закачавшуюся под его тяжестью ветвь.
— Хочешь — взлезай! — сказал он и, смеясь, протянул к ней руку.
Когда они затем шли опять по просеке, Дубравка, искоса поглядев на его плечо, сказала:
— Боже... Какой же ты всё-таки сильный, Александр!
— Не в кого нам хилыми быть! — ответил он, тряхнув кудрями. — Дед наш Всеволодич Владимир диких лошадей руками имал...
Здесь всё напоминало Александру незабвенные времена отрочества. Вот здесь, на этой уже оползающей белой башне, ещё дедом Мономахом строенной, поймали они вдвоём с Андрейкой сову. Уклюнула так, что и сейчас, через двадцать три года, виден, если отодвинуть рукав, белый рубец чуть повыше кисти. Там, наложенная на тетиву перстами дядьки-пестуна Якима, свистнула, пущенная из игрушечного лука рукой шестилетнего княжича, первая стрела. Она и теперь, поди, хранится здесь, в алтаре Спаса... Да нет, где ж там, — забыл, что и здесь безобразничали татары...
...Там вот, на бугорке, размахивая деревянным посеребрённым мечом, расквасил он нос старшему братану Феде, и потом долго прятался в камышах, боялся прийти домой, я всё уплывал в мечтах на ту сторону озера, где уже мнился край света... А вот и та расщепина в берёзе от первой его стрелы, уже заплывшая, уже исцелённая всесильным временем. И вспомнились Александру слова китайского мудреца: «Помни, князь: если ты и разобьёшь этот хрупкий стеклянный сосуд, который текущим песком измеряет время, то остановится лишь песок».
Первый лук. Первый парус. Первый конь... Только вот любви первой не было... А старшему сыну, Василию, уже одиннадцать лет... на престол сажать скоро!..
Детство, детство!.. Сколько побоищ здесь учинили, сколько крепостей понастроили из дёрна!.. Ну и поколачивал же он сверстников!.. Матери — те, что из простого люда, — те не смели жаловаться княгине. Боярыни — те печаловались, приходили в княжой терем: «Княгинюшка-свет, Федосья Мстиславовна, уйми ты Сашеньку-светика: увечит-калечит парнишек, сладу с ним никакого нет!..»
Сумрачный отец, вечно занятый державными делами, да и усадьбой своей, иногда, для острастки, тоже вмешивался: чуть кося византийским оком, навивая на палец копчик длинной бороды, скажет, бывало, и не поймёшь, с каким умыслом:
— Что ж ты, сынок? Словно Васенька Буслаевич: кого схватил за руку — тому руку прочь, кого схватил за ногу — тому ногу выдернул!.. Ведь этак с тобой, когда вырастешь, и на войну будет некому пойти: всех перекалечишь!
Вспомнилось Александру, как тёмной осенней ночью злой памяти двадцать восьмого года вот здесь, по тропинке озёрного косогора, едут они вчетвером — беглецы из бушующего Новгорода, обливаемые тяжким, вислым дождём, — он, брат его Фёдор, да боярин Фёдор Данилович, старый кормилец-воевода, да ещё неизменный Яким.
Сумрачный, неласковый отец заметно был рад в тот вечер, что из этакой замятии и крамолы, поднятой врагами его в Новгороде, оба сына его, малолетки, вывезены целы и невредимы; некое подобие родительской ласки оказывал он в ту ночь любимцу своему Александру и соизволял даже и пошутить в присутствии дядьки Якима. Положа свою жёсткую руку на голову сына, Ярослав Всеволодич говорил:
— Ну что, Ярославиць? (Дело в том, что маленький Саша научился от новгородцев мягчить концы слов и «цякать»). Не поладил со своим вецем? Путь показали от себя? Это у них в ходу, у негодяев, — князей прогонять!..
Княжич Александр гордо поднял голову:
— Я от них сам уехал!
Отец остался несказанно доволен этаким ответом восьмилетнего мальчугана.
— Ох, ты, Ярославиць! — ласково говорит он. — Ну ничего, ничего, поживи у отца. А уж совсем ихний стал, новгородский... и цякаешь по-ихнему. Может быть, оно и лучше, что сызмалетства узнаешь этот народ. Тебя же ведь посажу у них, как подрастёшь. Только, Сашка, смотри, чтобы не плясать под их дудку да погудку!.. С новгородцем надо так, как вот медведя учат: на цепи его придерживай одною рукой, а и вилами отсаживай чуть что!..
«...Вот уж и отца нет! Этакого мужа сгубили татары проклятые! Рано скончался родитель! Куда было бы легче с ним вдвоём обдумывать Землю... да и постоять за неё. Бывало, оберучь управляешься там, у себя, — и с немцем, и со шведом, и с финном, да и с литвою, и не оглянешься на Восток ни разу: знаешь, что родитель там государит, во Владимире, и с татарами будет у старика всё как надо, и народ пообережет, да и полки Низовские[39] пришлёт в час тяжёлый!.. А что Андрей?! Ну, храбр, ну, расторопен, и верен, и всё прочее, а непутёвый какой-то! И когда образумится? Женится, говорят, — переменится. А не видать что-то!.. Полтора года каких-нибудь пожил с женой — и с какою! — девчонка, а уж государыней смотрит! А успел уже и её оскорбить!.. Уходить собирается. Данило Романович горд. И она единственная у него дочь; пожалуй, не станет долго терпеть, коли вести эти дойдут до него: как раз и отберёт Дубравку! Ведь и матерь мою, княгиню Феодосию, отбирал же батя её, Мстислав Мстиславич, у отца у нашего, как повздорили. Два года не отдавал. Насилу вымолил отец супругу свою у сердитого тестя. Вот так же может и с тобою, Андрей свет Ярославич, случиться!.. — как бы обращаясь к отсутствующему Андрею, подумал Невский. — Придётся, видно, ещё раз, и как следует, побеседовать с ним. А то эти его милашки-палашки дорого могут нам обойтись... Не на то было строено! Не им было обмозговано — не ему и рушить!..»
Невский и не заметил в раздумьях, как вдоль старого вала, по берегу Трубежа, он вышел к собору Спаса. Это был их родовой, семейный храм. Суровый, приземистый, белокаменный куб, как бы даже немного разлатый книзу, казалось, попирал землю: «Здесь стою!..» Объёмистый золотой шлем одноглавья блистал над богатырскою колонною шеи.
«Крепко строили деды!.. Вот она расстилается кругом — залесская вотчина деда Юрья!.. Не сюда ль впервые, по синим просекам рек, приплыли из Киева и крест, и скипетр, и посох епископа?
Христос, пришедший из Византии, шутить не любил. Он был страшен. Однако долго ещё в мещёрских и вятичских дебрях, хотя и ниспровергнутый в городах, ощерясь, отгрызался — и от князя и от духовных — златоусый деревянный Перун! Народ постоял-таки за старика своего — и здесь, и в Новгороде, что греха таить!.. Растерзан же был вот здесь, неподалёку язычниками святый Леонтий[40]!.. Не здесь ли, на этой вот горе, не столь давно водили хороводы в честь бога Ярилы? И ждали и веровали: вот сейчас-де появится он из леса — юный, золотокудрый, на белом коне, в белой одежде, босой, в правой руке — человечья голова, в левой — горсть ржаных колосьев...»
Невский в раздумье остановился у портала. «Да, — думалось ему, — время, время! Какой мудрец постигнет тебя и расскажет людям?..» Давно ли, кажется, а уж почти тридцать лет протекло с тех пор, как в этом родовом храме большие холодные ножницы блеснули в руке епископа и срезали у трёхлетнего княжича Александра прядку светлых волос!.. И вот — постриг свершён! И здесь же, около грубо вытесанного входа в храм, тридцать годов назад всажен был он на коня, да с тех пор почти и не слезал!..
Лоснились на солнце сосны. Шумела хвоя. Синее гладкое озеро, круглое, в сочно-зелёных берегах, было подобно бирюзовому глазку золотого перстня.
Защитив от солнца глаза ладонью, Александр вглядывался. Вдруг сердце его колыхнулось могучими, жаркими ударами. Так никогда ещё не было! И не думал даже, что так может быть. Под берёзкой, на самом обрыве озера, он увидел белое платьице Дубравки...
— Что это ты читаешь, княгиня? Что за книга? — заставив вздрогнуть Дубравку, спросил Александр.
Она обернулась и подняла лицо. Большая книга в кожаном переплёте, разогнутая у неё на приподнятых коленках, прикрытых вишнёвого цвета плащом, стала съезжать на травку.
Дубравка подхватила её левой рукой.
— Как же ты напугал меня, Александр! — сказала она, вся просияв. — Нечего сказать, хорошего же сторожа ты мне дал. Я и не слыхала, как ты подошёл. А он не тявкнул.
При этих словах она повела головою в сторону огромной стремоухой собаки, всеми статями почти неотличимо похожей на волка, только гораздо крупнее. Это был охранный пёс Александра, которого он здесь приручил к Дубравке — сопровождать её на озеро, где она любила часами сидеть одна. Этого пса года два назад щенком привезли ему в Новгород в числе прочих даров старейшины племени самоядь, из Страны Мрака, за тысячу вёрст прибывшие на оленях к посаднику новгородскому жаловаться на утесненья.
Александр по совету их приказал опытному псарю своей охоты тщательно воспитать, а затем присварить пса к его личной особе. В том явилась нужда — особенно после одного из покушений на его жизнь: однажды здесь же, в Переславле-Залесском, во время обычной его одинокой прогулки в лесу, стрела, пущенная с большой ветлы, вырвала у него прядь волос над виском. Отклонившись за дерево, Александр успел тогда разглядеть лишь какую-то образину, которая, мелькнув средь листвы и, словно рысь, перемётываясь с одного дерева на другое, исчезла во тьме леса.
С тех пор Волк — так назвал князь собаку — обычно сопровождал его на прогулках.
Александр возразил Дубравке:
— Это ничего не означает! Ты знаешь, что на меня он и языком не пошевельнёт!.. А вот другой если кто...
В это время, как бы желая подтвердить слова хозяина, огромный пёс насторожился и уж готов был кинуться в лес на хруст валежника, но из лесу показался телёнок, и тотчас же Волк успокоился и, положив снова на лапы угловатую могучую башку с шатёрчиками острых ушей, непрерывно старавшихся уловить малейший шорох, предался снисходительному созерцанию телка..
Александр и Дубравка сидели теперь бок о бок. Она попыталась подостлать для него на траву угол своего красного плаща, но он отвёл её руку.
— Полно! — сказал он. — К тому ли ещё привык в походах!
И сел на траву.
— Так что же ты читаешь? — снова спросил он, заглядывая в книгу, лежащую у неё на коленях, написанную латинскими крупными литерами с разрисованными киноварью и золотом заглавными буквами.
Он готов был уже сам прочесть вслух строчку, бросившуюся ему в глаза, но тотчас же убедился, что это на языке, для него незнакомом.
Дубравка поняла его смущенье и улыбнулась.
— Это «Тристан и Изо», — по-французски произнесла она.
Сидя плечом к плечу, они рассматривали красные, синие, жёлтые, золотые и разных прочих цветов витиеватые заставки, буквицы и рисунки, украшавшие страницы книги.
— Я это знаю! — словно бы оправдываясь перед нею, говорил Александр. — Но только французскому нас не учили — да и зачем он нам? Я на немецком это читал, и мне что-то не поправилось.
Дубравка с недоуменьем и укоризной глянула на него своими золотисто-карими большими глазами.
Он поспешил загладить свой проступок:
— Да ведь это давно было: я ещё и не женат был... Ещё до татар... Да и потом не радостен моему уху говор немецкий: Der Hund. Hundert. Латынь люблю... Я думал сперва, что это у тебя латинское. Потом смотрю: что-то чудно? выходит, как стал читать...
Дубравка рассмеялась:
— У них не все буквы надо читать, у французов.
— А вот прочти: хочу послушать, как это звучит.
Он указал ей веточкой ивы на одно из мест на странице.
Дубравка всмотрелась и сперва прочла беззвучно, про себя. Щёки её тронул румянец.
— Ты обманул меня, — сказала она, покачав головою, — ты сам знаешь по-французски.
— Дубрава, что ты! — укоризненно возразил он. — Побожиться, что ли?
Волнуясь, словно перед учителем, она прочла нараспев, как читают стихи:
Isot, та drue, Isot, m’amie,
En vos та mort, en vos та vie!..
— Хорошо, — сказал Александр. — Только вот что оно значит — не знаю. Переведи.
Ещё больше покраснев, она принялась за перевод. Он сложился у неё так:
Изольда, любовь моя, Изольда, моя подруга,
В тебе моя жизнь, в тебе моя смерть!..
Александр молча наклонил голову. Теперь уже сама Дубравка, осмелев, предложила продолжать чтение.
— Вот это ещё хорошо... — сказала она и заранее вздохнула, ибо ей хорошо была известна горестная история Тристана и Изольды.
Она принялась читать по-французски, тут же и переводя:
— «И вот «пришло время отдать Изольду Златокудрую рыцарям Корнуолским. Мать Изольды собрала тайные травы и сварила их в вине. Потом свершила над напитком магические обряды и отдала скляницу с волшебным питьём верной Бранжен. «Смотри, Бранжен! — сказала она. — Только одни супруги — только король Марк и королева Изольда, лишь они одни должны испить этого вина из общей чаши! Иначе будет худо для тех несчастных, которые, не будучи супругами, выпьют этот волшебный напиток, несущий заклятие: любовь обретут они и смерть...»
Дубравка, смутившись, перестала читать и перевернула тяжёлую пергаментную страницу.
— Ну, потом, ты знаешь, — сказала она Александру скороговоркой, — было знойно, они захотели пить и ошибкою выпили этого вина... Вот тут дальше...
Она быстро обегала глазами одну страницу, другую... начинала читать, но, увидав раньше, чем успевала прочесть, что-либо такое, о чём стыдилась читать, вдруг останавливалась. Голос её то дрожал и срывался, то переходил в напускное равнодушие чтицы.
— «Любовь влекла их друг к другу, как жажда влечёт оленя, истекающего кровью, к воде перед смертью», — прочла она и стала замыкать створы тяжёлой книги.
Александр помог ей, приподняв свою половину разгиба.
Оба долго молчали. Перед ними расстилалось озеро. Солнце поднялось уже над вершинами бора. Тишина стояла полная. Остекленевшая гладь, как бы объявшая под собою бездонную глубь, была столь недокасаемо-прозрачной, что когда ласточка чиркала её остриём крыла, то делалось страшно: не разбила бы!
Далеко-далеко виднелся одинокий парус: он был как белое крыло бабочки...
Невский повернулся спиною к озеру. Берёзка, осенявшая Дубравку, стояла в синем небе как фарфоровая.
Александр не отрываясь смотрел на Дубравку — на изумительной чистоты обвод её милого, но и строгого лица, дивно изваянного, и не мог отвести глаз. Девичье-детское розовое ушко и слегка просвечивающие от солнца светло-алые лепестки её мочек, ещё не испорченных проколами для серёжек, трогали и умиляли сердце. Гладко и очень туго забранные на висках зелёного золота волосы её и чистый белок глаз причиняли сердцу явно ощутимую сладостную боль.
Вспомнился ему тот миг, когда ему, отдавая невесту, надлежало своей, вот этой рукой вложить её руку в руку Андрея, — тот миг, когда он благословил их на пороге их спальни...
Тени сосен всё укорачивались: солнце сияло уже над вершинами деревьев; становилось жарко.
— Александр, — протяжно, в шутливом изнеможенье произнесла Дубравка, — как пить хочется!.. Можно — из озера?
Александр вскочил на ноги.
— Прости, княгиня, — я совсем забыл!..
Он быстро подошёл к берёзке и вернулся оттуда с маленьким берестяным туеском, в котором обычно он или Андрей приносили Дубравке берёзовый сок, когда приходили попроведовать её у озера.
Она привстала на коленки, и, немножко озорничая, взглядывая поверх кромки туеска, принялась пить.
— Хочешь? — спросила она, протягивая к нему туесок. — Не бойся: не наколдовано, — добавила она и рассмеялась.
Александр смутился.
— Да я и не боюсь... — сказал он.
Он принял из её рук берестяной сосуд и тоже напился. Затем, возвращая ей туесок, он ради шутки спросил:
— Что, лучше кумыса... который Чаган тебе присылал?
Дубравка повела плечом.
— Не знаю! — сказал она и поморщилась. — Это ты знаешь: пьёшь с ними этот вонючий кумыс.
— Княгиня!.. — с укоризной проговорил он. — Стыдно тебе... тебе-то уж стыдно так говорить...
Ей стало жалко его и впрямь стыдно своих слов.
— А ты не говори так! — сказала она. — А я его никогда не пила и не буду пить! Андрей велел его на псарный двор щенкам относить.
— Да что он, с ума сошёл? — вскричал Невский.
Дубравка промолчала.
— А ты знаешь, княгиня? — приступил он к ней грозно. — Знаешь, что у них там, в Орде, за одну каплю кумыса, ежели по злому умыслу она упала на землю, тут же приказывают убить человека?
— Знаю! — вскинув голову, отвечала Дубравка. — Знаю! — повторила она. — Но только я того не знала, что за татарского раба выхожу замуж!
Как только унялся гнев, поднятый в душе Александра словами Дубравки, так сейчас же ему сделалось ясно, что это ветер с Карпат. Ведь и Данило Романович судил так же, ведь и родитель её такой же был нетерпеливей; к татарам! Насилу уломал его тогда, на льдах Волги, по крайней мере не начинать ничего, не снесшись предварительно с ним. Чудно, что столь светлый разумом политик и государь столь излишне уповает и на свои родственные узы с Миндовгом, и на крепости свои, и на новую свою конницу, и на крестоносное ополченье всей Европы, которого, дескать, главою непременно его, Даниила, поставят, лишь стоит ему изъявить согласие на унию церквей. «Вот и дочка с этим приехала, — подумалось Александру, — считает себя здесь, на Владимирщине, как бы легатом отца... Что ж, и пускай бы считала. Да то беда, что и Андрей тоже кипит на татар! Ведь экое безрассудство: кумыс, от самого царевича присланный, — и вдруг псам скармливать!.. Хорошо, если не дойдёт это до татар! Да где ж там, — уж, поди, донёс кто-нибудь на Андрея: не любят его, да и продажных тварей немало среди бояр — во дворце в каждой стене татарское ухо...»
Сдержав гнев, Александр Ярославич спросил невестку:
— Скажи: чужой знает кто, что Андрей... это самое сделал над кумысом?
Даже и наедине с нею он поопасался обозначить полностью злополучное деянье Андрея.
Дубравка нахмурила лоб, стараясь вспомнить.
— Не-е-ет... — отвечала она, однако в голосе её не было уверенности. — Ты сам посуди: когда бы донёс кто, то разве бы стал Чагаи и дальше посылать этот кумыс?
Неведомо было княгине, что каждую ночь в шатёр Чагана, разбитый среди прочих кибиток на луговине за Клязьмой, стража впускала некоего человека, предварительно обшарив его, и что этот человек был Егор Чегодаш.
Дубравка нежно коснулась руки Александра.
— Не сердись на меня! Я глупая: мне не надо было говорить тебе этого. Ты не беспокойся...
Невский сумрачно пошутил:
— Ну да: «Ты не беспокойся, Саша: нам с Андреем завтра головы отрубят!..» Ох, Дубрава, Дубрава, плохо ещё ты знаешь их!.. И не дай тебе бог узнать!
Голос его прозвучал так, что Дубравка невольно вытянулась вся и брови её страдальчески надломились.
— Боже, боже! — воскликнула она в отчаянии. — Да когда же это кончится? Пусть один какой-нибудь конец будет!.. Пускай рубят голову!.. И Андрей так же думает... Хватит, досыта наглотались мы этого срама! — выкрикнула она в каком-то грозном неистовстве. — А ты... а ты... да если и нас с Андреем казнят... так тебе всё равно капелька их кумыса дороже всей крови нашей!..
— Перестань! — крикнул вне себя Невский, весь пылая.
От его крика собака, отдыхавшая под кустом, стремглав кинулась к своему хозяину.
Слёзы полились из глаз Дубравки, она упала ничком и зарыдала...
Невский растерялся. Не зная, что делать, он неуверенною рукой дотрагивался до её плеч, затылка и тотчас же отымал руку. Дубравка продолжала рыдать.
— Милая девочка моя... полно... — бормотал Александр, подсовывая ладонь под её лоб, чтобы не лежала лицом на траве.
Дубравка охватила его руку, подобно тому как тонущий в море схватывает подплывшую к нему мачту. Внезапно для себя, не успев даже и воспротивиться этому, Александр склонился к ней иш бережно поцеловал её в затылок — в нагретую солнцем золотистую ямку, откуда расходились, поднятые в стороны, туго заплетённые её косички.
Утешая её, он изредка гладил её по голове, по плечу, но уже не смел и думать снова прикоснуться к ней устами, хотя, даже и перед самым строгим судом, перед судом его совести, невольный поцелуй тот не заставил бы его покраснеть: так много было в том поцелуе отцовского!..
Нечаянная обмолвка её, что «и Андрей так же думает», подтвердила Невскому уже встревожившие его сообщения о намерении князя Андрея попытать счастья в прямой сшибке с Батыем — сообщения, которые получал он от своих тайных осведомителей. Зная, что в отношении Орды она мыслит мыслями своего отца, которые привезла с Карпат, и что подобные расчёты и намерения обуяют также и Андрея, страстного и нетерпеливого в делах государства, тем более волновался, в глубине души своей, Александр.
Едва только Дубравка осушила глаза и стала внимать его слову, он принялся терпеливо и расчётливо выкорчёвывать из её сознания те взгляды на державные задачи великого князя Владимирского, с которыми она прибыла на Суздальщину и которые, несомненно, были внедрены в её душу многими беседами и наущениями её много замышляющего отца.
Успокоенная и утешенная им, она слушала его внимательно, изредка ставя ему вопросы, а иногда возражая. И Александр поражён был той глубиной и ясностью, которые успела приобрести её политическая мысль.
«Девчонка ещё, а ведь как возросла! — снова подумалось ему. — Царицею смотрит!..»
Он любовался ею. А она меж тем неожиданно перешла в наступленье.
— Так что же, — спросила она, — стало быть, отец мой, государь, не то мыслит, что Земле Русской надо?
Он медлил с ответом, затаивая улыбку. «Господи! — думалось Александру. — А ресницы, ресницы-то — что копья!.. Думал, что сурьмит их, как боярыни наши, — нет, сами собою черны: иначе от слёз бы размазалось. И до чего же сама бела — в молоке её купали, что ли?..»
В не осохших ещё от слёз глазах Дубравки стояли блики и косоугольники света: словно бы окна в небо!
Ей не понравилось его долгое молчанье.
— Отчего ты молчишь? — спросила она, готовая разгневаться.
Он спохватился и отвечал ей:
— Нет, Дубравка, правильно мыслит твой отец и брат мой и государь многомудрый Данило Романович, дай бог ему здоровья!.. Правильно мыслит, ибо держава его к Карпатам прилегла! Когда бы я сам стоял на Карпатах, то и я, быть может, так же мыслил. Две тыщи вёрст Батыю тянуться до него!.. А я... — Тут Невский поправился: — А супруг твой, князь Владимирский, не так должен мыслить!.. Одно то возьми: Батый грозился, когда мы с Данилом Романовичем повенчали вас: «Малахаем своим до Владимира ихнего докину — и нет города!..» А в малахае том... триста тысяч конных сатанаилов! С кем он, Андрей твой, противостанет ему?! Ещё же и нового народу не подросло!..
— А как же Андрей должен мыслить? — спросила Дубравка.
Невский оглянулся в сторону лесной опушки.
Дубравку рассердила эта его осмотрительность.
— Ты скоро станешь думать, что вот эта берёзка тебя подслушивает?
Александр посмотрел на фарфоровую берёзку и затем спокойно ответил:
— Нет, эта не будет подслушивать: молода ещё!
А вон той старушке, — он кивнул головою на густолиственную, радушную берёзу, — а вон той не доверюсь, предпочту важное что-либо перемолвить подальше от неё.
Дубравка улыбнулась:
— Вот и отец такой же!
— Иного и не ожидал от брата Даниила. Не худо бы и Андрюше твоему хоть этим у нас позаимствоваться...
Дубравка смолчала.
— Слушай, княгиня, — сурово произнёс Александр, — поклянись мне всем, что есть у тебя самого святого на свете, что всё, что сейчас услышишь от меня, ты никому не расскажешь, даже Андрею.
Тонкие, высоко вознесённые дуги бровей её дрогнули.
— Думаешь ли ты, что я всё ему говорю? — вопросом на вопрос отвечала она. И затем, с глубокой торжественностью, поклялась спасением души покойной матери своей, что никогда, никому не расскажет она об этой беседе.
И тогда Александр завершил всё прежде сказанное перед нею такими словами:
— Не татары, а немцы! Эти страшнее!
— Почему? — в изумлении спросила Дубравка.
— А вот почему. Запомни! — продолжал Александр. Татары — Батый — нет слов, страшны, и люты, и поганые людоядцы. Однако они оставили неизрытым наш корень духовный. Много и жадностью их, и подкупностью помог нам господь. Если б ты знала, сколько серебром да поклоном крови русской, скольких людей выкупили мы с Андреем у Орды!.. И впредь щитом серебряным, а не мечом стальным надеюсь удержать их по ту сторону Волги!.. Помысли сама: князи русские остались как были; отстоял я перед Ордою и для Андрея, и для себя, в Новгороде, свободу войны, свободу мира: «Воюй с кем хочешь, только не с нами!..» Язык наш татары не тронули, церковь чтут! А под щитом церкви ужели мы с Андреем и своего, княжеского, да и людского добра не укроем?! Нет, не татары страшны нам сейчас! Только не надо их злобить прежде времени. Так и говори Андрею своему: «Соломенный мир с татарами лучше железной драки!..»
Дубравка, словно уверовавшая в наставника своего, новообращённая, строго кивнула головой.
Александр продолжал:
— Немцы страшнее. И... господин папа!.. Если не устоим против стран западных, то эти и духовный корень наш изроют! Не то что нас, а и Руси не будет. Вовеки!.. Ни языка, ни веры, ни государей своих народу и ничего, ничего не оставят... Была, напишут после, Русь некая, а ныне — вон там плуг на себе тянут, в лохмотья одетые, — то из останков народа того, русского! А заговорит с ними, с теми, на которых немец пахать будет, какой-либо Иродот будущий — и они уже не по-русски, но по-немецки ответят!.. Ох, Дубрава... когда бы ты была на Чудском в ту битву ледовую, где полегло их — рыцарей рижских, а ещё больше — кнехтов — столько, что лёд подплыл кровью!.. Когда бы ты видела, как страшна эта их железная свинья, которою они прошибаются!
— Я была там!.. Я и в Невской битве была!.. — тихим восклицаньем вырвалось у Дубравки. Очи её были широко разверсты, уста чуть полуоткрыты. Она дышала часто и жарко.
Невский посмотрел на неё и, казалось, понял, что означали эти её слова.
— Этим рылом и изроют они напрочь весь корень наш духовный!.. Вот почему немцы страшнее татар!.. Вот как мыслить должен князь великий Владимирский. К тому направляй его, ежели ты хочешь, чтобы имя твоё благословляла Земля наша!.. И когда так будете творить вместе с Андреем, то бог с ним, и с престолом Владимирским. Знаю, шепотники нашёптывают на меня Андрею. Но я поклянусь, чем хочешь: что даже и под детьми вашими, — при этих словах Дубравка вспыхнула, — даже и под детьми вашими не будут дети мои искать престола Владимирского. Я заклятие в том на сынов своих положу. Но… только ежели та?к, ежели по сему пути ходить станете!..
Лицо Александра пылало. Ей чудилось, что от него, от лица этого, бьют лучи. Она вся трепетала.
— Итак, запомни! — грозно заключил Александр. — Татары — это успеется. Немцы — страшнее. Орда не вечна. Батый — при смерти. Но папа рымский... он и седьмое колено переживёт!..
Они говорили и не могли наговориться! Если бы сейчас песочные часы, подаренные Невскому Ели-Чуцаем, были здесь, рядом, он раздробил бы их хрупкое стекло: только бы не видеть, что не перестало течь время!..
Дубравка обещала Александру, что отныне всё, что он прикажет ей внушать Андрею, она будет внушать ему — всей своей волею, всей своею властью, всем своим разуменьем.
— Всё буду делать, что велишь!..
Дубравка вздохнула: ей показалось, что в этот миг она отступила от своего отца, от клятвы своей, данной там, на Карпатах, перед разлукой.
— В час добрый! — сказал Александр. — Худому не наставлю тебя... Скажи, он тебя любит? — вдруг спросил Невский.
Тяжкое борение чувств — мука гордости, стыд перед деверем, да и многое, многое, чего не возьмёт и самое слово, изобразилось на её лице.
— Любит, — ответила она, потупляясь. — Я его не люблю... — домолвила она и отвернулась.
Ветер плеснул волною о берег. Закачалась большая сосна на песчаном бугре, выступившая перед опушкою бора, будто богатырь-полководец перед колеблющимся строем войска.
Шлёпаясь о землю, посыпались еловые шишки, сбитые ветром. Собака, ушибленная ими, вскинулась и заворчала. Стало свежеть. Уже слышался кипень и шелест заворачиваемой ветром наизнанку листвы берёз. Словно тысяча зеркальных осколков, сверкал на солнце маслянистый лист. Куда-то сыпались и сыпались нескончаемо, а всё никак не могли оторваться от ветки ещё не столь большие листья осины, издавая тот еле слышимый шелест-звон, слушая который невольно вспоминаешь пересыпанье тонких серебряных новгородок или же арабских диргемов рукою скряги-лихоимца.
Александр решительно поднялся.
— Скоро дождь будет, — произнёс он. — Пожалуй, пойдём, Дубравка.
Он протянул ей руки.
Она вскочила, едва докоснувшись его руки и не успев накинуть на плечи свой алый плащ поверх белого платья. На какую-то долю мгновенья о мрамор его могучей груди сквозь тонкое полотно скользнули тяжёлые вершинки её грудей. Никогда удары копий и стрел, хотевших добыть его сердце, ринутых рукою богатырей, не производили такого душевного и телесного сотрясенья всей его крови и нервов, как вот это мгновенное прикосновенье.
Дубравка стояла спиною к воде, на самом обрыве, и ему неизбежно было её поддержать, ибо, коснувшись его, она слегка отшатнулась. К го ладони легли ей на плечи. И она снова приникла к нему. Она была вся как бы в ознобе.
Будто кто-то внезапно дёрнул незримой рукой незримую верёвку — и огромное колокол-сердце ударило и раз и другой, готовое проломить ему грудь.
Поцелуй их был отраден и неизбежен. Так земля, растрескавшаяся от жары, хочет пить.
Как ребёнка, поднял он её на руки.
Внизу расстилалось озеро. А там, вверху, далеко над берегом, снегоблистающие купы облаков громоздились, плыли, непрестанно преображаясь. И одно из них, белое, светонапоённое, высилось, словно Синай.
«Господи! — подумалось Александру каким-то внутренним воплем тоски и отчаяния. — Да ведь с такою бы на руках и на этот Синай, как на холмик, взошёл бы!..»
Но увы — то не его, то не его, — то братнино было! И, как бы с кровью отдирая её от своей огромной души, он бережно поставил её, жену брата, на землю.
— Пойдём, Дубравка... нас ждут... — сказал он.
Берёзовый сок чудесно помогал Дубравке. Но уже стало почти невозможно его добывать: сок весь теперь уходил на выгонку листвы, на утолщение ствола — стояла уж половина мая. И Андрею и Александру приходилось иной раз подолгу выискивать подходящую берёзку где-нибудь в сыром, тёмном овражке, где ещё, местами, прятался посеревший, словно бы заяц в разгаре своей перешерстки, крупнозернистый, заледенелый снег.
Один от другого братья тщательно скрывали каждый свою берёзку.
За вечерним их чаем, который любила разливать сама Дубравка, это соревнование двух братьев из-за берёзок служило предметом взаимных поддразниваний и шуток. То один, то другой из них наклонялся к Дубравке и так, чтобы соперник не мог расслышать его, сообщал ей, где, под какими берёзками, в каких оврагах расставил он свои туески. И старались подслушать один другого, и много смеялись.
Это были счастливейшие мгновенья, быть может, в жизни всех троих! Александр, который желал, чтобы юная гостья его как можно скорее поправилась, всячески старался, чтобы ото всего, что её окружало, веяло беззаботной радостью и покоем. Да ему и самому необходим был отдых, особенно после прошлогоднего воспаленья лёгких, которое едва не унесло его в могилу и от которого с таким трудом спас его доктор Абрагам, выпустив у него из вены целую тарелку крови.
Глубокое затишье установилось и в делах державных, и это весьма способствовало отдыху.
Усилиями Александра отношения с ханами вошли как бы в некое русло с довольно устойчивыми берегами. Невский умело и тайно растравлял ненависть между Сартаком — сыном Батыя, и Берке — братом его. Батыя уже водили под руку, он сильно волочил ноги, стал косноязычен и очень редко вмешивался в дела Золотоордынского улуса. Сановники только делали вид, что слушаются его. Всё, что было могущественного или же алкающего власти среди вельмож и князей улуса Джучи, раскалывалось на два враждебных стана: донской — сторонников Сартака, ибо царевич кочевал на Дону и там была его ставка, и другой стан — сторонников Берке, который всё больше и больше забирал власть в Поволжском улусе в свои изголодавшиеся по власти, когтистые руки, по мере того как дряхлел его брат.
И соответственно расстановке сил в самой Орде разбились на два враждебных стана и князья подвластных русских уделов: одни возили дары преимущественно Сартаку, другие — преимущественно Берке. Батый получал меньше всех.
Невский поддерживал Сартака. Они были с ним побратимы. Сартак и верховная ханша его — оба были православные. У них даже была своя походная церковь, свой поп. Всё это не могло не сближать Невского с царевичем. Однако не мог же не видеть Ярославич, что старший сын Батыя не удался, что он скудоумен, хлипок здоровьем, что если затеется у него после смерти великого родителя борьба с дядей Берке за златоордынский престол, то сыну Батыя едва ли царствовать, хотя сейчас, при жизни отца, слово Сартака, его пайцзы, тамги и дефте?ри были знаками как бы самого Батыя и никто не смел им противиться, даже всесильный Берке.
Находясь в дружбе с Сартаком, Александр в то же время всячески ублажал и Берке, одаряя всех жён, и дочерей его, и советников — всех этих муфтиев, кази, мударрисов и шейхов, ибо брат Батыя был яростный магометанин и только ожидал смерти брата, чтобы обратить в магометанство все подвластные ему народы — и прежде всего свой собственный.
Так или иначе, между Александром и ханом Берке, неприязненно косившимися друг на друга, был тот «соломенный» мир, в сторону которого он советовал только что и Дубравке направлять своего Андрея и который был, по глубокому убеждению Невского, куда лучше «железной драки» с татарами — по крайней мере сейчас.
Так обстояли дела на востоке.
На юге же ещё не отбушевала против монголов Грузия, и в своём орлином гнезде, среди скал, ставших скользкими от татарской крови, ещё держался непреклонный Джакели.
Дальше — к западу — император греческий, Иоанн Ватаци, — хитрее, чем лис, терпеливее, чем китаец, и дальнозоркий, как ястреб, — не упускал случая, сидя в своей провинциальной Никее, теснить латынян-рыцарей всё дальше и дальше — к Дарданеллам, к Босфору, ожидая только благоприятного стечения планет, дабы и совсем вышвырнуть немцев и франков из Константинополя, где удерживались они уже через силу, непрестанно взывая к папе, после погрома, учинённого им болгарами.
В Сербии Урош, государь отважный, законодатель мудрый, полководец, опрокинувший самого Субэдэя, да и хозяин рачительный своей земли, куда уже и Людовик и Фридрих стали засылать в науку учёных рудознатцев — учиться у сербов добывать железо, золото, серебро и медь, — этот Урош со своей стороны тоже рвался с севера к Босфору, в Константинополь. Только недоставало сил: с тылу наседали венгры, от моря — итальянцы, с другого боку — болгары, забывшие заветы великих своих правителей — Асеней. И вот, пишет в своём письме отец Дубравки, Данило Романович, что, дескать, молился к нему государь сербский Урош о союзе, о помощи против венгров, ибо нависают они над Сербией с тыла и сковывают лучшие силы Уроша. Однако далеко озирающий с Карпат своих, поглядывающий и сам на Босфор и на Константинополь, отец Дубравки так ни с чем и отпустил послов сербского государи. Пишет Данило: нельзя, дескать, ему пойти против Бэлы — вечный мир у него подписан и союз с королём венгерским, да и сватами стали: Лев Данилович, брат Дубравки, женат на дочери короля Бэлы.
На севере, в Германии, дела для Руси складываются благоприятно. Не успел умереть Гогенштауфен, как вся Германия, подобно бочке, раздираемой забродившим мёдом, трещит — и вот-вот рассыплется на клёпки. Уже вздыбились немецкие города. Иной бургомистр уж самого императора нового ни во что не ставит: захочет — отворит ворота, захочет — пет. Да, впрочем, их, этих императоров, много стало в Германии: в Вормсе — один, в Страсбурге — другой, в Майнце — третий. Чуть ли не каждый богатый рыцарь мнит себя завтрашним императором. Самозваные Фридрихи размножились. А народ — в смятенье. Кнехты сбиваются в шайки — дерут встречного и поперечного... Притихла и Рига: мира доискивается магистр со Псковом и Новгородом. Ещё бы, на одних попах латынских далеко не уедешь! А кнехтов и рыцарей из «фатерланда» — их теперь и пшеничным калачом не заманишь на орденскую службу: им и в отечестве хватает добычи! А сунешься на Русь — тут, того и гляди, новгородец — даром что торговая досточка! — а разъярить его, так живо голову топором отвалит! А на Литву сунешься — то как раз литовец тебя в панцире на костре зажарит, словно кабана! Поослабели гладиферы — меченосители! Ну что ж, нашим легче! Вот только Миндовг сомнителен! Правда, ручается Данило Романович в письме своём, что с Миндовгом у него теперь вечный союз и родство двойное: Миндовговну взяли за брата Дубравки, да и сам Данило оженился на литвинке — Юрате-Дзендзелло. А в ней, дескать, Миндовг и души не чает: пуще дочери! А молодому Даниловичу уже и княжение выделил. «У них, — пишет Данило Романович, — у литовцев, родство-свойство — дело святое и нерушимое». «Ну, дай-то бог! А я бы и родству-свойству не вверялся: зане — Миндовг!..»
Так думалось Александру, так беседовали они втроём за вечерними чаепитьями.
За последнюю сотню лет для державы вряд ли один-другой набрался бы подобный тихий годочек! Недаром же летописец — пономарь в Новгороде, Тимофей, — обозначил текущий, 1251 год, а от сотворения мира — 6759, такою записью:
«6759. Мирно бысть». И ничего более!
Столь же краткою записью как бы откликнулся ему летописец ростовский:
«6759. Ничто же бысть».
И наконец:
«6759. Тишина, бысть», — вывел киноварью высокопоставленный летописец, сам митрополит Кирилл — Галича, Киева и всея Руси.
Тишина была и в сердце Дубравки. Положа руки на раскрытую на коленях книгу, молодая княгиня созерцала бирюзовую гладь озера с парусами на ней недвижными, словно бы сложившие крылья белые мотыльки, и думала об Александре.
Сейчас он придёт. Ещё не слыша его шагов, она узнает о его приближении по той обрадованной настороженности, с которою начнёт посматривать Волк в сторону леса, а потом на неё — жалобно и просяще: собака уже не смела теперь без её разрешения кинуться навстречу Александру! В первый раз, когда пёс кинулся, оставя её, навстречу своему хозяину, хозяин ударил его прутом.
— Туда! К ней!.. — И показал рукою в сторону, где сидела Дубравка.
И этого урока разумному псу оказалось достаточно. Теперь, издалека заслыша Александра, он не только радостно, но и жалобно повизгивал, колотил хвостом о землю и взглядывал на Дубравку: отпусти, мол! И она, немножечко помучив Волка, отпускала его.
Словно камень, пущенный из пращи, перелетал пёс через всю лужайку и исчезал в лесу. Возвращался же он чинно и строго, счастливый, идя на шаг, на два впереди хозяина, и, доведя его до Дубравки, вновь ложился на своём месте, под кусток, настораживая шатёрчики острых ушей. И теперь горе было тому, кто из чужих вздумал бы ступить на поляну...
Сейчас придёт Александр... «Ну что, княгиня, — скажет он ещё со средины полянки своим просторным, большим голосом, — небось уморили тебя жаждою?..» — и покажет ей бережно предносимый на ладони берестовый туесок, не больше стакана. И они оба опять изопьют из него. Он — после неё. Как Тристан Корнуолский и Изольда Златокудрая: «Он — после неё, — они осушили кубок с рубиновым вином, настоянным на травах: напиток, порождающий любовь — любовь, доколе земля-матерь не постелет им свою вечную постель!» — произнесла нараспев по-французски Дубравка, и закрыла глаза, и, закинув руки за затылок, потянулась блаженно, и подставила своё лицо солнцу. А солнце уже грело всё больше и больше: словно бы отец подошёл неслышно и положил ей на плечи свои большие, тёплые руки... «Господи! Когда же увижу я отца своего? — подумалось Дубравке, и сердце её заныло. — Наказывала тётке Олёне, отъезжавшей в Галич, чтобы сказала государю-отцу, что тоскует его донька: пусть приедет хоть на часок! Писала в письме, звала. Но Александр говорит, что сейчас Данило Романович воздержится от приезда во Владимир: не надо дразнить татар! Кирилла-владыку прислал, и даже это с трудом перенесли в Орде. Ладно, что ещё старик Батый жив, попридержал Орду».
Вспомнив об отце, Дубравка почувствовала, как покраснела. «Разве укроется от отца? — мелькнуло у неё в душе. — Нет, пусть лучше пока не приезжает!.. А сейчас придёт он, Александр! — подумалось ей вновь с каким-то блаженным и озорным ужасом. — Придёт проститься, быть может, в последний, в последний раз!.. Хочет ехать в Орду, к Сартаку... Царица небесная, сохрани же ты мне его!.. Сохрани!..»
Дубравка открыла глаза и, сжав руки, молитвенно глянула на белокурые облака. Рычанье собаки заставило её обернуться. «Это он, Александр!» Дубравка затаила дыханье, и плечи её дрогнули от предвкушения счастья. Однако как странно сегодня ведёт себя Волк! Пёс не только не обрадовался, — напротив, жёсткая, волчья шерсть его встала дыбом, он вскочил и насторожился в сторону леса, готовый кинуться на того, кто вот-вот должен был выйти из леса.
На поляну вышел Андрей. В его руке был маленький туесок. Быть может, никогда ещё душа Дубравки не испытывала столь горького разочарованья! Княгиня нахмурилась. Ничего не подозревая, Андрей приветственно простёр к жене свободную от туеска правую руку. Волк ощерился и зарычал.
Князь остановился.
— Уйми ты его, княгиня! — раздражённо произнёс он.
Дубравка прикрикнула на пса. Однако на сей раз её властный голос не оказал воздействия на Волка; по-прежнему рыча и словно бы в каком-то щетинном ошейнике — так поднялась у него шерсть! — пёс медленно подступал к непрошеному пришельцу.
Гнев собаки заставил Дубравку вскочить на ноги.
— На место!.. Туда!.. — крикнула она звонко, указывая на куст. И подчинившийся нехотя Волк побрёл, озираясь на Андрея, однако улёгся, должно быть «на всякий случай», ближе к Дубравке, чем лежал до того.
— Однако же и сторож у тебя, — сказал, покачивая головою, Андрей, — не подступись!
Он подошёл к Дубравке и протянул ей туесок с берёзовым соком.
— Саша не придёт, — сказал он, — там мужики к нему пришли: землемерца требуют, межника... Велел мне проведать тебя, отнести сок...
Дубравка протянула руку за туеском, но то ли Андрей поторопился выпустить из своей руки, то ли она замедлила принять, но только туесок, полный соку, выскользнул и упал на землю. Сок разлился.
— Княгиня!.. — укоризненно воскликнул Андрей. — Да ведь это теперь дороже кипрского! Ведь ты знаешь, берёзы больше не дают сока...
— Ах, не помогает он мне, этот ваш берёзовый сок! — с досадливой морщинкой на лбу отвечала Дубравка.
— Но ведь ты же сама говорила, что помогает, и очень.
— Не хотела обижать Александра, — ответила она, обрывая разговор.
— Да, кстати, — сказал Андрей Ярославич, — Александр велел тебя звать: может быть, поедем верхом, все трое? Он уже приказал для тебя оседлать Геру.
— Скажи ему, что я никуда не поеду! — жёстко отвечала она. — Хочу побыть здесь одна. У меня голова болит. Господи! — со слезами раздраженья воскликнула она, — Даже и здесь не дают покоя!
Сказав это, Дубравка отвернулась от мужа и быстро пошла вдоль берега. Андрей растерянно посмотрел ей вслед и затем двинулся было к тому месту под берёзой, где сидела она, чтобы взять и понести за ней коврик, плащик и книгу. Грозное рычанье остановило его: это Волк предупреждал: «Не тронь! А то будет плохо!»
— Экая чёртова собака! — проворчал князь и, вздохнув, повернул в сторону леса.
Волк ринулся догонять свою госпожу.
А тот, кого так страстно и столь тщетно ожидала она, — Александр, он уже и шёл было к ней, однако, не пройдя половины приозёрного леса, остановился и повернул обратно к дворцу.
Это произошло так.
Александр подходил к мостику через Трубеж, возле впадения речки в озеро. Отрадно было дышать запахом водорослей, остановившись в тени переплетавшихся между собою вётел, бузины и черёмухи.
Где-то тёкал и закатывался серебряною горошиною соловей. Александр вслушался: «Где-то здесь!..» Ступая осторожно, он приблизился, раздвигая бережно ветви, и увидел неожиданно в кустах и самого певуна: серая кругленькая птичка, забывшаяся в звуке, как бы изнемогавшая от него. Александр, опасаясь, что спугнёт соловья, осторожно привёл ветви на их прежнее место. «Ведь какой малыш, — подумал он, улыбнувшись, — а разговору-то, а песен-то о нём!.. А ну послушаем тебя хоть раз по-настоящему, а то всё некогда да некогда!..»
И Невский остановился и стал слушать.
...Сначала как бы насыщенный, налитой, какой-то грудной звук — некое округлое тёканье неизъяснимой певческой чистоты звука: словно бы эта ничтожная птичка задумала дать людям непревзойдённый образчик пенья. И вдруг срыв к сиплому и частому, опять-таки насыщенному какому-то, сасаканью...
И всё ж таки ясный, прозрачный звук преобладает. «Да, это сильно хорошо, — прошептал Александр. — Почему же это я раньше не обращал никакого вниманья? А ведь сколько ж, бывало, носились в этом лесу ребятишками!..» Он приготовился слушать ещё. Вдруг соловей умолкнул, и слышно было, как шорох пул крылышками по кустам, перелетая в другое место: кто-то спугнул. И в тот же миг до слуха Александра донеслись два мужских, грубых и сиплых голоса.
Князь нахмурился: по голосу, да и по самому складу речи слышно было, что разговаривают меж собою мужики. А никому не велено было из чужих, из посторонних, проходить княжеским лесом или захаживать в него. «Надо будет спросить сторожей!» — подумал, хмурясь, Невский.
Прошли близко, но по ту сторону ручья. И вот о чём они говорили.
— Чего тут! — с горьким, раздражённым смехом говорил один. — Он хотя и вернётся с рыбалки, муженёк-то, невзначай, а и в двери к себе не посмеет стукнуть, коли узнает, кто у его жёнки сидит. Ведь легко сказать: сам князь, да и великой!..
— Знамо дело: кажному лестно! — подтвердил другой, и оба хохотнули,
Александру щёки обдало жаром.
«Что такое, что такое?» — мысленно вопрошал он себя, в стыде и в негодованье. А самому уж ясно было, что это о его брате говорится, об Андрее.
«Господи! — подумал он с отвращением. — И здесь уж, у меня, шашни с кем-то завёл!..»
А смерды меж тем продолжали разговор, удаляясь.
Буря смутных, тяжёлых чувств душила князя. «Асам, а сам-то ты, княже Александре? — вслух восклицал он, гневно допрашивая себя, зовя к ответу. — Обумись! Бракокрадцем стать хочешь!..»
И вспомнились ему слова старика Мирона: «Да ведь как же, Олександра Ярославич? Ведь он же у меня — большак! Он всё равно как верея у ворот; на нём всё держится!»
Ломая и отшвыривая бузину и орешник, он стал выбираться на тропинку, что вела обратно ко дворцу.
В домашнем обиходе и у Андрея и у Александра Ярославичей, после их возвращения от Менгу, императора Монголии и Китая, был принят чай, правда для особо чтимых или близких гостей. Этого напитка ещё не знали, да и остерегались другие князья. Епископ ростовский осуждал питьё чая, однако несмело, и оставил сие до прибытия владыки. А Кирилл-митрополит, ознакомясь с «китайским кустом» и отведав чая из рук своей ученицы, нашёл напиток превосходным и спокойно благословил его. «Не возбраняю даже и в посты, — сказал он, — ибо не скоромное, но всего лишь былие земное!»
В этих застольях втроём Дубравка радушно хозяйничала, одетая в простое домашнее платьице, иногда с персидским шёлковым платком на плечах. Она старалась заваривать чай строго по тем китайским наставлениям, какие сообщил ей Андрей. То и дело она приоткрывала крышку большого фарфорового чайника с драконами — из чайного прибора, подаренного Александру великим ханом Менгу, и вдыхала аромат чая и заставляла делать то же самое и Александра и Андрея, боясь, что чай им не понравится.
Какие вечера это были! И о чём, о чём только не переговорили они!.. Сколько раз Дубравка заставляла то одного, то другого из братьев рассказывать ей и о битвах с немецкими рыцарями, и о Невской битве, и о совместной их поездке к Менгу. И оба — участники одной и той же битвы — Ледовой, и оба — участники одной и той же, длительностью в два года, поездки через Самарканд в Орду, Александр и Андрей, увлечённые воспоминаниями, начинали перебивать один другого, исправлять и переиначивать.
— Да нет, Андрей, всё ты перепутал! Когда фон Грюнинген ударил на Михаила Степановича, а ты со своим Низовским полком...
— Да нет, Саша, не так! Ты сам всё спутал. Вот смотри: я со своими вот здесь стою, от Воронья Камня на север. А ты — вот здесь...
— Ну и дальше что? — загораясь, перебивал его Александр.
— Да ты погоди, Саша, не перебивай!..
— Гожу!..
— Ну, так вот. Я стоял здесь...
И крепкий мужской ноготь резко прочерчивал на белоснежной скатерти, к великому ужасу Дубравки, спешившей отодвинуть чайный сервиз, неизгладимую черту, обозначавшую расположение войск в Ледовой битве. Невский всё это перечерчивал своим ногтем и чертил совсем по-иному.
— Иначе! — говорил он. — Грюнинген — здесь. Мальберг — здесь. А ты с низовскими — тут вот. Понял? — и Александр стучал пальцем о то место, где, по его мнению, стоял на льду Чудского озера Андрей Ярославич в столь памятный и обоим братьям и магистру с прецептором день пятого апреля 1242 года.
Рассказывая, Александр вдруг расхохотался. Дубравка с любопытством посмотрела на него.
— О чём вспомнил? — спрашивает Андрей.
— Да помнишь, как фон Грюнингена волокли ребята по льду ремнями за ноги?
Хохочет и Андрей. И это не скатерть уже, а чуть припорошённый снежком лёд Чудского озера в тот достопамятный день. А вспомнилось братьям, как ватага неистовых новгородцев во главе с Мишей, пробившись до самого прецептора, свалили фон Грюнингена с коня, и так как закованного в панцирь гиганта трудно было унести на руках, то кто-то догадался захлестнуть за обе панцирные ноги прецептора два длинных ремня, и, ухватясь за них, ребята дружно помчали рыцаря плашмя по льду, в сторону своих: панцирь по льду скользил, как добрее санки с подрезами. И когда уже близ своих были, то кто-то вскочил на стальную грудь, как на дровни, и так проехался на фон Грюнингене, среди рёва и хохота.
Узнав, о чём вспомнилось Александру, немало смеялась тогда и Дубравка.
Но много и страшного и безрадостного переслушано было Дубравкой из уст Андрея и Александра в эти незабвенные вечера.
Эти униженья в Орде, когда Александр принуждён был всякий раз, входя в шатёр хана, преклонять колено и ждать, когда гортанный голос, вроде вот того, что у Чагана, повелит ему встать...
И с глазами, полными слёз, сидя на обширной тахте, прислоня голову к плечу Андрея, кутаясь в платок, княгиня неотступно глядела на Александра, который, рассказывая и живописуя их дорогу и пребыванье в Орде, то расхаживал по комнате, то вдруг останавливался перед ними.
Дубравка слушала его рассказ, вглядываясь в его прекрасное и грозное лицо, озарённое светом больших восковых свечей... «Нет, — думалось ей, — разве может хоть где-либо затаиться страх в этом сердце?»
И начинала прозревать, что многое испепелила в душе Александра сия неисповедимая и всё подавляющая Азия.
Азия дохнула в эту гордую душу...
...И вставали перед княгиней снеговые хребты, сопредельные небу, и жёлтые песчаные пустыни на тысячи и тысячи вёрст — пустыни, на пылающей голизне которых сгорают целые караваны, словно горстка муравьёв, брошенных на раскалённую сковороду...
Обезумевшие от безводья, люди распарывают кровеносные жилы у лошадей, чтобы напиться их кровью...
Убивают слабых, чтобы не тратилась на них лишняя капля воды...
— Да разве, Дубравка, — говорил Александр, — поверишь во всё это после, когда рядом течёт Волхов, полный воды!.. Ведь едешь, едешь, неделю, другую — и всё песок и песок... Или же валуи, плитняк, галька, солончаки... Кочки на этих солончаках — в рост человеку. Ветер — до того свирепый, что валуны гонит, палатки с железных приколов сдирает!.. Верблюды и те задом поворачиваются. Человеку же одно только спасенье — ложись под бок к верблюду, ничком, и чем бы ни было укройся с головою, и не вставай, доколе не кончится ветер, и предай себя на волю божью... Местами урочища целые костей валяются — белых, а и полуистлевших уже. Проезжали мы тем местом, где жаждою пристигло лютой в сорок пятом году караван родителя нашего многострадального... Видели кости людей его... О, люто в пустынях сих!..
Не по-доброму и начался последний их злополучный вечер втроём! Это было как раз в тот день, когда Дубравка столь напрасно и столь долго ожидала Александра у озера. С потемневшим лицом, враз похудевшая, она сидела, потупя взор, и словно бы руки у неё зябли, держала то одну, то другую обок горячего фарфорового чайника, из которого разливала чай.
Считалось, что Александр у неё и у Андрея в гостях, ибо он приходил к ним, на их половину. Этим и воспользовался Александр, чтобы, под видом шутки, и укорить слегка Дубравку за нелюбезный приём, и немного развеселить. Подражая монгольской выспренности, Невский, чуть улыбаясь, произнёс:
— О! Со скрипом отворяются ныне врата приязни и гостеприимства!
Дубравка вспыхнула, хотела возразить что-то, но ограничилась лишь подобием жалостной улыбки. Ещё немного, и она бы заплакала. Александр уже раскаялся, что затронул её. Вступился Андрей.
— Нездоровится ей что-то! — сказал он. — А всё озеро этому виною: ведь столько просидеть на ветру, да и у воды! Солнышко хотя и пригревает, а по овражкам, под листвою, ещё и снег!.. Из лесу — как из погреба!..
Он встал и укутал ей плечи платком. Она поблагодарила его безмолвно.
— Выпей же чаю побольше горячего, — сказал Александр. — Врачи Менгу только и лечат его что чаем да кумысом.
Он подвинул ей хрустальное блюдо с инжиром. Упомянутый им кумыс послужил началом того разговора, который Невскому давно уже хотелось начать с братом, без чего он и не мог бы спокойно уехать в Орду, к Сартаку, ибо уже давно Александр догадывался, что Андрей что-то затевает против татар.
— Кстати, а что с кумысом? — спросил Невский как бы невзначай.
— С каким? — спросил Андрей.
— Ну, с тем, что Чаган присылает на леченье.
— Ничего. Спасибо ему: каждый день по бурдюку присылает, пёсики мои толстеют...
И Андрей Ярославич злобно рассмеялся.
Невский поморщился, словно бы от сильной зубной боли.
— Чего ты? — вопросил брат.
— Сам знаешь что, — отвечал Александр. — Боюсь, что тысячи бурдюков русской крови нацедят татары за эту княжескую шуточку!..
Андрей вскинул плечами:
— Бояться волков — быть без грибков!
— Не к месту, — отвечал Александр. — Дивлюсь.
Наступило молчанье.
— А тебе ведомо, — сказал Александр, — что дядюшка наш, Святослав Всеволодич, и с младшеньким своим, с Митрием, опять у Сартака сидит, на Дону?..
— Нет, не знал, — нахмурясь, отвечал Андрей. — Экий па?полза! — выругал он дядю. — А ведь давно ли на свадьбе у меня верховодил? Как сейчас я его вижу: «И-их!» — и плечиком. — Андрей передразнил дядю. — Туп, туп, а в Орду дорожку знает и сыночку своему показывает!.. Жалко, что верёвки на князей не свито!.. Я бы его вздёрнул!..
— Вешали и князей, — угрюмо ответил Невский. — Вот у них, в Галиче: Игоревичей. Да не в том же дело! А ты так поступай, чтобы и наветнику на тебя нечего было повезти в Орду!.. А то как раз не его на глаголь вздёрнут, а тебя в Орде тетивою удавят.
Прежде чем успел ответить Андрей, дрожь ужаса и отвращенья охватила плечи Дубравки. Она закрыла лицо руками и медленно стала покачивать головой.
— О господи, о господи, — вырвалось у неё, — ну за что так тяжко казнишь ты меня?
— Тебя ли только, княгиня? — сказал Александр, и неласковое прозвучало в его голосе.
Дубравка ему ничего не ответила. Ответил Андрей.
— Ничего, друг мой, потерпи ещё немного — увидишь: не за раба татарского выдавал тебя Данило Романович! — сказал он и с необычайной для него ласковостью подошёл к жене и бережно поднял её лицо от ладоней.
Если бы мог видеть Андрей Ярославич в это время лицо своего старшего брата! Но в тот миг, когда Андрей вернулся на своё место, Александр Ярославич был по-прежнему спокоен.
Теперь для него было всё ясно: Андрей затевает восстание против Орды! Донесенья верных людей были истинны. И, внутренне усмехнувшись, Невский подумал: «Нет, видно, не бывать мне и королю Гакону сватами: не оженить, видно, Василья моего на Кристине норвежской! Не к тому дело ведёт этот добрый молодец!.. Погубит, всё погубит!..»
Сватовство между королём Норвегии, Гаконом, и Александром Ярославичем уже подходило в то время к благополучному завершению, и если бы удалось, то Александр мог быть надолго спокоен за северо-восточные земли свои, за Неву, за остров Котлин, за Ладогу. Как раз здесь вот, в Переславле, принял он одного из своих бояр, прибывшего с достоверным известием, что дела в Трондхейме подвигаются хорошо и что глава посольства в Норвегию, бывший посадник князя на Ладоге, Михаил Фёдорович, договорился с норвежцами обо всём. Улажены пограничные споры между финнами-саамами и карелой; и конунг Гакон, и сама госпожа Кристин — ей же ещё и двенадцати не было, собою же хороша, и здорова, и румяна, и волосы золотые — приемлют сватовство «конунга Александра из Хольмгарда» — так именовали норвежцы Александра. Дарами же конунга Александра и дарами сына его герцога Василья — жениха — премного довольны. Александр послал будущему тестю и нареченной невестке своей пять сороков соболей и столько же буртасских лисиц. Посадник ладожский извещал Александра, что вскоре вместе с ним выезжают из Трондхейма морским путём и послы короля Гакона — Виглейк, сын священника, и Боргар, рыцарь, дабы, мимо Котлина, Невою, Ладогою и Волховом, следовать в Новгород — Хольмгард. Предварительный брачный договор, а также и пограничный, и договор о союзе между Гаконом и Александром подписан: отныне Гакон — союзник Александру и Новгороду против шведов и финнов, Александр же даст помощь свою королю Норвегии против Авеля датского.
Главным, препятствием к сватовству и в глазах короля, и дворян его, и епископа трондхеймского было то — как сообщал затаённым письмом посланник, — что Александр якобы платит дань татарам. И Михаилу Фёдоровичу немало пришлось побиться над тем, чтобы доказать норвежцам, что только десятиною в пользу Орды и ограничивается вся зависимость Руси от монголов и что Александру и брату его, Андрею, удалось отстоять и право войны, и право мира, и право заключенья союзов, что но отнят и суд у великого князя Владимирского и что не обязан он отнюдь поставлять в войско Батыя, Сартака или Менгу хотя бы одного своего человека. Что же касается самого конунга Александра, то король Хольмгарда и вовсе ничего не платит ханам. Так что госпожа Кристин отнюдь не будет женою татарского данника. И в том Михаил Фёдорович, «рыцарь Микьян», дал руку.
«И вот теперь всё, всё пойдёт прахом!.. Восстание!.. — презрительно думал Александр. — Мнится ему, безумцу, что как на псовую охоту выезжают: рога, шум, ор, крик!.. Эх, власти моей над тобой нет!..»
На словах же он высказал брату мягкий попрёк в бесхозяйственности и расточительности. Тот вспылил:
— В нашем роду все щедры!.. Разве только батя один был прижимист. Вот и ты в него.
— А я так думаю, Андрюша: расточительный — то одно, а щедрый — то другое!..
— Вечно учишь! — рассердился Андрей. — Похвального слова от тебя не слыхивал!
— Как? А за белого кречета, что хану ты подарил?
— Да и то не без ругани!
— Стало, заслужил! — невозмутимо ответствовав Невский. — За кречета похвалил, а за кумыс Чаганов ругать буду!..
Андрей вскочил и забегал по комнате, время от времени останавливаясь и дёргая себя за тонкий и вислый ус, перечеркнувший тщательно выбритый маленький, подбородок.
— Хозяев много со стороны! Каждый проезжающий волен моих воевод, волостелей снимать, а своих втыкать.
Невский презрительно промолчал. Андрей ещё больше разжёгся.
— Ты проездом Генздрилу моего за что снял? — спросил он заносчиво.
— То моя отчина. Ответа перед тобой не даю. Снял, — значит, не годен: утроба ленивая, грабитель, негодяй, насильник. У себя на вотчине что хочу, то и молочу!.. И довольно про то! — отвечал старший.
Александра тоже начинал разбирать гнев.
— Ладно! — воскликнул Андрей. — То твоя отчина. А на Вятке? А на Волоке?
— То к Новгороду тянет!
— Вой оно что! — и Андрей даже присвистнул в негодованье. — Когда ты в Новгороде, то к Новгороду тянет! А как прогонят тебя купцы новгородские, сядешь у меня на Владимирщине, то уже другое поёшь: долой отсюдова, господа новгородцы!.. В батю весь!..
— И тебе бы неплохо!..
Андрей не сразу нашёлся что отвечать.
— Да ты не отводи, Александр! Я тебя в самом деле спрашиваю: зачем ты своих людей навтыкал, моих снявши?
— Сам ты просил об этом, — возразил Невский. — «Будешь, Саша, проезжать, — не чинись, накостыляй кому надо шею: таможник ли он, боярин ли, наместник ли из моих... И гони его прочь, коли негоден!..» Разве не говорил ты?
— Говорил. Но не говорил, что из своей дружины ставь.
— Добрых людей тебе ставлю. Мне самому те люди дороже плотников.
— Себе их и оставь. Мог бы и не военных ставить людей!
— Военный-то расторопнее, — попробовал отшутиться Александр.
Но Андрей ещё больше разжёгся. Видно было, как на его крутом лбу, над виском, прыгает жилка.
— Я давно хотел с тобой поговорить, — сказал он. — Устал я под рукою твоею ходить! Люди смеются...
— В каком ты это альманахе вычитал? — насмешливо спросил Александр и глянул на брата синими, потемневшими, как море в непогодь, очами своими.
— Не в альманахе, а все говорят: не знаем-де, кто у нас княжит во Владимире? Ты мостнику моему, купцу именитому, за что рыло в кровь разбил?
— Я мостнику — рыло? Какому? Когда?
— Акиндину Чернобаю... на мосту проезжаючи.
— Плохо ж ты знаешь меня! Стану я руки марать о каждую морду! Я слово ему сказал некое — и он вдруг кровью облился. Я тут ни при чём.
— Без своей опеки шагу ступить не даёшь... То «зачем пьёшь?», то «зачем...», — Андрей глянул на Дубравку и замялся. — То одно неладно, то другое! Знаешь, я ведь уже не маленький!..
— Хуже! — жёстко произнёс Александр. — Ты безрассуден. Кумыс, царевичем для твоей княгини посланный, псам на псарню отправил!
— Надоел ты мне с этим кумысом! Псы его лакали и будут лакать.
Александр поднялся: он весь был сейчас как бы одной сплошной волной гнева.
— Смотри, Андрей!.. Страшно слушать безумия твоего! Как бы крови твоей псы не налакались!.. Помни: я тебе не потатчик!..
— Не бойся. Не донесу! Сиди себе в своём Новгороде!.. Все знают: ты только на немцев храбрый... А тут...
— Что «тут»? Договаривай! — закричал Александр.
— А тут... у стремени Батыева до конца дней своих станешь ходить... да и нам велишь всем... да и детям...
И вдруг голос у Андрея пресёкся слезами, и, застыдившись этого, он отвернулся и отошёл в дальний угол.
И это сломало уже готовый рухнуть на его голову гнев Александра.
Невский молча глянул на Дубравку, покачал головою и почему-то на цыпочках, словно бы к тяжелобольному, подошёл к брату и обнял его за плечи.
— Ну, полно, безумец, — ласково проговорил он. — И что это у нас с тобою сегодня? Да ведь у нас с тобою и лён не делён!..
Разговор о татарах продолжался и после того, как братья помирились. Не открывая старшему ни сроков, ни ближайших своих мероприятий, великий князь Владимирский уже не скрывал от брата принятого им решенья помериться силами с Ордой.
— Не тянуть надо, а дёргать! Всё принести в жертву, и свалить!
И снова, сдержав гнев свой, Александр принялся объяснять брату, почему несвоевременно будет сейчас любое движенье против татар.
— Нельзя, нельзя нам против татар восставать! — говорил Невский, как бы вдалбливая это своё глубокое убеждение в голову брата.
— А почему? — заносчиво спросил Андрей, останавливаясь и вполоборота взглядывая на брата.
И в это мгновенье Дубравка искренне любовалась мужем. «Словно кречет...» — подумалось ей.
— А потому нельзя, — продолжал Александр, — что на Запад почаще оглядываться надо...
— Какую истину изрёк! — насмешливо воскликнул Андрей Ярославич. — Или я младенец!.. А что Запад? Германия вся в бреду...
— А Миндовг?
— Что ж Миндовг?.. Ты сам знаешь; с Данилом Романовичем...
— Данило Романович благороден. Перехитрить его мудрено. Но верою его злоупотребить можно... Так слушай же: Миндовг с Данилом Романовичем роднится, а сам корону от папы приемлет! Епископ кульмский, брат Гайдепрайх, он безвыездно — ты про это знаешь? — у него, у Миндовга, живёт. Вместе с ним и переезжает. Так ты сперва Миндовга от магистра, от Риги, оторви, а потом...
Но и здесь, хотя всем троим понятно было, что «потом», Александр предпочёл не договорить, а только многозначительно усмехнулся.
Андрей на этот раз не перебивал: ему и впрямь было внове всё, что говорил сейчас о Миндовге Александр. Однако ещё большие неожиданности услыхал он вслед за этим.
— Марфа, королева Миндовговая, даром что православная, — продолжал Александр, — но ты знаешь... — Тут Невский взглянул на Дубравку: — Прости, княгиня, за просторечие! Ведь она, эта самая Марфа, королева, почитай, открыто, на глазах у всех, живёт с Сильвертом, с рыцарем... А Миндовг — старая рысь! — ты думаешь, не знает про то? Знает! Только глаза закрывает. А чего ради, как ты думаешь? А того ради, что этот самый брат Сильверт у папы Иннокентия в чести. Что ни год, паломничает к престолу Петра. Хочет легатом быть... Ливонии и Пруссии!.. Вот почему Миндовг и видит, да не видит... А может, ты всё это уже слышал? — спросил Александр.
— Да нет, где мне знать! — с полуобидой отвечал Андрей, вздёрнув плечом. — Тебе виднее: у тебя ведь сто глаз, сто ушей.
— Побольше, — спокойно и чуть насмешливо поправил его Александр.
Андрей замолчал.
Александр незаметно посмотрел на Дубравку. Подобрав под себя ножки в бисером расшитых туфельках, княгиня сидела, храня молчанье и на первый взгляд даже и спокойствие, кутаясь в яркую, с тяжёлыми кистями, шёлковую шаль, которая закрывает её до колен.
Уже прохладно, и маленькие оконницы терема с цветными круглыми стёклами опущены наглухо. Слышно, как где-то ударяет время от времени в чугунное било усадебный сторож. Доносится ржание ярых, стоялых жеребцов из конюшен и грохот о деревянные полы их тяжких, кованых копыт...
Александра трудно обмануть: спокойствие княгини — только кажущееся, но её волнение выдаётся лишь тем, что краешек её нижней губы то взбелеет, слегка притиснутый зубами, то ещё больше зардеется, словно лепесток гвоздики.
«Какая же, однако, ты скрытная девчонка!..» — думает Александр.
И спор между братьями опять разгорелся.
— И как ты не хочешь понять! — гремит Александр. — Кабы татары одни! А то ведь татары — это... только таран! — Невский обрадован этим вдруг пришедшим уподоблением и повторяет его: — Таран! Чудовищный таран. И он уже было покоился, этот таран. А кто неё сызнова подымает его на нас? Кто его раскачать вновь хочет? Папа! Рим! Да ещё рижаны — божьи дворяны!.. Ты что же думаешь — зачем легат папский Плано-Карпини был послан к Куюк-хану аж до Китая?.. Ну, то-то же!.. А ты говоришь!..
У Андрея какое-то слово так и рвалось с языка.
— Эх, — сказал он, как бы досадуя, что не может открыться перед братом. — Сказал бы я тебе нечто, да ежели бы знать вперёд, что ты сам задумал, что у тебя в голове!..
Невский отделался шуткою:
— Ну, знаешь, у меня ведь одна только подружка — подушка, да и то не всякую ночь!
— Вот то-то и оно! — огорчённо подтвердил Андрей Ярославич. — Научился молчать и я!..
— Ну, это дело другое!.. И давай забудем, о чём мы тут и говорили... — сказал Александр.
Но Андрею трудно было отойти от их разговора. Глаза его блеснули.
— Только то? я напоследок должен сказать тебе, — воскликнул он, поднимая руку, — внук Мономаха Владимира поганое их стремя держать им не станет!..
Предвещанием и угрозой прозвучало ответное слово Александра:
— А я вдругорядь тебе говорю: я тебе не потатчик!.. О людях помысли, ежели уж своя жизнь тебе за игрушку!..
Внезапно третья сила, дотоле таившаяся, вошла в их битву: Дубравка отбросила шаль и выпрямилась.
— А я так думаю, — дыша гневом и гордостью, сказала она, оборотясь лицом к деверю. — Уж если — саван, то царская багряница — лучший из саванов!..
Лицо Андрея озарилось радостью от внезапной поддержки и гордостью за жену.
Александр Ярославич одно мгновенье молча смотрел на неё, а потом гнев, которого уже не было у него силы сдержать, потряс его с головы до пят.
— А я так думаю, княгиня, — вскричал оп, — ты не Феодора, а Андрей твой не Юстиниан!.. Багряница! Царская багряница!.. — издеваясь, передразнил он Дубравку. — Не была ты в Орде! Тогда посмотрела бы, в каких багряницах княгини наши — и муромские, и пронские, и рязанские, и черниговские, да и китайского царя царей дочери, — в каких они багряницах на помойках ордынских кости обглоданные у псов выдирают!.. Стыдись, княгиня!..
И, не попрощавшись, Александр покинул покои брата.
Первого татарина — как переправлялся он через Клязьму, держась за хвост лошади, — увидал пастушок. Мальчуган сидел на бережку, на травке, посреди ракитового куста, и делал себе свирель из бузины. Как хорошо, как жалостно запела она! Отрок радовался. Это уж не для коров, не для стада, — в такую можно сыграть всё, что вспадёт на? душу.
Стоял полдень. Зной пригнетал к земле. Завтра — Борисов день. Престольный праздник в Духове. Девки будут завтра упрашивать и всячески ублажать: «Сыграй ты, Олёшенька, сыграй ты, млад отрок милой, какую хочешь песенку, а мы хоть поплачем...»
Есть ли что на свете жалостнее, и чище, и прозрачнее, чем бережно-заунывный звук пастушьей свирели? Жалейкою недаром прозвали её в народе: жалеет она человека!
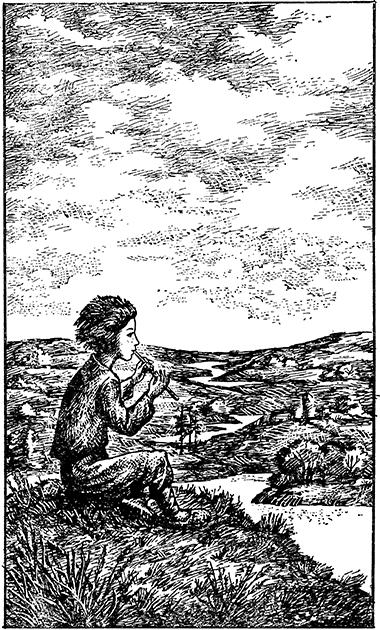
...Играет пастушок на пригреве солнышка — и уж не он сам, а отроческая душа его выпевает, и уж у самого полнятся слезою глаза: плохо стало видать и деревья, и речку, и облака — мреет и зыбится всё... Все, как есть, понимают его сейчас: и берёзка, под которой сидит, и сосны, и солнышко, и речка Клязьма, и облако, и коровы, и старый пастух Рубано?к. Вон сидит он на зелёной косматой кочке, согбенный, режет узорами палку, и клонится, клонится к коленам старая его, измождённая спина!.. А вот услыхал, как играет Олёша, — и бодрится и распрямляется!..
Поёт и вздыхает волшебная дудочка пастушка Олёши. Даже каменные глыбуны, красные и пёстрые, что лежат на отмели, до половины в воде, лоснясь и отблёскивая на солнце, — даже и они задвигались!.. Да нет, то вовсе не камни, то Олёшины коровы, от зноя залёгшие в воду...
Вдруг — что это? — косматая, злая морда конская сивая — этаких копей и не бывает у мужиков! — словно бы вынырнула из воды, посреди мутной Клязьмы. Плывёт копь, плывёт! Напряжённо вытянутая шея, словно бы тонет конь, — так всегда ведь плавают лошади. Ближе, ближе... и вот, закинув передние копыта на обломившийся зелёный берег, и ещё раз закинув, обтекая и лоснясь мокрою шерстью на солнце, встал на берегу сивый конь и храпнул ноздрями, пробуя ветер-..
Пастушок отстранил от губ жалейку и, не выпуская её из рук, приподнялся и попятился подальше в кусты...
Но тут от хвоста конского оторвался некий старик, весь мокрый, в чёрном чепане, в шапке холмом, подпоясанный опояскою, и, хлюпая в сапогах водою, пошёл на Олёшу, что-то приговаривая на чужом языке...
Олёша хотел встать да убежать, но было поздно: старик его заметил.
Олёша признал в нём татарина. Насмотрелся он их! Вон тут, недалеко, над Клязьмой, их целое стойбище.
Что говорил ему кустобородый, редкоусый старик, того Олёша понять не мог, но только видел, что он за дудочкой его потянулся.
— Да иди ты!.. — выкрикнул сердито Олёша и прижал свирель к груди.
Морщинистое, тёмного лоска лицо татарина исказилось. Он выкрикнул какое-то страшное слово — должно быть, ругательное — и кинулся на мальчугана, сгрёб его за русую чёлку, опрокинул навзничь на траву и выхватил из рукава коротенький кривой нож.
Кустобородое лицо закрыло перед Олёшою небо. Зловонное дыханье обдало его. Он крепко сжал дудочку в руке. «Сломаешь, а не отымешь!» — мелькнуло у него.
Татарин за волосы запрокинул ему голову и ударил ножом в горло...
Отворотив в сторону лицо от брызнувшей вверх струнки и прижмурившись, татарин дорезал мальчика — привычно, как резал барашка в своём аиле.
— Дза (хорошо)! — прохрипел он, подымаясь и отирая нож о полу стёганого халата.
Он крикнул гортанным голосом на ту сторону Клязьмы, взмахнул рукой, и переправа татарской конницы началась.
Карательное вторжение на земли великого князя Владимирского, Андрея Ярославича, возглавлено было царевичем Чаганом. Этот юноша был уже тем одним старше и хана Неврюя, и хана Алабуги, что он являлся как бы чрезвычайным представителем великого хана Менгу при Батые. И хотя своевольничать в Золотой Орде и в землях, подвластных Батыю, царевич Чаган[41] отнюдь не мог, ибо и сам великий хан страшился Батыя, тем не менее к слову Чагана весьма прислушивались в Поволжском улусе. И царевич бросил своё слово на ту чашу исполинских колеблющихся весов, на которой стояло: «Война».
Чагана поддержал Берке. А что же Батый? А Батый, уже умирающий, чьи силы его врач-теленгут поддерживал лишь приёмами пантов и чей последний час отсрочивался лишь еженедельными кровопусканьями, — Батый не нашёл в себе силы, да и желанья, воспротивиться этому карательному нашествию. Желанья же воспротивиться не нашёл он потому, что и его ужаснуло то святотатственное — на глазах у всех — поруганье священного напитка монголов, которому подвергнул его князь Андрей.
Для хозяина Поволжского улуса, так же как для всех его нойонов, батырей и наибов, стало ясно, что сей оскорбительный поступок знаменует собою и то, что князь Владимиро-Суздальской земли не страшится неизбежно долженствующей последовать за этим грозной кары.
И старый Бату даже и пальцем не пошевельнул бы — проси его на коленях хотя бы и сам Александр, — чтобы предотвратить нашествие.
Поэтому-то Александр Ярославич, предвидевший всё это, и кинулся с целым обозом слитков серебра, шелков, диксмюндских сукон, и собольих, и котиковых халатов для жён Сартака и присных его — туда, в донские степи, к сыну Батыя.
Сартак был христианин. Сартак был ему побратим. Наконец — и это было важнее всего, — сын Батыя главным образом на Александра и рассчитывал со временем опереться, если только возникнет кровавая распря между ним и Берке из-за престола, который вот-вот должен был опустеть. Ради этого Сартак смотрел сквозь пальцы даже и на то обстоятельство, что Александр, как доносили Сартаку тайные его соглядатаи, смещает, где только можно, старых нерадивых воевод, наместников и волостелей и поставляет вместо них непременно кого-либо не своей ближайшей дружины, людей воинских.
— Для чего ты это делаешь так, аньда? — укоризненно спросил однажды Невского за чашей вина сын Батыя. — Вот дядя твой Святослав хочет всадить в моё сердце скорпиона подозрений против тебя. Разве воин лучше станет собирать подати?..
— О, аньда! — отвечал Невский. — Мои мышцы — это твои мышцы!
И, многозначительно посмотрев в блёклое лицо Сартака, Невский протянул к нему золотую чашу, и они чокнулись.
Да! Только Сартак мог спасти Владимирщину, только Сартак, если не успел там непоправимо напакостить дядюшка Святослав, который со своим сыном Митей невылазно сидит в Донской орде вот уже почти полгода, всячески домогаясь возврата ему Владимирского княжения
Князем правой руки у Чагана был хан Неврюй, князем левой руки — хан Алабуга, авангард же, именуемый манглай, вёл хан Укитья.
Под ними было тридцать десятитысячников — темников, среди которых были такие, как Муричи, Архайхасар Дегай, Хотань, Бортэ, Есуй, Буту из рода Наяки и Чжаммэ из рода Хорола!
Ладони татарских батырей горели от неутолённого вожделенья к рукоятям сабель, к персям русских пленниц, к русским соболям.
«Не оставить в живых ни единого дышащего! — было повеленье Берке, скреплённое печатью Чагана. — Жёны и девицы русских, годные в жёны, пойдут в жёны, годные в рабыни станут рабынями». Ибо так сказал в своей «Ясе» Потрясатель земель и царств, оставивший после себя непроизносимое имя: «В чём наслажденье, в чём блаженство монгола? Оно в том, чтобы наступить пятою на горло возмутившихся и непокорных: заставить течь слёзы по лицу и носу их; ездить на их тучных, приятно идущих иноходцах; сделать живот и пупок жён их постелью и подстилкою монгола; ласкать рукою, ещё тёплой от крови и от внутренностей мужей и сыновей их, розовые щёчки их и аленькие губки их сосать».
И этому завету Чингиза неукоснительно следовало многочисленное полчище Неврюя, Алабуги и Чагана, вторгшееся на Владимирщину.
Армия татар делилась на две: на армию разгрома, то есть ту, которая непосредственно воевала, и на армию, предназначенную для захвата, для угона рабов и для поисков продовольствия. И только после выполнения всех этих задач вторгшимся возвещался приказ о поголовной резне невооружённого мужского населенья, причём надлежало пользоваться одной из двух мерок: всех, кто дорос до оси тележной или превысил ростом рукоять нагайки, — всех таковых повелевалось истреблять. Это означало, что и не всякий двухлетний мальчуган мог уцелеть от этой резни.
В живых оставляли из мужчин только тех, кто отобран был на угон в рабство, да ещё ремесленников и искусников, да ещё монахов, попов и вообще церковных людей. Ибо церковь и духовенство, независимо от веры — христианской ли, или буддийской, магометанской, да и какой бы то ни было, — объявлены были «тарханом» всё тою же «Ясою» Чингисхана.
Впрочем, тарханный ярлык от Батыя наряду с церковью имела и переславльская усадьба Невского — Берендеево.
Это был подарок Батыя своему любимцу. Вручая Александру тарханную грамоту — а произошло это вскоре после возвращения обоих братьев из Великой орды, два года тому назад, — Батый сказал со вздохом:
— Я хотел бы тебя, Искандер, а не князя Андрея видеть на престоле Владимирском. Но Менгу судил иначе — да будет имя его свято! — меня же не всегда слушают. Я уже стар! А ты ведь сам знаешь, что верблюд, когда он изранил горбы свои или стёр пятки, — кому он нужен тогда?
Невский стал его утешать.
Однако, после этой мгновенной слабости, голова Батыя вновь гордо поднялась, и, гневно прихлопывая во время речи одряблевшими щеками, как хлопают паруса, утратившие ветер, старый хан произнёс:
— Ничего, Искандер, они ещё боятся меня! Во всей казне моей ты и сам не мог бы более для себя ценный подарок выбрать, чем вот этот ярлык! Кто знает! — быть может, этот ничтожный свиток выбеленной телячьей кожи, с моей печатью, он сохранит твою высокодостойную жизнь от меча тех монголов, которые захотят её прервать. Отныне дом твой — убежище и тархан!.. И всякий, кто вступит под его кров, убережётся от меча и аркана... Только не вздумай собрать туда весь народ свой, русских!.. — добавил, лукаво усмехаясь, Батый. — А то ведь я знаю тебя!..
Александр тоже улыбкой, но только печальной, ответил старому воителю.
— Да, Бату, — отвечал он, — никто более, чем ты, не знает меня!.. И я впрямь не удержался бы от искушения укрыть в час бедствия и весь мирно пашущий народ мой от истребительного меча и аркана под кров шатра моего... Однако где же найти такой шатёр? Народ русский столь многочислен, что разве только один шатёр — небесный — способен вместить его!..
Батый, восхищенный, приказал позвать скорописца и предать письменам этот ответ Александра.
— Эх, Искандер, Искандер!.. — произнёс вслед за тем старик, сокрушённо качая головою. — Почему ты не хочешь сделаться сыном моим, опорой одряхлевшей руки моей и воистину братом сына моего, Сартака? Он слаб. В нём страшатся только моего имени. Ему хорошо с тобою и спокойно было бы!.. И я приложился бы к отцам своим успокоенный, ибо я уже видел сон, знаменующий близость смерти. Согласись, Искандер!..
И, пользуясь тем, что они были только вдвоём в шатре Батыя, старый хан возобновил ещё раз своё предложенье Невскому, чтобы он взял себе в жёны монголку из дома Борджегинь, — то есть из того самого дома, из которого происходил Чингисхан, — помимо прочих жён и наложниц.
Батый сделал при этом знак, чтобы Александр переместился к нему, вместе со своей ковровой подушкой, поближе, чтобы удобно было шептать ему на ухо.
Невский повиновался, и скоро ухо Александра, обращённое к Батыю, запылало от тех непристойных расхваливаний разных скрытых достоинств и статей принцесс из дома Борджегинь, коими сопровождал старый сластолюбец имя каждой принцессы.
Александр краснел и молчал.
— Что?.. Нет? И эта не нравится? — восклицал, изумлённо отшатываясь от Александра и взглядывая на него, Батый. — Но чего же тогда ты ищешь, Искандер? И каково твоё сужденье о красоте женщины? Ну, тогда вот тебе ещё одна: Алтан-хатунь. Хочешь, я прикажу позвать её: созерцая её, ты будешь таять, как масло!..
И у старика у самого растаявшим маслом подёргивались глаза. Вдобавок к монголкам Батый предлагал Невскому ещё и китаянок, дочерей последнего китайского императора, удавившегося в своём дворце в тот миг, когда раздался топот монгольских воинов, ворвавшихся во дворец.
— Эргунь-фуджинь! Дочь царя хинов, — закрывая глаза и причмокивая, говорил Батый. — Её ножки подобны цветку белой лилии и столь малы, что каждая вместится в след, оставленный копытцем козы. Э!..
И старик тыкал Александра в бок отставленным большим пальцем и испытующе смотрел на него.
Ответ Александра был прост.
— Тебе благоугодно приказать мне говорить, — отвечал он, — и вот я говорю. Ты знаешь, что я женат. Ивера народа моего запрещает иметь более одной жены. Не должен ли в первую очередь князь народа исполнять «Ясу»?
Батый только засмеялся на это.
— Твоё суждение вызывает смех, — сказал он. — Мы не заставим тебя отступать от веры отцов твоих. Я не понимаю этого сумасброда Берке, который хочет, чтобы все поклонялись одному Магомету. Веры все равны, как пальцы на руках, — учит «Яса». Пусть у тебя будут все эти жёны. Кто же мешает княгине твоей остаться главной супругой, подобно моей Баракчиле? Согласись, Искандер!.. Ты знаешь, что мне — скоро умереть. Стало быть, мне незачем допускать, чтобы ложь оседала на устах моих, готовых сомкнуться навеки! И вот я говорю тебе: после Священного воителя, блаженной памяти деда моего, кто способен пронести до океана франков его девятибунчужное знамя, кроме меня одного? Только — один: и это ты, Искандер! Я не знаю государя и владетеля, равного тебе! Берке — старый ишак! Согласись, о, только согласись, Искандер!.. А тогда... — Тут Батый вдруг понизил голос, и чуть не в самое ухо Невского произнёс: — А тогда мы прикажем этому Берке умереть, не показывая своей крови.
Помолчав немного, страшным и горьким смехом рассмеялся старый хан.
— О-о, я знаю, Искандер, — протяжно произнёс он, — что едва я уйду путём всей земли, как на другой же день Берке спровадит жизнь сына моего Сартака. Это уж так!.. И ты это знаешь, Искандер!.. Менгу? Вот эта самая рука вытесала им этого повелителя! Но и этот не умедлит, в благодарность мне, отравить Сартака, едва я умру... Слепнущая старость многое, Искандер, прозревает — увы! — слишком поздно!.. Нет! Потомству моему не владеть наследием Джучи!.. Так слушай же, Искандер!
Тут глаза старого Вату засверкали, он распрямился, изветшавшая мышца его правой руки вновь обрела силу: он властно притянул голову Александра к своей хрипло дышащей груди и сказал ему на ухо — властным и как бы рыкающим шёпотом:
— Вот согласись только, — и пред курултаем всех князей и нойонов моих и пред всеми благословенными ордами моими я отдам тебе в жёны душу души моей, дочерь мою. Мупулен!.. И перед всеми ими то будет знак, что это ты, возлюбленный зять мой и наречённый сын, а не кто иной, приемлешь после меня и улус мой. Ты возразишь: «А Сартак?» Он знает и сам, сколь мало способен он дан путь народ свой и подвластные ему народы туда, на Запад, чтобы довершить пути отца своего. Он страшится того дня, когда он осиротеет и его самого подымут на войлоке власти... После моей смерти ты, ставший моим зятем, дай ему хороший улус. И только. И это всё, в чём ты должен поклясться мне! Я знаю: ты, даже и с врагами, чужд вероломству!.. Ты не захочешь искоренить на земле побеги и отпрыски того, кто держал тебя, князя покорённых племён, возле своего сердца и столько раз спасал тебя!.. Согласись, Искандер, согласись, — и тогда тебе предстоит совершить на этой планете ещё большее, чем совершил великий дед мой, чем совершил я: ибо ты сольёшь воедино два величайших и храбрейших народа — народ монгол и народ рус. И тогда — кто будет равен тебе во вселенной?! Сейчас ты получил от меня тарханный ярлык для себя и для своих владений, и вот ты радуешься. А тогда ты сам будешь, с высоты миродержавия, раздавать эти тарханные ярлыки царям и князьям — тем, что догадаются вовремя возложить на себя пояс повиновенья!
Так говорил Невскому старый Батый два года назад, вручая ему тарханный ярлык на Переславль-Залесский и на его личную усадьбу — Берендеево. Вот почему теперь, получив у Сартака, под Воронежем, известие и о восстании брата против Орды, и о нашествии татар на Владимирщину, Александр Ярославич во главе дружины своей мчался к себе в Переславль-Залесский, всё ж таки до известной степени спокойный за жизнь Андрея и Дубравки, так же, впрочем, как и за жизнь любого, кто успеет убежать от татар в пределы его переславльской вотчины, ограждённой тарханным ярлыком самого Батыя.
А меж тем миллион конских копыт уже грянул о земли его переславльской вотчины! Исполинские клещи татарской армии уже сомкнулись вкруг Переславля-Залесского.
...Как только старый татарин, зарезавший пастушка Олёшу, дал своим знак, — тотчас же, взмахом плётки хана Укитьи, авангард был двинут на переправу через Клязьму. Глядевшему издали показалось бы, что это начался многовёрстный, необозримый, чёрный оползень её берегов. Стоял только глухой гул и топот, да бултыханье, да плеск воды: лавина азиатской многоплеменной конницы сползала, и рушилась, и рушилась в Клязьму. А скоро и плескать стало нечему: реки не стало, конь заполнил её, конь вытеснил воду!..
Крысы так в чумной год телами своими, переправляясь, заваливают реки!..
Однако даже и при такой гущине и плотности хода, когда стремя одного всадника прочерчивало подчас кровавую борозду вдоль бока лошади другого, переправа совершалась без единого взвизга конского, без голоса человеческого, без единого звяка.
А было чему позвякать-побрякать на любом татарском воине! Сабля, лук и стрелы — в двух, а у иных и в трёх колчанах, да предметы походного обихода — в кожаном мешочке у пояса: кремень, кресало, терпуг — подпилок для оттачиванья стрел, шило и дратва, игла и нитки, ситечко для процеживанья грязной воды.
В другом мешочке — непременный для монгольского воина запас: сухой овечий сыр, вяленая говядина и питьевая чашка. А у седла, под кожаным прикрылком, — также каждому воину обязательный топор.
У копейщиков были копья с заострёнными крюками для срыванья с седла. И ещё целые тумены были сплошь вооружены укрючинами с затяжною петлёю, которая на всём скаку захлёстывалась либо на шее вражеского всадника — и тогда его, как бурею, срывало с седла, и, поверженный, хрипя багровой шеей, волочился он за копытами татарского коня, — либо охлёстывала эта петля шею лошади, и тогда всей тушей, на полном скаку, рухнет, несчастная, оземь, губя всадника и подчас ломая себе шею.
Были среди конной армии царевича Чагана и особые тысячи — поджигателей, вооруженье которых состояло из стрел и дротиков, обмотанных паклей, смоченной нефтью. Подпалив стрелу или дротик, их запускали в город, и, разбрызгивая огненные капли, дымя и пылая, раздуваемая собственным лётом своим, вонзалась огневая стрела в кровлю, в стреху, да и во что бы то ни было деревянное, и вспыхивали в осаждённом граде тысячи пожаров.
Всё это воинское вооруженье, убранство, снаряд, обязательные для воина, подлежало строгой проверке. И «Яса» Чингисхана повелевала предавать казни рядового бойца, если ун-агаси — десятник — нашёл у него в чём-либо неисправность. Если же ун-агаси просмотрел или спотворствовал, то его самого предавал казни тот, кто стоял выше его, — гус-агаси, иначе говоря, сотский.
Перед походом даже наивысшие военачальники — ханы и принцы крови — не брезговали вызвать из рядов, перед строем, заподозренного почему-либо в неисправности воина и собственноручно залезть в его вещевой мешок для проверки. И горе было изобличённому в недостаче! Хотя бы кремня или же иголки одной недоставало — всё равно: торопливо и покорно снимал с себя перед фронтом всё воинское снаряженье и одеянье провинившийся воин, целовал землю у ног своего ун-агаси и становился на колени. Двое сильных воинов выходили из рядов и, захлестнув тетивою лука с двух сторон шею несчастного, тянули тетивную жилу в две стороны.
А затем той же участи подвергался и начальник десятка.
Ибо сказано в «Ясе»:
«Во время мира и среди народа своего ты должен быть подобен смышлёному и молчаливому телёнку, но во время войны будь как голодный сокол, который, едва снимут с него колпачок, немедленно принимается за дело с криком».
У передовых туменов — тех, кто был тараном армии, — кони были защищены кожаными попонами и стальными налобниками. Латы на всадниках были из полированных пластинок кожи, нанизанных ряд над рядом, подобно чешуе. Как чешуя на сгибаемой рыбе, они топорщились, когда монгол, уклоняясь от сабельного удара, склонялся и припадал к шее лошади. И эта кожаная чешуя, вздыбясь, служила татарину не худшей, чем панцирь, защитой от удара мечом или саблей. А иные ещё натирали перед битвой эту кожаную чешую салом, и тогда наконечник ударившего копья скользил. Однако и пластины из стали и серебра, расчищенные до зеркального блеска, там и сям покрывали доспехи монголов — тех, кто побогаче. Сверкали на солнце стальные шлемы, наконечники, наручни, бляхи и пряжки.
Воины же, плохо вооружённые, двигались сзади — дорезывать.
Удушливый запах конского пота, мочи, бараньих полушубков, кошмы?, кожаных доспехов, закисших ундырей с кумысом и нечистых, годами не мытых человеческих тел вытеснил окрест Клязьмы и запах хвои и березняка, и запах цветущей липы и свежескошенного сена.
Как бы задыхаясь и вскинув к небу в скорбном бессилии белоснежные руки свои, стояли русские берёзки. «Да что же это? Да докуда же это будет твориться вокруг нас? — словно бы кричали безмолвно они. — А русские, русские где же наши?!»
В Духове затенькала деревянная колоколенка. Царевич Чаган усмехнулся замедленной улыбкой. Тугое, лоснящееся, безбородое и безусое лицо его слегка полуоборотилось, словно шея была тугоподвижпой, в сторону хана Неврюя, который, тоже на копе, стоял по правую руку царевича.
На обоих ханах были золото-атласные шубы нараспашку, несмотря на июльский зной, и усаженные драгоценными каменьями малахаи.
Царевич так и не произнёс того, что собирался сказать князю правой руки, — тот понял его без слов. И Чаган понял, что его поняли, и не стал утруждать себя произнесением слова.
Лицо старого хана, в задубелых морщинах, на которых, словно куски седого лишайника, торчали клочки бороды, осклабилось.
— Петуху, когда он мешает спать, перерезают горло!.. — проворчал Неврюй и, подозвав мановеньем пальца одного из нукеров, послал его зарезать звонаря.
Теньканье колоколенки скоро оборвалось.
И тогда Чаган произнёс:
— Этот ильбеги Андрей спит крепко!.. И не от колокола ему предстоит проснуться!.. Мы захватим его врасплох. Как будто упадём к нему в юрту через верхнее отверстие!.. Мудр Повелитель — не Александру дал он великое княженье! А этот Андрей — кроме как на соколиную охоту да на облаву, пет у него других талантов!..
И Неврюй подтвердил это, рассмеявшись со сдержанной угодливостью.
— Дза! — сказал он. — Ложась спать, не отстёгивай колчана!..
Беседуя с царевичем, хан Неврюй не переставал вглядываться туда, где глыбились зелено-сизые ветлы, обозначавшие причудливое теченье Клязьмы: вся ответственность за этот карательный поход, а не только за одну переправу, — он знал — лежала на нём.
К счастью для хана, перевал через Клязьму сорокатысячного авангарда шёл беспрепятственно, без потерь. Броды и мелкие моста были разведаны ещё прошлым летом, да и сейчас двое услужливых русских: один — мостовщик, а другой — конский лекарь, собравшие эти сведения о переправах под Владимиром, были тут, на месте, в распоряжении огланов, кои ведали переправой, и всякое место, пригодное для таковой, было заранее означено двумя рядами кольев, набитых в вязкое, илистое дно Клязьмы.
Поэтому на сей раз татары отказались от обычных приёмов переправы. Нечего говорить, что не было здесь ни тех плотов из камыша или из брёвен, на коих переплывало по сто и более человек, ни огромных округлых кошелей из непромокаемой кожи, наподобие лепёхи, сложа в ёмкие недра которых всё, что надлежало из воинского уряда, и усевшись поверх, полуголые монголы без потерь переплывали даже и через Волгу. Плавучие эти кожаные вещевые мешки либо привязывались к хвосту плывущего коня, если речка была не широка, либо татарин огребался, сидя на нём, каким-либо греблом. На сей раз даже и маленьких кожаных кошелей не виднелось у репицы конских хвостов, — воины, в полном боевом урядье, даже не слезали с коней: «Клязьма — разве это Аргунь?» Однако уже несколько человек поплатились жизнью за это презренье к реке: соскользнувши с мокрой лошадиной спины, они — или не умея плавать, или задавленные неудержимым навалом коней — быстро пошли ко дну. Это означало, что будет казней весь десяток. Учёт бойцов у монголов был поставлен по десятичному счёту, так что нечего было и помышлять предводителю авангарда, хану Укитье, скрыть гибель троих утонувших от Неврюя, а тому — от царевича Чагана.
Хан Укитья, всегда как бы величественно-полусонный, а теперь с почерневшим от испуга лицом, нёсся на своём саврасом коне для доклада Неврюю.
Встречные конники, завидя Укитью, загодя соскакивали с лошадей, становились обок его пути и, едва только хан Укитья равнялся с ними, падали ничком, показуя, что они целуют прах, попираемый копытами его коня. Но и самому хану Укитье надлежало в свою очередь целовать прах под копытами коня своего начальства, к чему он и приступил поспешно, едва лишь доехав до холмика, на коем стоял хан Неврюй.
Этот надменно принял поклонение младшего, но так как выше его стоящий царевич Чаган виден был на своём белом копе тут же неподалёку, то ему, Неврюю, полагалось, ничего не отвечая младшему, подъехать к тому, кто над ним, и пасть ниц перед Чаганом. Неврюй так и сделал.
Укитья же остановил коня поодаль.
Грозное лицо Чагана обратилось к нему.
— Приблизься, вестник беды! — произнёс царевич.
Хан Укитья, подламываясь в ногах, с посиневшими от страха губами и хрипло дыша, словно бы уже тетива затянулась на его шее, приблизился к царевичу, бросив повод коня одному из телохранителей, и рухнул перед Чаганом на колени. При этом разноцветный свой шёлковый пояс старик повесил себе на шею, обозначая этим полисе отдание себя на волю принца.
И это смирило гнев Чагана. Он приказал старому полководцу рассказать подробно обо всех обстоятельствах, при которых утонули те трое.
Укитья начал рассказ — рассказ, даже и в этот миг построенный витиевато, наподобие некой былины, и Чаган стал слушать его с явным наслажденьем, словно бы импровизацию певца на одном из придворных торжеств.
По рассказу Укитьи выходило, что во всём виноваты были те двое русских, на чьей обязанности было разведать броды через Клязьму и обозначить их справа и слева. Заострённые жерди, натыканные поперёк речки, не выдержали на левом крыле напора переправлявшейся конницы и упали. Таким образом граница безопасного брода нарушилась, и вот трое потонули.
Вскоре Акиндин Чернобай и Егор Чегодаш — мостовщик и коневой лекарь — предстали перед Чаганом.
Чегодаш слегка поотстал, как младший, и остался в кустах, а купец Чернобай был двумя стрелоносцами подведён к самому коню царевича. Мостовщик упал ниц и долго пребывал так — лбом в землю, отставя грузный зад в синих бархатных штанах. Налетевший ветер закинул ему на спину подол красной рубахи, обнажив полоску спины, однако Чернобай не посмел завести за спину руку, чтобы оправить рубашку, ибо знал, находясь уже целых двенадцать лет в тайном услуженье татарам, что это движенье его будет сочтено знаком неуваженья, а быть может, даже и колдовством, а потому уж лучше было оставаться недвижным.
По знаку Чагана двое стрелоносцев подняли Акиндина Чернобая на ноги.
— Где ты был, собака? — по-монгольски спросил царевич трясущегося купца.
Всегда находящийся близ царевича толмач насторожил уши. Однако услуги его не понадобились: русский купец, как, впрочем, и многие из торговцев, постоянно имевших дело с татарскими таможниками да и торговавших в самой Орде, ответил ему по-монгольски. И это спасло ему жизнь.
Чернобай стал объяснять, что не только рядом кольев, но ещё и верёвкою поперёк Клязьмы обозначили они с кумом границы брода. Однако батыри из молодечества нарочно свалили жерди и утопили верёвку, наезжая конями. Оттого и стряслась беда. А коли виноват чем — казните. Он же, Акиндин Чернобай, служил и ещё послужит.
Чаган из-под опущенных ресниц тяжёлым взглядом глядел на потное лицо Акиндина. Затем лениво поднял тяжёлую плеть и ударил его плетью по лицу. Багровый след тотчас же вспух наискосок жирной щеки купца. Акиндин вскинул было руку — прихватить щёку, но тот час же и отдёрнул. Только слеза выкатилась из глаза. И это его смиренье тоже понравилось монголу.
— Ступай, собака, — сказал он, и отвернулся, и стал смотреть в сторону переправы.
Акиндин Чернобай побежал к той гривке леса, где отстал от него Чегодаш. Колдун выступил к нему навстречу из-за кустов, за которыми стоял.
— Ну что, кум? Как?.. — спросил он. — А я ведь пошептал тут малость. Чего дашь? — спросил он и по-озорному блеснул глазами.
Ни слова не отвечая, купец сунул ему кулаком в нос так, что Чегодаш чуть не свалился с ног и кровь закапала у него из ноздрей.
Царевичу Чагану наскучило смотреть на бесконечную переправу, и он отъехал, сопровождаемый медиком-теленгутом и гадальщиком-ламою, к своим шатрам, разбитым в березняке. Шатры были из ослепительно белого войлока с покрышкой из красного шёлка. Их было семь. Один — самого царевича. Другой — для стражи. Пять остальных кибиток — для жён с их прислугой. В одной помещалась главная супруга царевича — Кунчин; в другой — другая супруга — Абга-хатунь, третьей — третья — Ходань; в четвёртой — четвёртая, бывшая дочерью китайского императора, — Эргунь-фуджинь; пятая кибитка была предназначена для Дубравки.
Бедная Дубравка и не подозревала, что для неё уж и кибитка готова! Переодетая княжичем, с косичками, подобранными тщательно под круглую, с золото-парчовым верхом и собольей опушкой, шапку, сидя в седле по-мужски на золотисто-гнедом иноходце, великая княгиня Владимирская, стремя в стремя со своим супругом, взирала с холма боровой опушки на движенье татар.
Князь Андрей, уже недосягаемый для праздного и суетного, сидел на своём кабардинском аргамаке — сером, в яблоках, — одетый в серебряную кольчугу, поверх которой накинут был алый короткий плащ.
Князь был ещё без шлема; лицо его казалось багровым. Время от времени чувство непередаваемого ужаса опахивало его, и князь боялся, что окружавшие его воеводы, дружинники да и сама Дубравка знают об этом.
Однако же немалый навык походов и битв под водительством брата помогал ему и сейчас быть или по крайней мере казаться на высоте своего положенья. Главное же было в том, что на него взирали сейчас тысячи людей с тем беззаветным упованьем, с каким воины взирают на вождя перед битвой.
Тогда у полководца, пускай до того и несмелого, вдруг вырастают крылья.
Так было и с братом Невского. Как бы в некоем приливе полководческого ясновиденья, Андрей Ярославич спокойным, решительным голосом, которого не узнавал сам, отдавал последние распоряженья перед битвой. И старый отцовский воевода Жидислав — красивый, струйчатобородый, горбоносый старик, высившийся конь в конь с князем, почтительно и со всё более возрастающим доверием принимал эти распоряжения Андрея, с немалым удивленьем убеждаясь, что даже он, Жидислав, ничего бы не смог в них ни отменить, ни исправить.
И, чувствуя это, Андрей Ярославич всё более укреплялся и успокаивался.
Нашествие полчищ Неврюя было своевременно узнано князем Андреем. Донесли ему и похвальбу ордынского принца: «В котлах мы увариваем наиболее непокорных!»
Андрей, когда ему стало известно об этом от захваченного в плен татарского разведчика, только рассмеялся и отвечал во всеуслышанье:
— А у нас так говорят, у русских: «Не хвались подпоясавшись, а хвались распоясавшись!..»
Радостный, приглушённый смех, понёсшийся по рядам дружины, показал князю, до чего же вовремя упало на сердце воинов это удалое слово. И Андрей Ярославич добавил ещё громче, ещё удалее:
— Слышите, богатыри? В котлах нас грозится уварить поганая рожа татарская!.. Навыкли баранину свою варить!.. Ничего, сами мясом своим поганым котла отведаете сегодня!
Ответом был грозный, рокочущий гул, далеко отдавшийся в тёмном бору, где укрыт был княжеский большой полк Андрея.
Андрей Ярославич понимал, что сила татар — в коннице и что слабость наша — в нехватке этой конницы. Он видел, что сила паша — в пехоте.
Он так и сказал большим воеводам своим на полевом военном совете:
— Пехота — надёжа моя! Коня где ж теперь взять, мы — не кочевые! А на работного конягу, на пахотного, нагромоздить мужиков — какая это конница будет! Будем их, татар, нажидать на себя!..
Так и сделали. Все пятеро больших воевод князя Андрея: воевода сторожевого полка — Онуфрий Нянька, сын того самого Няньки, что погиб от Батыя, обороняя Москву и Коломну; затем правой руки воевода — Онисим Тертергонич, большого полка — Жидислав, левой руки — Гвоздок и, наконец, затыльного — он же и засадный — полка, Егор Мстиславич, — все пятеро больших воевод одобрили и выбор места, где князь задумал встретить татар, и расстановку полков, и предложенный князем способ боя.
Замысел князя был прост. Ярославич в своих расчётах исходил как раз из подавляющего обилия конницы у татар, из недостатка её у нас и, наконец, что сильны мы пехотой.
Место для полков было выбрано примерно в полуверсте от предполагаемой татарами переправы. От самой Клязьмы оно шло на изволок, представляя собою перебитую островками леса отлогую холмовину, изрезанную овражками. И этот постепенный, начиная от Клязьмы, взъём, и овражки, и, наконец, утюги леса, разбросанные по холмовине, — всё в расчётах Ярославича должно было способствовать как бы разлому на куски и замедленью потока татарской конницы. Ей — так рассчитал князь — негде было набрать разгону. И не надо было давать ей как следует развернуться: надлежало смять татарскую конницу сразу, как только переправится, не дать ей обозреться и выйти на простор.
А для русской стороны многочисленные острова и утюги леса были добрым прикрытием: татарам неведомо будет, сколь велики, вернее — сколь малы наши силы, да и пехоте легче будет устоять против атак азийской конницы!
Так рассчитал Андрей.
Но его приказу иные из лесных островов были с трёх сторон окружены окопами, и, кроме того, перед челом леса, на пространстве шириною до двухсот сажен, был рассыпан совсем невидный в густой траве стальной кованый репейник. Этим средством против атак половецкой конницы пользовался ещё Мономах. Потом средство это забыли, и вот оно снова пригодилось его правнуку! И Андрей гордился этим.
Сегодня, перед началом сражения, объезжая полки. И Андрей Ярославич был светел лицом, и сердце у него играло, словно солнышко в Петров день.
«А что сказал бы на всё на это, когда бы глянул, Александр?» — думалось Андрею. Но он тотчас же спохватывался и досадовал, что не может почти ничего творить, государственного или военного, мысленно не оглянувшись на брата.
Александр остался бы доволен, похвалил бы и весь распорядок ратный, и сохранение тайны, ибо ради убереженья её, незадолго перед битвой объявлено было окрестным жителям, что князь выезжает со всей охотой своей на обклад зверя, а потому, как всегда, дня за два, за три доступ всем посторонним в намеченные колки и острова был закрыт, и никого это не удивило.
Одним бы разве остался недоволен Александр — и это как раз обстоятельство и точило совесть Андрея, — тем, что без ведома и согласия брата, пользуясь отъездом его в донские степи, он, Андрей, своей властью определил переславльскую вотчину брата для сбора войска, а в самой усадьбе Невского, в Берендееве, приказал быть потаённому свозу всего оружия и воинского доспеха. Расчёт был простой: земли Невского были неприкосновенны под прикрытием тарханного ярлыка; туда не засылались баскаки, стало быть, и высмотреть было нельзя всё то, что с бешеной быстротою спроворил там Андрей. Тарханная вотчина Александра превращена была в кузницу войны.
Прежде чем решиться на это, Андрей спросил у Дубравки. Дочерь Даниила задумалась.
— Знаешь, — сказала она, вздохнув, — если всё будет хорошо... победим, то он первый тебя расцелует! А если... ну а тогда и нас с тобой в живых не будет, и не услышим, мёртвые, что он там говорить станет про нас, Александр твой Ярославич!.. — с просквозившим вдруг недоброжелательством произнесла Дубравка.
— Дубра-а-ва!.. — воскликнул укоризненно Андрей.
Нежные щёки Дубравки покрылись алыми пятнами. Она закрыла руками лицо, и сквозь её пальцы проступили слёзы.
Трёхсоттысячной орде Неврюя[42] Андрей Ярославич смог противопоставить всего лишь тридцать пять тысяч готового к сраженью войска, из которых около пяти тысяч было на конях. Никто из князей, с кем заводил он до нашествия осторожный разговор о дружном восстании против Орды, не прислал ему ни одного ратника. Только Ярослав Ярославич, брат, прислал две тысячи пеших да тысячу конных. Однако и такой силы — тридцати пяти тысяч — никогда ещё, от самой битвы на Калке, разом не выставляла Русь против Орды. Мало было войска у великого князя Владимирского, но Андрей крепко надеялся на неутолимую ярость своих воинов, ибо не было почти ни единого из них, у кого бы в семье не зарезали кого-либо, не осквернили, не угнали бы в рабство. Да ещё надеялся Ярославич на то, что острова леса не дадут развернуть Неврюю его конницу и помешают разведать силы русских.
Серая, в яблоках лошадь Андрея шла просторным намётом, я золотисто-гнедой иноходец Дубравки едва поспевал за аргамаком князя.
Князь и княгиня совершали последний объезд войска перед битвой. Татары были уже не столь далеко. Поймано было уже несколько татарских конных разведчиков. Андрей сам допросил их в присутствии воеводы сторожевого полка — Онуфрия Няньки.
Полки и дружина готовились к построенью под прикрытием лесов. Полковые знамёна находились ещё в чехлах, притянутые ко древку. По знамёна сотен — двуязычные, всевозможных цветов, «прапорцы», — те уже струились под лёгким ветерком.
По всему лесу — по траве, по стволам деревьев — прыгали солнечные зайчики, отсвечивая от шлемов, кольчуг, от рукоятей мечей и сабель, от нагрудных зерцал с золотою насечкою, стальных бармиц — оплечий, от наручей и наколенников, от рогатин, секир и копий.
Щиты на этот раз приказано было даже и не вынимать из возов: отяжелили бы только бойца!
Шло поспешное возложение на себя доспехов, сопровождаемое взаимным подшучиваньем, поддразниваньем, вместе с дружеским помоганьем один другому — этой прощальной на земле услугой товарищу.
Осматривали, в последнее, своих ретивых коней, ласково оглаживали их, что-то шептали в конское ухо, втыкали в налобный ремень узды веточки берёзы или какой-нибудь полевой цветок. Пешие ратники изукрашали веточками железные шлемы: русичи!..
Застёгивали последние пряжки и застёжки, завязывали тесёмки, напяливали через голову кольчуги и потом долго поводили богатырскими плечами, пытая, просторно ли плечам.
Пятеро главных воевод, а также тысяцкие и сотники были уже в полном доспехе, на конях и в блистающих островерхих стальных ерихонках — шлемах, которые отличались одна от другой лишь степенью отделки, соответственно воинскому чину.
На князе, поверх доспеха, был алый короткий плащ — приволока.
Дубравка, поспешавшая напряжённо вслед мужу, вся отдавшаяся управленью конём, с распылавшимися щеками, была похожа на отрока-оруженосца. Мальчишечко из княжих дворян. «Видать, что ещё и не ездок!..» — судили о ней воины, глядя ей вслед и не узнавая княгини. Да и приказано было, тайны ради, не кричать никому при проезде княжеской четы.
— ...Возволочите стяги! — приказал зычным голосом князь Андрей, ибо и один, и другой, и третий разведчик из сторожевого полка донесли воеводе Онуфрию, а этот — Андрею, что татары уже близко и начинают переправу через Клязьму.
Первым взвился и трепыхнул княжеский стяг — над большим полком. Дивного искусства перстами было строено это знамя! И та, что расшивала великокняжеский стяг, — она была тут, рядом с супругом, осеняемая сим знаменем.
Основной квадрат знамени был небесно-голубого цвета. И это голубое поле охватывала жаркого — алого цвета кайма. Вышитый Дубравкою со старинной галицкой иконы, которою благословил её родитель, образ Спаса — Ярое Око сиял в средине голубого поля, окружённый венком из золотых с крыльями херувимских головок. Больше на этом основном — голубом поле не было никаких ни изображений, ни надписей. Однако со свободно веющего края свешивалось другое полотнище — белого, в прожелть, цвета, снизу откошенное — для лёгкости веянья, и на этом полотнище были вышиты два изображенья: вверху — Георгий Победоносец на коне, вонзающий копьё в глотку змия, а внизу — золотой вздыбившийся барс: родовой, прадедовский знак Ярославичей — от Юрья Долгие Руки.
Внизу под этим изображеньем перстами Дубравки исшита была, золотою узкою тесьмою, надпись, не столь-то уж и легко читаемая теми, кто не силён был в грамоте:
«О страстотерпче Христов, Георгие, прииди на помощь великому князю Андрею». Надпись была под титлом, то ость сжатая, с пропуском букв.
Едва только возреяла великокняжеская хоругвь, как великий князь, Дубравка, воевода Жидислав и все, сколько было тут дружинников, сняли шлемы, перекрестились и помолчали.
В тот же миг взвились знамёна и остальных четырёх полков. С одного из деревьев прозвенела труба, ей в ответ проголосила другая, третья, и только не слыхать было самой отдалённой — из леса, в стороне, где залегло засадное, потаённое войско.
Андрей Ярославил начал ставить полки.
Как спелая нива, колышутся, лоснясь и отблёскивая под солнцем, хоругви и прапорцы над головами богатырей. А еловцы? на шеломах — словно языки пламени.
Ударные тысячи, нацеленные смять и опрокинуть в Клязьму татар, успевших совершить переправу, — эти все были на конях. И так как недоставало на всех оружия и доспехов, то приказано было тыловым, чтобы отдали они передовым и коней своих, да и доспехи, которые получше: ибо эти первыми грянут в чудовищно-гостеприимные ворота смерти. А и было чем грянуть!
Секиры, топоры, мечи, сабли, рогатины, кистени, именуемые в народе «гасило», ибо, как свечку, гасит жизнь человеческую этот звёздатый стальной комок, прикреплённый на цепочке к нагаечному черенку; затем копья — длинные, на увесистых ратовищах, обладающие страшной пробойной силой в руках всадника, — особенно если правильно держит: и рукой, но и притиснувши к боку. Ибо тогда не столько всадник, сколько бешено мчащийся конь разгоном всего своего многовесомого туловища наносит удар. А совокупную силу такого копьевого удара кто выдержит?! Ныли у русских всадников и короткие копья — целый пук с правой стороны седла, — этими били с намету поверженного наземь врага, пригвождая его к земле; метали их, эти копья, иначе именуемые сулицами, и вперёд себя, досягая на полсотни шагов. И опять же — разгон коня удваивал их разящую силу.
У иных из всадников были также чеканы и топорки. Всех лучников и немногих, кто пришёл с самострелом, Андрей Ярославич выделил ото всех полков и посажал по деревьям, вдоль лесной опушки, где предстояло принять оборону.
Много было добрых стрелков, но таких, какие пришли от Вологды, из Поонежья, от Бела-озера, — таких, поди, и среди татар нашлось бы немного: и в волос не промахнулись бы!
Как будто и готовились и ждали, а всё ж таки трубою ратного строя все как бы захвачены были врасплох. Некая тень, как бы тень от крыла близко над головою пролетевшей птицы, пронеслась по суровым лицам бойцов.
Поспешно докрещивались. Менялись крестами, братаясь перед смертью. Приятельски доругивались. Пытали на урез пальца остро отточенные сабли, топоры, мечи, кинжалы и кривые, полумесяцем, засапожники.
Пешая рать, которых в дружеской перебранке конники именовали — пешеломы, услыхав звук трубы, торопливо вздевали на кисть руки тесьмяные или кожаные петли топоров и окованных железом гвоздатых дубин, с шаровками на концах: «Бой творяху деревянным ослопом», и. круша тяжёлыми сапогами валежник, устремлялись — каждая сотня к своему прапорцу.
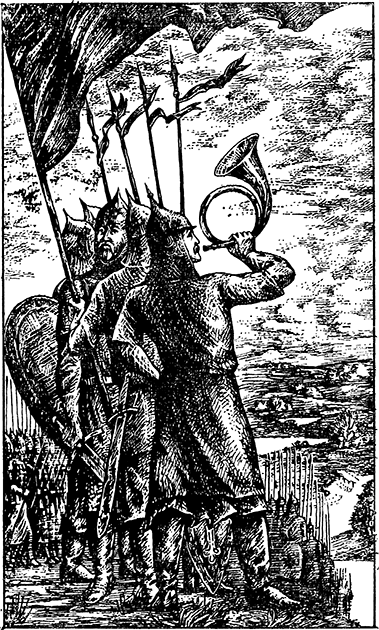
Андрей Ярославич, помня, как делывал это брат Александр, считал нужным время от времени остановить кого-либо из бойцов и кинуть с седла доброе княжое слово.
— Чеевич? — громко спросил он одного удалого молодца в стальной рубахе и в шлеме, однако вооружённого только одним гвоздатым ослопом.
— Паншин! — зычно ответствовал тот, приостановясь.
— Какого Павши — Михалёва? — спросил князь, некоторый и впрямь обладал хваткой памятью на лица, на имена и любил блеснуть этим.
— Его! — отвечал воин и вовсе остановился.
— Знаю. Добрый мужик: вместе немца ломали на Озере. Ну что, живой он? — громко спросил князь.
— Живой! — отвечал ратник. — Со мною собирался, да мать не пустила.
Андрей переглянулся с Дубравкой.
— Ну ладно, — сказал он в прощанье. — Не посрами отца! Чтобы доволен был отец тобою.
— Тятенька доволен будет! — уверенно отвечал богатырь.
— А ты — чей? — спросил очередного пробегавшего воина Андрей Ярославич.
Тот остановился. Привычным движеньем хотел сдёрнуть шапку перед князем, но, однако, рука его докоснулась до гладкой стали шелома, и, растерянный, он отдёрнул её.
— Фочкого зовут, Федотов сын, по прозванию — Прилук! — звонко отвечал он.
— Яви ж себя доблестным, Прилук! — сказал князь.
— Буду радеть! — откликнулся Ярославичу ополченец.
Князь и княгиня Владимирские в сопровождении воеводы Жидислава и дружинных телохранителей выехали на опушку бора, самого близкого к переправлявшимся через Клязьму татарам.
Дубравка глянула, и у неё дух замер. Невольно воспятила она своего гнедого иноходца вглубь леса.
Андрей Ярославич нахмурился.
— Ну-ну, — негромким голосом проговорил он, не поворачиваясь к жене.
Дубравка вспыхнула от стыда, и, чтобы поправить дело, кольнула золотыми маленькими шпорами своего коня. Тот рванулся и едва было не вынес княгиню далеко из леса, на луговину, уклонную к реке.
Один из дружинников повис на узде и остановил иноходца княгини.
У Андрея ёкнуло сердце.
— В тыл отправлю!.. — снова вполголоса Пригрозил он сквозь зубы. Затем, когда испуг его за жену прошёл, князь уже спокойно-назидательным голосом, словно бы она и впрямь была княжич-подросток, выехавший впервые на облогу зверя, сказал, не отрываясь от развернувшегося перед ним зрелища: — Вот и смотри тихонько, а из лесу не высовывайся! Вот они тебе — татары!..
Дубравка, стараясь дышать полуоткрытыми устами, дабы унять сердце, готовое расшибиться о кольчугу, заставила себя оглянуть окрестность. И показалось Дубравке, будто и холмы, и долины, и сбросы берега, да и сама река — вся местность, до самой черты окоёма, была покрыта толстым, живым, кишащим пологом пёстрого цвета.
И с необычайной явственностью прозвучали в её душе давние слова отца, которые лишь теперь оборотились для неё страшной явью:
«Доню, милая, — и не дай бог тебе увидать их!.. Когда бы ты знала, доченька, как вот саранча в чёрный год приходит на землю: копыта, копыта конские чвакают, вязнут!.. Невпроворот!.. Вёрсты и вёрсты — доколе досягнёт глаз. Так что же можно — мечом против саранчи?!»
Долго молчали все трое: Андрей, Дубравка, Жидислав.
Наконец князь, повернувшись к старому воеводе, уверенно произнёс:
— Самая до?ба ударить на них!
— Самая пора, князь! — подтвердил Жидислав.
Князь взмахнул рукой — уже в панцирной рукавице, — и тотчас же великокняжеский трубач поднял и приблизил к губам серебряную трубу, надул щёки и затрубил.
И уже ничего не слышно стало за мерным уханьем земли под ударами тысяч и тысяч копыт.
С трёх сторон трёхтысячная громада конников ринулась на татар. А так как мчаться было под гору, то за седлом каждою всадника сидел ещё и пехотинец.
И скоро Дубравка, Андрей, Жидислав увидали в радостном торжестве, как словно бы порывом бури, ударившей с трёх сторон, вдруг возвеялся и стал грудиться и сползать обратно — в Клязьму — тот чудовищный пласт саранчи, которым показывалось издали усеявшее все холмы и склоны татарское полчище.
Это был удар, которого тринадцать лет, после Батыева нашествия, ждала Русская Земля!
Боже, что поднялось!.. Разве выкричать слову человеческому про тот ужас и ту простоту нагого, обнажённого убийства, которую являет кровавое, душное, потное, осатанелое месиво рукопашной битвы, — и орущее, и хрипящее, и воющее, и лязгающее, и хряскающее ломимой человечьей костью, и пронзающее душу визгом коней — визгом страшным, нездешним, словно видения Апокалипсиса, визгом, который и сам по себе способен разрушить мозг человеческий и ринуть человека в безумие...
Визжат взбесившиеся татарские кони — звери с большой головой и со злыми глазами, рвут зубами, копытами свои собственные, облитые кровью кишки, мешающие им скакать, дыбиться и обрушивать передние копыта свои на череп, на лицо, на грудь врага, проламывая и панцирь и грудь.
Завалы из окровавленных конских туш нагромоздились на сырой кочковатой луговине Клязьмы!.. И гибнул, раздавленный рухнувшею на него тушею татарской лошади, рассарычив ей брюхо кривым засапожником, гибнул, порубанный наскочившими татарскими конниками, владимирский, суздальский, рязанский, пронский, ростовский пешец — ополченец, вчерась ещё пахарь или ремесленник, пришедший отомстить!.. Что ж, одним конём вражьим, да и одним татарином меньше стало!.. Что татарин без лошади? — всё равно как пустой мешок: поставь его — не стоит!.. Тут же раздернут его, окаянного, на части набежавшие наши, а нет — с седла распластают!.. В конях их сила, в конях! Да ещё многолюдством задавили: мыслимое ли дело — десятеро на одного! А пускай бы и десять на одного, когда бы в пешем бою!
Всё больше сатанело кровавое бучило боя! Казалось, до самого неба хочет доплеснуть кипень битвы. Уж, местами, зубы и пятерня, дорвавшись до горла, решали спор — кому из двоих подняться с земли, а кому и запрокинуться на ней навеки; и втопчут его в землю, и разнесут по кровавым ошмётам тысячи бьющих в неё копыт, тысячи тяжко попирающих сапог!
Зной валил с неба. Было душно. Многие из бойцов — и татар и русских — в этом месиве уж не могли выпростать ни руки, ни ножа — где уж там, меч, копьё, саблю! — и только очами да зубами скрежещущими грозили одни другому, уже готовые дотянуться — тот к тому, этот к этому — и вдруг оторванные, прочь уносимые друг от друга непреодолимым навалом и натиском человечьих и лошадиных тел.
Было и так, что задавленные насмерть не могли рухнуться наземь, несомые навалом живых. Их тела с остекленевшими глазами, как бы озирая битву, из которой и мёртвому некуда уйти, стоймя носились по полю, принимая в свою остывающую плоть удары копий и стрел!..
Свежиною крови, запах которой пресекает дыханье и заставляет бежать непривычного к ней человека, потянуло от земли! Осклизли — и трава, и тела убитых, и кольчуги, и шлемы, и поверженные туши коней. Русские мечи по самый крыж покрыты были кровью. Рукояти поприлипали к ладоням. Но и у татар с кривых сабель, досыта упившихся русской кровью, кровь текла по руке в рукава халатов и бешметов...
А битва всё ширилась! Новый тумен — отборные, на серых конях, десять тысяч всадников — одним лишь наклоненьем хвостатой жердовины значка — ринул на этот берег хан Укитья, в подпору теснимым татарам.
... Нет, нет — да уж подымет ли и нашего, русского народа сверхчеловеческое слово — слово, подобное и веянью ветра, и звуку смычка, и ропоту бора, и воплю ратной трубы, и грохоту землетрясений, — подымет ли даже и оно, могущее поколебать и небо и землю, обоймёт ли даже и наше, русское слово всё то, что творилось в тот миг на берегах Клязьмы?
Тщетной оказалась подмога, брошенная ханом Укитьей и прожорливую пасть боя! Разящая сила удара, которую могли и себе эти свежие десять тысяч конников, низринувшиеся с покатостей татарского берега Клязьмы, быстро погрязла в том многоязычно вопящем месиве, в которое были обращены ударом русских полков тумены, скопившиеся за Клязьмой.
Только сила могла остановить силу!
Хан Укитья, презрительно сопя, чуть расщелив свои заплывшие глаза, таким напутствием сопроводил оглана, ведущею новый гумен.
— Хабул! — прохрипел он. — Я знал отца твоего!..
В ответ юный богатырь монгол, в чёрном бешмете, в парчовой круглой шайке с собольей оторочкой, трижды поцеловал землю у копыт кони, на коем восседал хан Укитья.
Затем встал, коснулся лба и груди — и замер.
Укитья знал, что этот прославленный богатырь был куда знатнее его самого!
Однако на войне первая доблесть ба?тыря не есть ли повиновенье?! И царевич обязан повиноваться сотнику, если только волей вышестоящего он поставлен под его начало!
И хан Укитья, не повернув даже и головы в сторону Хабул-хана, просипел:
— Хабул! Тебе дан лучший из моих туменов. Уничтожь этих разношёрстных собак, которые оборотили хребет свой перед русскими! Убивай беспощадно этих трусливых, как верблюды, людей из народа Хойтэ и всех прочих, ибо сегодня бегством своим они опачкали имя монгола. Монгол — значит смелый!..
Снова лёгкое наклоненье головы и прикосновенье руки ко лбу в области сердца.
Лицо Укитьи — подобное лицу каменной бабы — отеплялось улыбкой. Он повернулся к богатырю:
— На тебе нет панциря, да и голова не прикрыта... Я вижу, ты этих русских не очень-то испугался!..
Молодой хан отвечал почтительно, но сурово:
— Отец мой был сыном Сунтой-багадура.
— Ступай!
И, ещё раз поклонясь начальнику, Хабул-хан быстро отошёл, всунул ногу в стремя, которое держал один из его нукеров, и поскакал.
Теперь Дубравке казалось, что пёстрая толща саранчи, ужо слипшаяся от крови в кучи, как бы сгребается ладонью некоего великана, и грудится, и грудится в Клязьму.
«Господи! — думалось Дубравке. — Да неужели не сон всё это?! Бьём, бьём этих татар!.. Бегут, проклятые!.. Отец, посмотри!» — как бы всей душою крикнула она в этот миг туда, на Карпаты.
И впервые за всё время их безрадостного супружества Дубравка взглянула на Андрея, вся потеплев душою.
«А тот?.. Ну что же... сам свой жребий избрал!.. Уж очень осторожен... Ну и сиди в своём Новгороде: за болотами не тронут!..»
Так думалось дочери Даниила, супруге великого князя Владимирского.
Андрей Ярославич почти уже и не опускался больше в седло, а так и стоял в стременах, весь вытянувшись, неотрывно вглядываясь в ноле боя.
— Ах, славно, ах, славно!.. Ну и радуют князя! — возбуждённо восклицал он, кидая оком то на воеводу Жидислава, то на Дубравку, а то и на кого-либо из рядовых дружинников — своих главохранителей.
Воеводе большого полка, Жидиславу Андреевичу, по правде сказать, сейчас совсем было не до того, чтобы отвечать на восторженные восклицанья своего ратного питомца, — к суровому старцу то и дело прискакивали на взмыленных конях дружинники-вестоносцы и вновь неслись от него, приняв приказанье; однако нельзя ж было и не отвечать: князь!
Старый воевода прочесал перстами волнистые струйки седой бороды, улыбнулся и так отозвался князю:
— Да! Уж наш народ теперь не сдержать: дорвалися до татарина, что бык до барды!..
Князь рассмеялся.
— А? Дубрава?.. — сказал он и ласково потрепал поверх перчатки с раструбом маленькую руку княгини.
Глаза Дубравки увлажнились.
Дозорный, сидевший на дереве, тоже не выдержал.
— Наши гонят!.. — диким голосом закричал он.
Воевода Жидислав поднял голову и сказал не очень, впрочем, строго:
— Кузьма, ты чего это? Али тебя для того посадили, чтобы орать?
Но уж и с другого и с третьего дерева неслись радостные крики рассаженных там стрелков. Некоторые улюлюкали вслед татарам, кричали охотничьи кличи, хохотали и ударили ладонями о голенища сапог.
Андрей Ярославич со вздохом облегченья опустился наконец и седло.
— Клянусь Христом-богом и его пришествием! — крикнул он и поднял десницу в панцирной перчатке. — Бегут, проклятые!.. Татары, татары бегут!..
Бежали! И это не было притворным бегством с целью навлечь противника и навести его на засаду, чего опасались вначале и Андрей Ярославич, и воевода Жидислав. Куда там: трупами гатили Клязьму!.. И по зыбкой этой гати, ещё хрипящей, живой, хлюпающей под копытами русской погони, метнулись было с разлёту на тот берег, на татарский, десятка два-три русских всадников, но так и канули там бесследно. И не то чтобы порубили их, сразили копьём или стрелою, а попросту замяли и затоптали, даже и не успев распознать в них врагов, так же, как топтали и месили друг друга.
И, увидав это, Андрей Ярославич велел дать ратной трубою звонкий, далеко слышный приказ: собираться каждой сотне под своё знамя!
И в это самое время, прямо в лоб мятущимся и бегущим татарам, и ударил новый тумен — тумен хана Хабула, задачей которого было остановить бегство и затем, гоня впереди себя завороченных, вновь ударить на русских.
Две конно-людские, неудержимо несущиеся со склонов прямо в противоположные стороны, многосоттысячепудовые тучи озверелого мяса схлестнулись на самой середине реки!.. Да уж какая там река!.. Реки не было — был огромный, на вёрсты, мокрый ров, заваленный, загромождённый конскими и человеческими телами. И запруженная Клязьма выдала воды свои на низменные берега...
Молодой хан Хабул отдал приказ рубить беглецов беспощадно. Были особенные причины на то: среди отступавших только ничтожная часть были монголы; всё же остальное полчище было сборною конницею — свыше сорока покорённых татарами народов.
Кого только тут не было! Были и китаи, и найманы, и саланги, и каракитаи, сиречь чёрные китаи, и ойрат, и гуйюр, и сумонгол, и кергис, и мадьяры, и туркоманы, и сарацины, и парроситы, и мордва, и черемись, и поволжские булгары, хазары, персы и самогеды, и народ Хойтэ, и множество, множество других. Вот почему и отдал приказ хан Хабул врубаться в бегущее полчище беспощадно. И этим необдуманным повеленьем своим он и загубил едва ли не весь свой тумен, лучший из туменов Неврюя! Остановить накоротке почти двадцатитысячное конное, по уже сбившееся в мятущийся табун разноплеменное войско, охваченное паникой, было столь же невозможно, как задержать ладонями лавину.
Впадший в неистовство, истощивший силы передовых своих тысяч и утратив управленье над ними, так как их захлестнуло обезумевшим навалом бегущих, хан Хабул выхватил саблю и сам кинулся вместе с телохранителями в эту схватку, пролагая широкую кровавую просеку на левый берег Клязьмы по скользкой гати из лошадиных и человеческих тел...
Выскакав на твёрдую землю, хан остановил коня и пронзительным, гортанным голосом крикнул:
— Монголы! Враг перед вами!..
Это был клич Чингисхана.
Навстречу Хабулу вынесся на вороном коне огромного роста, в кольчуге и в шлеме русский сотник Позвизд.
Завидя хана Хабула, он испустил во всю свою могучую глотку страшный и как бы прожорливый крик.
Диким, визгливым гиком ответствовал русскому витязю богатырь-хан.
Русские закричали своему:
— Позвизд! Эй, эй!.. Позвизд Акимыч, оберегись!..
Перемахивая через груды убитых, через туши павших коней, мчались друг на друга, во всю мочь, кони того и другого: вороной — у русского великана, серый — у татарина...
Сшиблись!
Вопль боли и ужаса исторгся из груди русских воинов.
Гортанным, глумливым алалаканьем ответили им татары.
Копьём, древко которого было и не охватить руке простого смертного, татарский богатырь расщепил одним ударом седло и опрокинул и лошадь и всадника.
И прежде чем новгородец, оглушённый паденьем, успел подняться с земли, хан Хабул зарубил его насмерть. Телохранители хана втоптали поверженного в землю.
Юный хан резко поворотил коня вправо. Пробившиеся на русский берег Клязьмы тысячи ринулись вслед за ним, обтекая ещё не успевших вновь построиться русских.
И то же время другое конное полчище, под предводительством другого батыря, подвластного Хабул-хану, ринулось плёво — окружая русский стан.
Хабул-хан, замедлив тяжёлый скок своего богатырского коня, как бы очерчивая хищный круг окрест русского войска, неторопливо высматривал себе новую жертву.
И тогда-то из-под знамени новгородских гончаров — золотая кринка на голубом поле, а над нею золотой посох посадника — отделился всадник на буром коне.
Это был старшина новгородского гончарного цеха — Александр-Мил омег Рогович. Жёлтые кудри его были прикрыты стальным островерхим шишаком, кольчуга со стальными пластинами на груди.
Ловко и нодсадисто сидел гончар Рогович. Хватким, горящим оком из больших глазниц удлинённого юного лица смотрел он на татарина.
На правой руке у него, на широкой тесьме, свисал чекан — востроносый, с чуть загнутым клювом, стальной молоток, крепко насаженный и заклёпанный на красном недлинном черепе, с отделкой золотом и слоновой костью.
Татарии крикнул ему по-монгольски какое-то оскорбленье, которого не понял гончар, но в ответ на которое долгий хохот стоял среди нукеров хана.
И татары и новгородцы, близ стоявшие, не смели ничем посягнуть на священное издревле право единоборства.
Пустив серого жеребца своего на тяжёлый скок, татарин уже наладил к удару своё огромное, будто жердь, копьё.
Рогович разобрал на левую руку поводья, а правой подобрал висевший сбоку свой чекан-клювец и наладил как следует широкую тесьму, на которой висел этот чекан на кисти (по правой руки.
«Ну, держись, Александрушка, ребята твои, новгородцы, смотрят на тебя! Не положи сраму на город, на братчину!» — не то подумал, не то пробормотал он, прилаживаясь отпрянуть конём от ниспровергающего удара копья.
Но за мгновенье пред сшибкой Хабул выбросил в сторону левую руку, затем, как ножницы, раздвинул и сдвинул пальцы, а из правой выронил копьё...
«Это — на руку мне!» — подумал обманутый этим движеньем Рогович.
И в тот же миг скользкая волосяная петля длинной татарской укрючины, в кою пору вложенной в правую руку Хабула подскакавшим по его знаку стрелоносцем, взвилась над головой гончара.
«Ну... пропал!.. В сороме — смерть!» — весь похолодав, подумал Александр Рогович. И уж не дума, не хитрость защитила его, а само тело, что в страшный миг — быстрее стрелы, умнее ума — дугою примкнуло ко гриве лошади. И петля миновала новгородца! Только хлестнув его по спине, она сорвалась в сторону. И в сторону же отпрянул конём татарин, чтобы укрючиной сдёрнуть с седла своего противника.
«Ну, теперь ты — мой!» — сквозь зубы вырвалось у гончара Александра. Он стремительно повернул коня вслед татарину и, нагнав его, привстал во весь рост на стременах и грянул острым клювом чекана в голову татарского богатыря и пробил насквозь череп; рванув к себе рукоять чекана, он свалил убитого под копыта коней.
Андрей Ярославич, Дубравка, воевода Жидислав и все, кто стоял с ними, с возрастающей тревогой взирали на обширный уклон луговины, перебитой пролесками, где сызнова установилась та — отсюда казавшаяся недвижной — толчея рукопашного боя, разрешить которую в ту или в другую сторону мог только новый удар, только свежий иахлын ратных сил! Они казались неисчерпаемы там, на другом берегу Клязьмы, у татар, и почти нечего было бросить отсюда, от русской стороны. Засадный полк? Но не на то он был рассчитан. В крайнем случае, если расчёт сорвётся, то уж тогда ринуть этот полк — две тысячи конных, пятьсот пехоты, — где-то близко смертного часу. А сейчас, а сейчас что?
Опытный в битвах Андрей Ярославич не хуже, чем большой воевода его, понимал, как много значит в бою разгон победы, как важно и для воинов и для полководца не утратить этого разгона, не дать ему задохнуться. И Андрей Ярославич один, не спросясь воеводы, принял отчаянное решенье.
Уж видно было, что, окружённые со всех сторон, сбитые в ощетинившийся сталью огромный ком, русские полки, сотни и обрывки полков тают, как глыба льда, ввергнутая в котёл кипящей смолы.
Андрей Ярославич знаком руки подозвал к себе сотники Гаврилу, начальника великокняжеской дружинной охраны. Гаврило-сотский был широкоплечий мужик-подстарок, с благообразно умасленною чёрной большою головою, белым и румяным лицом и чёрной отсвечивающей бородой.
Он был в стальной, с козырьком, блистающей шапке-тюрке округлого верха, застёгнутый под подбородком, и в доброй, светлой кольчуге новгородского дела.
— Строить моих! — приказал Ярославич.
— Вот добро! — прогудел сотник, открывая в большой улыбке белые зубы. — А то закисли!..
Князь отпустил его.
Сотник стремительно повернулся и тяжёлым бегом, круша валежник, устремился к полянке, где возле своих засёдланных коней, не отпуская повода из рук, стояла, ожидая своего часу, великокняжеская охранная дружина в триста человек.
Князь в сопровожденье Дубравки подъехал к ним, уже к выстроенным, в сёдлах, и остановил своего, в яблоках, аргамака перед самым челом дружины. Ни одному из трёхсот не было больше девятнадцати лет!
Все они были копейщиками. Островерхие и у всех одинакие, стальные гладкие шишаки их блистали на солнце. Сталь слегка розовела, принимая на себя отсветы от острого, алого, словно язычок, пламени, сафьянного еловца — флажка, который реял на шлеме у каждого.
Ничья ещё не капнула слеза — кроме материнской — на этот шёлк, на эти доспехи! Князь Андрей Ярославич, готовясь восстать на Орду, нарочно подобрал эту дружину из неженатых. «Меньше слёз будет, меньше дум да оглядки, — говорил он ближайшим своим советникам. — Слёзы женские пострашнее, чем ржа, для доспехов булатных!..»
Коли бы княгиню Дубравку, в её мужском кольчужном одеянье и в стальном шишаке, поставить к ним в строй, то великая княгиня Владимирская ничуть бы не выделилась среди них.
Дубравка, зардевшись, сказала что-то на ухо своему супругу, слегка наклонившись с седла в его сторону. Андрей одобрительно кивнул головой. Вслед за ней по его приказу юный знаменосец-хорунжий приблизился к Дубравке на рослом белом коне — ибо у всей первой сотни лошади были белые — и, спрыгнув с коня, преднес княгине хоругвь дружины: золотой вздыбившийся барс Ярославичей на голубом поле.
Княгиня приняла на ладонь край голубого знамени и благоговейно приложила его к своим устам.
С глубокой отцовской жалостью взирал великий князь на юные лица этих богатырей. И вдруг почувствовал, что не сказать ему без слёз того заранее приготовленного напутственного, перед сраженьем, слова, с которым он хотел обратиться к ним, к этим мальчикам-витязям.
И вместо задуманной речи одно только и мог сказать князь Андрей.
— Что ж, ребятки мои, — молвил он попросту, — вам, витязям русским, что я говорить стану?! А меня впереди себя увидите!..
— Я сам поведу их! — обратился он к сотнику, указуя ему его место, по правую руку от себя, и выхватил блеснувшую под солнцем саблю.
И каждый из этих трёхсот почувствовал себя ростом вровень с деревьями и понял, что немедля надо кричать душу сотрясающим рыком и нестись на крыльях беды, разить поганых остроносым копьём, валить их наземь, под копыта своего коня.
Князь Андрей провёл перед собою, выпуская из леса на луговину, две первые сотни — на белых и на вороных конях, а когда поравнялась с ним третья — на серых, он тронул своего аргамака, дабы стать во главе этого отряда.
Вдруг он почувствовал, как две сильные руки осадили его скакуна, схватив под уздцы. Тут же он увидал, что воевода большого полка, старик Жидислав, поспешно несётся ему наперерез, простирает к нему руки и что-то кричит.
Догадавшись, что это его, князя Андрея, хотят задержать, отвратить от принятого им ратного решенья, Андрей вспыхнул от гнева. Да разве в жилах его струится не та же самая кровь, что у брата Александра, — кровь Боголюбского Андрея, кровь Всеволода Великого?! Да разве кто-нибудь дерзнул бы брату Александру этак вот, рукою дружинника, осадить боевого коня?
— Прочь! — заорал он. — Прочь!..
Он в бешенстве кольнул коня шпорою. Но оба могучих телохранителя повисли на удилах, и конь заплясал храпя. Они обдавались потом смертельного ужаса, творя святотатство немыслимого в бою ослушанья самому великому князю, верховному военачальнику. Однако так приказал им воевода большого полка, и если от княжого гнева мог ещё заступить воевода, то ничего не смог бы поделать и князь, если б они оскорбили ослушанием воеводу Жидислава! Не из таких был старик, чтобы промыт.!..
В это время и сам Жидислав подскакал едва не вплотную и, сметнувшись с коня, умоляя, простёр обе руки ко князю:
— Князь!.. Не гневися!.. Обезглавить нас хочешь?! На погибель идёшь!..
— А они? — гневно воскликнул Андрей и взмахнул рукою в сторону юных, чья уже и последняя сотня вытягивалась из леса.
— То — моё место, — отвечал воевода и с невероятною для его лет быстротою снова очутился в седле и бросил коня вслед исчезавшей из леса дружине.
— Стой, старик! — крикнул ему вдогонку князь Андрей. — Где твоё место? Я полки тебе вверил!.. А ты!..
И, не договорив, князь с такой силою вонзил шпоры, что его серый, в яблоках, рванулся вперёд, опрокинув державших его телохранителей.
Воевода Жидислав, скорбно покачав головою, посмотрел вслед князю, который мчался стремительно из леса, не успевая отстранять ветви дерев, хлеставшие по его лицу. Сумрачно сведя брови, старый воевода направил коня под великокняжеский стяг на опушке бора, откуда руководил он полками, куда стекались к нему донесения со всех концов боя.
Однако новое испытанье ждало его сегодня со стороны великокняжеской четы: княгиня Дубравка в сопровождении двух дружинников мчалась вослед супругу.
— Княгиня!.. Умилосердись! — только и воскликнул старый Жидислав, увидев Дубравку.
— Я — туда: чтобы видеть! — сказала она, слегка потрясая головою, всё ещё не привыкнув, что на ней шлем, а не венец золотых косичек.
— Коли так, то добро, княгиня! — несколько успокоенный, отвечал Жидислав. — Только молюся к тебе: не выдавайся из леса! Хорошо будет видно и так. Не ударили бы поганые, усмотрев тебя!
И на всякий случай воевода отрядил ещё двух своих телохранителей — оберегать княгиню и ни в коем случае не позволять ей выезжать из-под сосен.
Тем временем Андрей Ярославич успел догнать своих «бессмертных», как называл он порою этих юношей, и теперь мчался впереди всех трёх сотен, что на белых, на вороных и на серых конях, держа саблю ещё поперёк гривы коня, слыша позади себя дружный топот конского скока.
Как любила его в этот миг Дубравка! Как любовалась им!
«Матерь божия, смилуйся лад нами! — молилась она в своём сердце. — Обереги, сохрани его! Буду любить его, буду беречь его, буду слушаться!..»
Ей легко можно было проследить путь Андрея: реял алый княжеский плащ, сверкали драгоценные каменья золочёного шлема — ерихонки.
Но и оттуда, с того берега Клязьмы, тоже уже заприметили князя.
Хан Укитья, моргая изъеденными трахомой веками, вглядывался в сверкающую на солнце, идущую стальным клином трёхсотенную дружину Андрея.
Его приближённый, из числа бесчисленных племянников хана, почтительно изогнувшись в седле, показывал хану рукоятью нагайки на князя, нёсшегося впереди всех.
— Вижу, — брюзгливо проворчал по-монгольски Укитья. — Зерцало с золотою насечкою... Алый плащ... Отличит его и младенец, чей большой палец ещё не был смазан жиром и мясом барашка!
— Они крепко скачут... Это — добрые воины! — позволил себе заметить приближённый.
Хан презрительно выпятил губу.
— Ты непутёвое молвил, — возразил сквозь привычное посапыванье и отрыжку хан Укитья. — Их всего горсть! Безумцы, безумным ведомые! Канут, как камень, кинутый в толщу воды! Исчезнут, как стрела, пущенная в камыши!
Однако не стрелою, пущенною в камыши, а скорее подобно раскалённому утюгу, рухнувшему в сугроб, вторглась юная дружина Андрея в татарское войско.
Конный бой! Да разве забудешь когда-нибудь упоенье конной атаки! Сперва ничего другого не чувствуешь, кроме себя самого на хребте могучего зверя, именуемого почему-то конём! Только — ветер, свищущий в уши, да — я, да — пустынное небо, в которое вот-вот ворвёшься с того вон пригорка!.. Нет, вот с этого, а тот уже далеко позади — пронёсся в белёсо-мутном потоке копытами пожираемой земли!..
Что?.. Где?.. Враги?.. Какие?.. Не эти ли вон, что у лесочка — пёстрое что-то, ничтожное, вроде насыпанной от семечек шелухи?.. Дайте только дорваться! — сметём, как метлою! Что это — они тоже на конях?.. Неужели зги игрушечные коньки — то же самое, что и крылатый зверь подо мною?! Я — я один — на коне, пожирающем небо и ломлю!.. И чем это они там размахивают? Кто сказал, что эти жиденькие полоски, похожие на стальные хлысты, что это сабли — и что этим могут убить?! Убить? Меня? Пойди убей этот звенящий остриём шлема ветер, и это огромное небо, в которое сейчас вторгнусь, и этот смутный поток земли, кидающийся под грохочущие копыта!..
...Дорвались. Тяжёлая сабельная, с храпом и выкриками, кровавая пластовня!.. И вдруг — будто откачнувшимся бревном шарахнули в голову! Что это? Неужели тем жалким стальным прутиком? А где же боль?.. Но уже поволокла из седла одного из юных сынов своих земля-матерь в свою чёрную пазуху. И дивится ещё не потухшая искра сознанья беспощадному волочёные и переворачиванью ещё живого, ещё не переставшего чувствовать и дышать, ещё моего, неотъемлемо моего тела!
...Стоном очнёшься... И разом ринется — сверху, сбоку, каким-то потоком кусков, разорванный мир, словно бы торопясь сложиться, построиться, дабы сознанье не застигло его врасплох...
И уже огромный ворон, высясь над запрокинутым бледным лицом, пытает воровски своим клювом, отпархивая после каждого клевка, испить из не успевшего ещё остынуть глаза...
Растерзают свои светлые ризы владимирские боярыни-матери простоволосые, станут выть, станут биться о землю, прося у неё хотя бы на единый, на краткий миг остывшие тела сыновей, — да только и от материнского плача не разверзнется чёрная пазуха этой всепоглощающей матери-земли!
...Сперва ничтожны были потери, понесённые трёхсотсабельной дружиной Андрея. И это — потому, что шли стальным цельным утюгом. И если бы даже эти юноши — сплошь панцирная дружина — и не разили врага ни копьём, ни саблей, то всё равно этот железный, ощетиненный копьями клин, в его тяжком конном разгоне, трудно было бы сдержать лёгкой татарской коннице, — он рвал и крошил сам собою, — а раздаться, отступить ей было некуда: битва шла на излучине Клязьмы.
Пробившись к своим, что были в котле, Андрей Ярославич не стал грудиться в одно с ними, а тут же ударил влево по отогнутой татарской многолюдной подкове и стал, топча, и рубя, и беря на копьё, отваливать татар к самой Клязьме.
Понял замысел князя и воевода окружённых — Гвоздок, тот, что за смертью старшого воеводы, Онисима Тертереевича, стоял на челе всей обороны у окружённых, — высокий, молодой, черноволосый боярин, с густым усом, но брадобритый, с бешеными, навыкате глазами. Перемахнулись меж собою махальные, с длинными красными и жёлтыми словцами на копьях, — ибо где ж тут было трубить? — и воевода Гвоздок прочитал в этих взмахах, что князь одобряет его, и не стал выбиваться на свободу, к лесу, а, напротив, круто поворотил всё войско в сторону Клязьмы, на татар, и тоже натиснул на них.
И вскоре уже и те тысячи, что приведены были Хабулом-ханом, загрудились в Клязьму. Всё смешалось — барунгар и джунгар — правое с левым крылом; беки, батыри и вельможи тёрлись коленом о колено с простым всадником, с каким-нибудь жалким погонщиком овец; отрывали стремена один другому; страшным натиском лошадиных боков увечили и в мясо раздавливали всадникам колени и бёдра, и уж ничего не могли поделать ни самые большие огланы, ни десятские, ни сотские; плыли сплошным оползнем!..
Возле хана Укитьи уже держали в поводу троих поводных коней. Нукеры его проявляли нетерпенье: пора было спасаться бегством.
Но Укитья только выставил в сторону ладонь, как бы отстраняя этим бегство.
— Нет, Иргамыш, — сказал он племяннику, — сегодня я оторвал сердце своё от души своей! Этот безумец Хабул погубил всё! Он проявил ярость тигра, но разумение гуся! Теперь высшие не проявят ко мне благоволенья! «Старый верблюд! — скажут. — Ты истёр свои пятки на путях войны, так что не поможет и пластина кожи, подшитая к ним! Ты истощил, скажут, некогда тучные, горбы своего военного разуменья, и куда ты годен теперь?» Иргамыш!.. Ай-Тук!.. Усункэ!.. — воззвал он громко к своим любимым нукерам и колчаноносцам. — Дети мои! Жизнь и моя и ваша всё равно погибла для нас — и на том и на этом берегу!.. Так пускай же лучше — на том! По крайней мере там, в крови русских, омоем наше имя!..
И старый нойон тронул коня вдоль берега, отыскивая брод. Нукеры, каждый со своей охраной, устремились за ним.
В этот миг на загнанном в мыло коне подскакал к хану вестоносец. Он спрыгнул наземь и, сделав поспешное приветствие, торопливо доложил хану, что всё погибло на том берегу, что бегут и что хан Узбек, сменивший хана Хабула, требует подкреплений.
— Они, эти русские, преследуют нас, как железные пчёлы, жало которых — стальное и не ломается в ране! — закончил он, даже и в этот миг привычно следуя правилам монгольского этикета, по которым тем лучше ( читалось донесение гонца, чем более оно походило на выспренние и порою даже трудно понятные стихи.
— Собака! — вскричал хан Укитья и сильным ударом плети, в конец которой был вплетён комок свинца, проломил голову вестоносцу.
Тот рухнул под копыта коня. Не взглянув даже в его сторону, старый хан продолжал путь во главе своей наспех собранной сотни.
Вот он уже въехал в воду. Шумно бурля водою, вздымались, сверкая на солнце, ноги коней. Вот уже — на середине Клязьмы. Вдруг слуха Укитья достигнул пронзительный зов трубы, раздавшийся сзади. Старый воитель тотчас признал в ней клич трубы старшего — клич, обращённый к нему, хану Укитье. И мгновенно сама собою рука его натянула повод.
— Иргамыш, — сказал он племяннику, — ты поведёшь!.. А мне, видишь, не позволяют даже и своё имя спасти!..
Говоря это, он принял из рук вестового чёрную, опалённую, из тонкого древесного луба дощечку величиною с ладонь, где мелом было начертано повеленье хана Неврюя, обращённое к хану Укитье, — немедленно прибыть для доклада...
Пришпоренный копь вынес Укитью обратно на берег.
...Верховный оглан карательных полчищ, хан Неврюй, высился на своём арабском белом скакуне на пригорке, в тени берёзы. Вкруг хана толпилась его свита и отборные телохранители. И к нему и от него непрерывно текли конные вестоносцы. Хан правил боем. Возле его стремени, справа, на маленьком коврике, брошенном на траву, по-татарски поджав под себя ноги, сидел скорописец-монгол. Справа от скорописца, на коврике, так, чтобы легко дотянуться рукой, стоял маленький глиняный горшочек, полный густо разведённого мела. На коленях скорописец держал нечто вроде отрывной книжечки из тонких опалённых, с воском, чёрных дощечек, нанизанных у корешка на круглый ремешок, с которого легко было снять очередной листочек.
Время от времени скорописец обмакивал тоненькую кисточку в раствор мела и быстро вычерчивал на очередной дощечке приказ главнокомандующего.
Подозванный нукером гонец приближался, схватывал — с движеньями крайнего раболепия — листочек, снятый с ремешка, имеющий на себе номер приказа, снова взмётывался на коня и мчался туда, куда надлежало.
Когда хан Укитья подскакал к бугру под берёзой, где была расположена полевая ставка Неврюя, он спешился.
Укитья и Неврюй, оба они были старейшими воителями Батыя и старые соратники. И тот и другой участвовали во вторжении за Карпаты — в Венгрию и в Германию. Они давно уже и породнились домами, хотя Неврюй был из рода Чингисхана, а Укитья — выслужившийся. Их связывала дружба.
Однако сейчас Неврюй даже и лица не повернул в сторону своего боевого товарища, распластавшегося перед ним и поцеловавшего землю у копыт его коня.
Приподняв лицо от земли, Укитья приветствовал Неврюя торжественно и подобострастно:
— Да находишься ты вечно на верху славы и величия и в полноте счастья и всяческого благополучия! — произнёс он, не вставая с колен.
— Менду, менду сэ бэйна! (Здравствуй!) — угрюмо-насмешливым голосом ответил ему Неврюй. Однако недвижным осталось его обветревшее огромное безбородое лицо, в задубелых морщинах, подобное коре старой ветлы, — лицо, на котором чёрными бусинами блестели маленькие злые глазки. — Что скажешь? — всё тем же сурово-насмешливым голосом продолжал хан Неврюй. — Ты, который без пользы, и на позор лучший из моих туменов истратил и погубил!.. Да наполнится твой колчан навозом! — вдруг яростно выкрикнул он самое страшное для монгольского воина проклятие и самую страшную кару.
И, затрепетавший от этого предстоявшего ему позора, хан Укитья снова повергся ниц и, не отрывая лица от земли, только сотрясал головою.
— Я помню твои прежние заслуги, — продолжал Неврюй, — и лишь потому имя твоё сохраняю неосквернённым! — Сказав это, Неврюй глянул в лицо стоявшему прямо перед ним нукеру и условным знаком закусил нижнюю губу.
Нукер в свою очередь повторил этот знак силачу-телохранителю, стоявшему возле стремени хана. Тот неторопливо подошёл к распростёртому ничком Укитье, наступил ему коленом на загривок, подсунув обе свои ладони, сцепив их пальцами, под лоб Укитьи и со страшной силой рванул его голову кверху.
Хрустнули хрящи... Из уст и из носа Укитьи хлынула кровь...
...Звук сигнальной трубы, в котором старый Неврюй тотчас же познал зов начальствующего, заставил хана вздрогнуть. К нему мчался на вороном коне стрелоносец — от царевича Чагана, кто представлял в армии лицо самого императора Менгу. В вытянутой вперёд руке гонец держал чёрную дощечку...
Неврюй озабоченно глянул в ту сторону, где виднелся златоверхий шатёр Чагана. Там сверкало оружие и слышались крики...
Неврюй спрыгнул с коня и со знаками глубочайшего почтенья принял из рук вестоносца чёрную дощечку, исписанную мелом.
Это был немедленный вызов к царевичу.
Душно. Жарко. Уста запеклись. Испить бы! А боязно: так за глотком и убьют! И те, кто хоть на мгновенье отвалились на чистое место, наспех совали товарищу в руки острый нож: «Ох, задохнусь, брат! Порежь ты малость ремешки у пансыря моего!» И разрезали друг другу ремешки и тесёмки, и сваливали жаркое железо наземь, и, оставшись в одной рубахе, жадно надышивались всей грудью, и, перекрестясь, сызнова кидались в битву...
Сильно поочистили поле!.. Уже кое-кто из богатырей, сбрасывая тылом руки горячий пот с чела, отгребая волосы, подставляя ветерку испылавшееся лицо или опершись на длинное оскепище топора, пускал на всю обширную луговину торжествующий гогот вслед убегавшим татарам:
— Ого-го! Потекли, стервецы!..
— Ишь ты, — воевать им Русскую Землю!..
Обозревали гордым оком доброго жнеца поле боя.
— А побили мы их, татаровей, великое число! На одного нашего пятерых надо класть, а и то мало!..
— Он копьё на меня тычет, а я как воздымусь на стременах — так и растесал его на полы!..
Андрей Ярославич, сзывая под стяг раскиданные по всей луговине обрывки полков и сотен звуками ратной трубы и грохотом тулумбасов, двигался со своими «бессмертными», радуя соколиной посадкой сердце ратников.
Ему кричали радостное, разное, а иной раз и нечленораздельное, — только бы видел князь, что довольны люди.
— Князь! — зыкнул на всю луговину один из владимирских, перемигнувшись с близстоящими товарищами. — Андрей Ярославич, а давай-ка мы их ишшо так!..
Андрей Ярославич, не найдя ответного, воздымающего дух слова, — не дано ему было этого, — только улыбнулся воину да приветливо покивал головой.
Им любовались с гордостью отцов.
— Князь-от, князь-от! — восклицали иные и уж ничего не могли добавить более.
По всему уклону необъятной глазу Клязьминской луговины словно бы раскиданы были кучами и вразброс пёстрые одежды, сброшенные бегущим множеством: так показывались издали тела убитых...
Сбивчивы и противоречивы были мысли великого князя Владимирского. Одна пересекала другую. На побоище взирал он спокойно: привык уж, — лаковая под солнцем, булькала, стекая в мутную Клязьму, кровь, застывала на земле красным студнем, — без содроганья взирал на сие князь. «Что ж, — думал он, — и моя кровка журчала бы тут же!»
Почему-то особенно знакомым показалось Андрею уже смертною синюхою удушья заливаемое лицо одного из поверженных на поле брани. Тяжко дышал он, хватая ртом воздух, силясь время от времени приподняться. И уж не туда, уж мимо людей, смотрели большие тускнеющие глаза его на юном, чуть простоватом лице.
Андрей Ярославич осадил своего серого, в яблоках, спрыгнул наземь и склонился над умирающим. Тут он узнал его: это был тог самый воин, который перед битвой на вопрос князя: «Чей ты?» — зычно и бодро ответствовал: «Павшин... Михалева!..»
— Ну что, Павшин, друг мой? Тяжело, а?.. Испить, быть может, хочешь? — спросил Андрей Ярославич, становясь возле умирающего на одно колено и берясь за висевшую на боку серебряную питьевую лядунку с винтовым шурупцем, оболочённую в бархатное нагалище.
Умирающий как бы даже и не слыхал этих его слов. Своё, главное, быть может единственное, что? ещё оставалось для него на земле, владело сейчас всеми его помыслами. Видно, и он тоже узнал князя.
— Чтобы сказали там родителю моему... про меня... Что сами видали... — коснеющим языком проговорил он и строгим и как бы требующим взором глянул в лицо князю. — Тятенька мною доволен будет!..
Едва только взглядывал Андрей Ярославич на тот берег Клязьмы, как сквозь гордую радость несомненной победы в душу его проникал неодолимый страх.
На той стороне не было больше лесочков и перелесков — их съел неисчислимый, всепожирающий татарский копь; татары валили чернолесье, обрубали ветви и листвою кормили лошадей. Неврюй не считал даже нужным таить свои силы, да это было и невозможно. До черты неба досягало чёрное его воинство. В битву против русских введены были и подверглись разгрому только первые четыре тумена — около сорока тысяч, и ещё более чем стотысячная армия здесь, под рукой Неврюя, ждала, когда ей освободится место для боя, да столько же, под водительством хана Алабуги, ушло окружать русских, обкладывать их широкой облавой за десять вёрст от места боя — так, чтобы не спасся никто.
Пятьдесят тысяч — пять туменов конницы, под начальством Бурджи-нойона, ушли на окруженье засадного русского полка. Известно было из донесенья мостового мытника, Чернобая Акиндина, что один полк русских, минуя мост, ушёл вправо, тогда как все прочие — влево, и Неврюй вывел из того соответствующее истине заключенье, что один полк — засадный.
Только ещё не был найден и не обложен этот полк!
Татар было столь много, что отплески разгрома первых четырёх туменов не смогли ещё проникнуть, докатиться до глубины татарской толщи. Волна стадного ужаса, распространяемая накатом бегущих, смогла перехлестнуть на татарский берег Клязьмы, но тут она расшиблась о тумены, сцементированные другим ужасом — ужасом кровавой дисциплины. Тут все были коренные монголы — с берегов Орхона и Керулена!
С тем же самым чувством надвигающейся опасности, которое охватило князя Андрея, взирал на поле победной битвы и воевода большого полка Жидислав. Он понимал одно: что до тех пор только и можно удерживать поле бон (с тем чтобы под покровом ночи уйти на север), доколе удаётся шеломить врага одною внезапностью за другой. Внезапностью оказалась для татар атака на них с трёх сторон тотчас после переправы. Внезапностью оказался и удар самого князя во главе его охранной дружины. Ну а дальше что?! И старик воевода, сам не замечая того, стонал, перемежая напряжённую думу свою о битве с молитвенными воплями к богу. Он всматривался в поле битвы, всячески изыскивая пути и место для на несения хотя бы ещё одного, столь же внезапного и столь же сотрясающего удара.
Тот шум и смятенье, которые донеслись от ставки царевича до слуха хана Неврюя, были прямым следствием нового, третьего внезапного удара, который был нанесён Орде воеводою Жидиславом.
Старому воителю, когда он взвесил и выверил всё, представился единственный путь для такого удара, а именно: скрытно подвести ударное войско вверх по Клязьме, перелеском сего берега, и ударить как раз напротив хорошо видных шатров с парчовым верхом, отблескивавших на солнце.
Броды были ведомы Жидиславу! И удар удался!.. Вот почему и примчался гонец от Чагана к Неврюю.
Чаган был захвачен врасплох. Юный хан благодушествовал в своём шатре, внимая музыке, неторопливо поглощая пилав из перепёлок, монгольские шарики из сушёной саранчи, перемолотой с мукой на ручном жёрнове, и персики в сливках.
На огромном золотом блюде — из ризницы Владимирского Успенского собора — лежали ломти чарджуйской дыни, огромные, словно древко лука, наполняя медовым и свежим благоуханьем воздух шатра.
Сбоку царевича сидел на особом коврике и подушке его личный медик, травовед и астролог, из теленгутов, седенький безбородый старичок в чёрном китайском клобучке. В его обязанность, помимо всякого рода мелких услуг Чагану, входило и отведывание блюд, подаваемых царевичу, дабы показать, что ничего не отравлено.
Вход в шатёр Чагана был закрыт шкурою тигра. В шатре было прохладно. Свет проникал сквозь верхний, отпахнутый, круг шатровой решётки.
Медик налил и подал Чагану золотую чашу с кумысом. Чаган велел пить и ему. Пили молча. Когда царевич закончил трапезу, он отёр пальцы от жира большим чесучовым платком, бросил его и вскочил на ноги.
Ему не терпелось взглянуть на пятый шатёр своих жён — шатёр, приготовленный для Дубравки. Он запретил туда следовать за собою кому бы то ни было. Ему одному хотелось побыть в той кибитке, предвкушая мгновенье, когда Дубравка-хатунь, супруга ильбеги Владимирского, вступит в неё и закроет лицо от ужаса и стыда...
Едва Чаган вышел из шатра, как ему подвели белоснежного златосбруйного коня. Пусть всего два шага отделяют кибитку от кибитки — монгол не унизится до того, чтобы пешим пройти даже и этот путь!..
...В шатре, для Дубравки предназначенном, рабыни только что закончили все приготовления. У округло выгнутой стены кибитки, рядом с постелью, сложенной из шёлковых, на гагачьем пуху, одеял, высился резной, из слоновой кости, туалетный столик со стальным, отлично отполированным зеркалом. Перед зеркалом разложены были флакончики для ароматических веществ, щипчики для выщипыванья бровей, ногтечистки, копоушки и множество прочих мелких вещиц интимного обихода знатных китаянок и монголок — вещиц, на усвоение которых бедной Дубравке, вероятно, понадобилось бы некоторое время и привычка.
Но забыт был и новенький кожаный подойник для доенья кобыл, чем но пренебрегала и сама супруга Менту, Котота-хатунь.
Свет солнца, проницал пыль, косым столбом упирался в ковры, постланные поверх войлока. В кибитке царил благоухающий полумрак.
И, глядя на этот столб света, Чаган невольно вспомнил, как по такому же вот столбу света в верхнее отверстие юрты к вдовствующей княгине Алтан-хатуни[43] спустился некий златокудрый, прекрасного вида юноша, который затем, уходя, оборотился рыжим псом, и тогда произошло таинственное зачатие того, кто родился на свет с куском опеченевшей крови в руке, кто является и ему, Чагану, великим предком, — сам Священный воитель, чьё имя не произносится!..
И Чаган запел.
Испуганный хорчи ворвался в шатёр и упал на землю. Зная, как тяжко он провинился перед ханом, оруженосец, не вставая с земли, повернулся головою в сторону, где стоял Чаган, и распростёрся перед ним.
— Чаган! — воскликнул он. — Смилуйся над рабом твоим! Но русские от шатров твоих менее чем на одно блеянье барана!..
— Коня! — крикнул царевич.
Оруженосец ринулся из шатра. Ещё раз окинув оком и высокую постель из пуховых одеял, и туалетный столик, и подойник для кобыльего молока, Чаган отпахнул завесу входа и почти с порога поставил ногу в стремя.
И едва он оказался в седле, как гладкое лицо его приняло выраженье спокойствия и суровой надменности.
Он глянул, прищурясь от солнца, в ту сторону, где уже прорвавшийся русский отряд рубился с его многочисленной охраной, состоящей почти сплошь из его родичей, и быстро охватил всю опасность положения.
Чаган глянул на шатры своих жён. Трое из его супруг-монголок уже сидели в сёдлах, разбирая поводья. Все они были в штанах для верховой езды. У одной из ханш за спиною, в заплечном мешке, виднелся ребёнок с соской.
И только из четвёртого шатра — шатра китаянки — всё ещё слышался злой визг и шлёпанье: китаянка била нерасторопных рабынь.
— Поторопите! — сказал он шатёрничему.
Но как раз в этот миг ханша-китаянка, сидя в крытых носилках, несомых на шестах двумя русскими рабынями, предстала перед очами своего повелителя, спешно дорумянивая щёки.
Чаган подал разрешительный знак, и, окружённые каждая своей свитой, рабами и рабынями, однако под общей охраной, ханши тронулись в путь.
Теперь он вздохнул свободнее. Руки его были развязаны! Он обозрел поле боя. Его личная гвардия отчаянно отстаивала взъём того самого бугра, на котором разбита была его ставка. Будь это во время вторженья в какую либо новую страну, он счёл бы делом чести нойона кинуться в битву лично. Но ильбеги Андрей в его глазах был только взбунтовавшийся данник, и ему, царевичу из дома Борджегинь, казалось зазорным погибнуть под саблей кого-либо из воинов этого данника. Было и ещё одно обстоятельство, в силу которого Чаган решил на сей раз не рисковать жизнью: он ждал Дубравку. Он знал, что вся армия князя Андрея обложена широкой облавой, дуги которой уже сомкнулись далеко в тылу русских, и что вряд ли княжеской чете удастся вырваться из этой облоги. «Так было бы ниже разума умереть, не насладившись местью и торжеством над тою, что сочла и день свадьбы своей осквернённым воздух свадебного чертога моим присутствием!»
И, уверенный, что отборная охрана его скорее вся полижет под мечами русских, чем пропустит прорваться их к его шатрам, Чаган громким голосом, чтобы донеслось до всех, надменно проговорил:
— Я поля эти превращу кровью в озеро Байкал! Стопа моя обрушит берега этой дрянной речонки Клязьмы так, что она кинется искать себе новое русло!.. Кровью станет течь, а не водою!.. Неврюя ко мне!.. — крикнул он.
И слуги подхватили слово из уст его.
Стон перед Чаганом, сидящим в седле, хан Неврюй показывал все признаки раболепия и беспредельного послушанья, какие полагалось проявлять по отношению к старшему начальнику.
Юный хан потребовал, чтобы Неврюй немедленно ринул всю армию на тот берег, дабы раздавить русских. Гордость помешала ему потребовать подмогу, чтобы отбить русских от шатров. «Погоди же, старый прокажённый! — мысленно грозил он Неврюю. — Мы с тобой разочтёмся после. Твоя старая шея будет ещё синеть в петле!..»
Он отпустил военачальника.
Ему показалось, что прошло очень много времени. Выругавшись сквозь зубы, он отдал приказ сложить кибитки и отправить их дальше в тыл, вслед за жёнами.
Грозно орущий вал русских воинов вскатывался по взъёму холма, подминая под себя охрану Чагана. Двое хорчи схватили под уздцы лошадь ордынского царевича и повлекли её за собой. И, ломая гордость, Чаган не противился. Промедли он ещё — и ему бы не миновать плена или бесславной гибели.
Как буря в пустыне Гоби, налетел царевич на Неврюя, но, как изваянье, иссечённое из дикого камня, над которым века проносятся, не оставляя следов, недвижно и безразлично встретил старый военачальник налёт царевича.
Чаган грозил ему немедленной казнью. Только ухо белоснежной лошади Неврюя, обращённое к Чагану, чуть шевельнулось от его крика. Лицо же самого старого хана оставалось неподвижным.
«Кричи, молокосос, надрывай глотку! — думал сподвижник Батыя. — А если мне надоест слушать, я прикажу своим хорчи отрубить тебе голову. Только не хочется доставлять этим лишнюю неприятность Бату и твоему Менгу!..»
Однако, дав почувствовать Чагану, что он его не боится, старый хан счёл за благо выразить внешнее почтение и сделал вид, будто слезает с коня, дабы стоя ответить ставленнику великого хана.
Но и Чаган был воспитанник той же самой ордынской школы политических ухищрений и вероломства: он с притворным простодушием, как погорячившийся напрасно, удержал Неврюя в седле.
— Почему ты не втопчешь этих русских в землю? — спросил он.
Неврюй молчал, вглядываясь в синюю даль противоположного берега.
— Я втопчу их в землю, — бесстрастным голосом отвечал он, — когда увижу, что настал час!..
Чаган, подчинись невольно этой неколебимой уверенности старого полководца, стал смотреть в ту же сторону, куда и Неврюй.
Наконец глаза его усмотрели далеко, за правым крылом русского стана, высокий прямой столб дыма. Чаган искоса глянул на Неврюя. Маленькие глазки старого хана закрылись. Голова откинулась. Губы были закушены, словно от нестерпимого блаженства.
Столб дыма, отвесно подымавшийся в знойное небо, являлся условным знаком, которого давно уже дожидался Неврюй: он означал, что засадный полк русских наконец найден, окружён и уничтожается...
Теперь Неврюй ничего больше не страшился! Он, взбодрясь, глянул на Чагана.
— А теперь я втопчу их в землю! — прохрипел он.
Лицо его исказилось улыбкой, приоткрывшей тёмные корешки зубов. Он взмахнул рукой. И этот взмах повторили своим наклоном тысячи хвостатых разноцветных значков.
И вот всё, что тяготило и попирало татарский берег Клязьмы, все эти многоязычные орды и толпища, вся эта конно-людская толща, сожравшая даже и леса на многие вёрсты, — толща, привыкшая расхлёстываться в тысячевёрстных пустынях Азии, а здесь как бы даже вымиравшая за черту неба, — толща эта вдруг низринулась по всему своему многовёрстному чёрному лбищу к извилистой, словно бы вдруг притихшей Клязьме и перекатилась через неё, словно через кнутик!..
Татары хлынули губить Землю...
— Князь, погинули!.. Сила нечеловеческая!.. Сейчас потопчут! Будем помирать, князь!.. Ох, окаянные, ох, проклятые, что творят!.. Господи, пошто ты им попускаешь!.. — в скорбном ужасе от всего, что открывалось его глазам на подступах к бору, где стоял великокняжеский стяг, воскликнул престарелый воевода Жидислав.
Андрей Ярославич промолчал. Да и что было сказать? Те отдельные, ещё сопротивлявшиеся татарам, ощетинившиеся сталью рогатин, копий, мечей, островки русских, что раскиданы были там и сям по луговине Клязьмы, — они столь же мало могли задержать чудовищный навал с тысячной ордынской конницы, как десяток кольев, вбитых я морской берег, могут задержать накат океана...
Татары как бы стирали с земли один островок сопротивленья за другим. Разрозненные конные отряды русских отчаянно пробивались к бору, на опушке которого разленилась отце великокняжеская хоругвь.
Значит, верили ещё, что там, под рукой верховного поведя, есть какая-то сила, прибережённая на последний час, способная ринуться на выручку! А уж не было — ни у князя, ни у воеводы Жидислава — после окруженья и гибели засадного войска — никого, кроме только сотни заонежских да вологодских стрелков, рассаженных на деревьях опушки, да остатков юной дружины, да ещё всех тех, кто успел прибиться, с разных сторон, к великокняжескому стягу.
Андрей Ярославич опустил голову.
— Ну, Жидислав Андреевич, — обратился он к воеводе, — давай простимся перед смертью!
— Простимся, князь! — отвечал воевода.
И, приобняв друг друга о плечи, они троекратно облобызались последним смертным лобзаньем.
— А теперь!.. — вдруг воскликнул Андрей Ярославич, — и как бы пламенем некой бесшабашности обнялося вдруг его смуглое резкое лицо. — А теперь!..
И князь уже выхватил свистнувшую о ножны саблю.
Но на мгновенье замедлился. Снова оборотился к воеводе, глянув через плечо. Во взгляде его была мольба, исполненная лютой тоски.
— Жидислав Андреевич!.. Последней моё княжое слово, — тихо проговорил он. — Спасай княгиню... буде ещё возможно.
И князь тронул шпорой коня.
— За мной!.. — крикнул он, вставая на стременах.
Но ему не дали опуститься снова в седло. По мановению Жидислава двое конных телохранителей, обскакав с двух сторон князя Андрея, заградили дорогу его коню. Два других дюжих ратника вынули князя из седла, словно мальчика. Стремительно приняв его на руки, они окутали его огромным плащом — так, что он и пошевельнуться не мог, и, один — за плечи, другой — под колена, быстро понесли его к неглубокой, укрытой в кустах лощинке, где в нетерпенье, обрывая листву, всхрапывала и отфыркивалась от наутов рыжая тройка, впряжённая в простую, на добрых стальных осях, телегу. Неширокая, она заполнена была вся, вплоть до грядок, свежим сеном, поверх которого брошены были ковры.
Обо всём этом, ещё до ратного сбора, жалеючи юную княгиню и не ожидая доброго конца, позаботился тайно воевода Жидислав.
Дубравка, жалкая, согбенная, смотрящая угрюмо в землю, была уже здесь, на телеге. В своём мужском одеянье она сидела, как сидят простолюдины, опустя ноги с тележной грядки.
Она даже не оборотилась, когда Андрея, уставшего угрожать, ругаться и барахтаться, почти кинули позади неё на телегу. Двое принёсших его ратников вспрыгнули на грядки телеги: один — о головах, другой — в ногах князя, удерживая его; третий взметнулся на передок телеги — править лошадьми, — и рыжая тройка рванула, низвергаясь в лощину, и понеслась вдоль её, круша и подминая кустарник и мелкий березняк, будто полынь.
— Хотя бы он зацепился за небо! — кричал Чаган. — Сорвите мне его и оттуда! Дайте мне его, этого злокозненного раба, именующего себя великим князем!
Шатры Чагана вновь были разбиты на прежнем месте. Неврюй и Чаган стали на костях! Уже прирезан был последний раненый русский воин. Уже шестая корзина, в которые жёны татар у себя, в кочевьях, собирают аргал — сухой помёт для костров, — уже шестая такая корзина стояла у входа в шатёр Неврюя, до краёв полная ушами, отрезанными у трупов. Голова Жидислава, в отдельном просмолённом мешке, ибо её предстояло отослать к Батыю, вернее — к Берке, валялась поодаль шатра. Страж придверья, изнемогающий от жары, лениво отгонял от неё голодных монгольских собак.
Нашествие самого Батыя, тринадцать лет тому назад, но было столь опустошительным и кровавым, как нашествие Неврюя, Алабуги и Укитьи.
Глади мир сожжён был почти что до основанья. Дворцы разрушены, Храмы осквернены. Люди укрылись в лесах...
Но татары проходили насквозь владимирские и мещёрские леса, сперва обложив намеченное место многовёрстной перекидной облавой, и вырезывали пойманных, оставляя на угон только нужных для них ремесленников да молодых русских женщин, о которых недаром же возглашали татарские поэты, что жёны русских — это как бы розы, брошенные на снег...
...Получив повеленьем Сартака, вслед за известием о восстании Андрея, ярлык на великое княженье Владимирское и золотую пайцзу от Менгу, данную ему через того же Сартака, — Александр Ярославич мчался, кровавя шпоры, губя без жалости сменных коней, к себе, на Владимирщину.
«Боже мой, боже мой! — обдаваемый ужасом уже где-то совершившегося, но ещё не представшего взору, восклицал Александр в глубинах своего искровавленного сердца. — Что застану?! Кого ещё удастся спасти?!»
И словно бы некий хохот всей необъятной Азии — то рожей Берке, то упитанной мордой Чагана — звучал в душу князю:
«Вот, вот он едет, великий князь Владимирский, — великий, князь над трупами и над пеплом!»
Солнце уже закатывалось над синим кремлём бора. Оно было багровым, словно бы его выкупали в крови.
А телега, уносившая с поля боя великого князя Владимирского и супругу его, всё мчалась и мчалась. Но уж не тройка, а лишь двое рыжих коней мчали эту телегу. Третья лошадь пала. Андрей обрубил постромки. Теперь они были только вдвоём: дружинники, сопровождавшие их, один за другим, покинули великокняжескую чету, ибо не под силу стало коням; да и впятером труднее скрыться от погони, а ежели настигнут татары, то какая ж там защита — эти трое дружинников? И князь отпустил их. Он сам принял вожжи.
Никто не признал бы в беглецах великого князя Владимирского и княгиню его: оба они были одеты в сермяги, подпоясанные опоясками, в колпакатые шапки простолюдинов и в лапотки с хорошо навёрнутыми онучами. Дубравка рассмеялась сквозь слезу, когда час тому назад, остановившись в лесу, чтобы дать вздохнуть лошадям, Андрей Ярославич достал из-под ковра одеянье простолюдинов для себя и княгини, о котором сказал ему старший из дружинников, и сумрачно приказал ей переодеваться. На неё жалостно было смотреть, как стояла она, рассматривая с печальной усмешкой новенькие, быть может с какого-нибудь переславльского пастушка снятые, маленькие лапти.
Но Андрей прикрикнул на неё и помог ей переодеться.
И снова — по корням, но рытвинам, буеракам, сквозь хлёст разверзаемых ветвей!.. Смотрящий со стороны подумал бы, что эта бешеная телега несётся, преследуемая волками. Да и впрямь, уж не волк ли мчался, вываля красный язык, неотступно по оттиснутому на траве следу от тяжёлых, стянутых стальным ободом колёс?
Это была собака — та самая, которую в Берендееве Александр приручил к Дубравке — охранять княгиню, когда она уходила на озеро одна. Вслед за телегой ринулся и верный Волк — и никто не отважился преградить путь этому дикому северному псу ростом с годовалого телёнка, с башкой матерого волка, с клыками как гранёный клинок.
Дорога неслась под гору, по зелёному горбатому мысу, как бы в конец зелёного клина, образованного владеньем в Клязьму некой другой речушки. Андрей беспокойно оглядывался: с того берега Клязьмы, высокого, мчащаяся по горбу зелёного клина их телега была видна как на ладони.
Вдруг как бы некая чёрная птица, мелькнув перед самым лицом князя, впилась в круп рыжей пристяжной. И в тот же миг Андрей Ярославич понял, что это — стрела. Пристяжная, взъяревшая от боли, взметнула задом, грянула копытами в передок телеги, и, забросив их за оглоблю коренника, рухнула.
Дубравку чуть не выбросило наземь... Андрей кинулся рубить постромки валька, распрягать коренного. «Только б не ударили сейчас!..» — мысленно восклицал он. Едва он высвободил пристяжную, как обезумевшее от боли животное ринулось прочь, хлеща и обдирая ремнями постромок листву прибрежного ивняка.
В отдалении, на широком основании клина, показались три всадника. Это были татары...
То бормоча обрывки молитв, то ругаясь, то крича на Дубравку, Андрей Ярославич с её помощью перевернул телегу на ребро, колёсами к себе — ради того, чтобы и они, эти колёса, до какой-то степени прикрывали его и Дубравку от стрел, пущенных сбоку.
Татарские всадники не торопились: они ехали, всматриваясь и время от времени перекидываясь словами.
Андреи Ярославич наладил стрелу и прицелился. Оттянутая до самого уха, спела дальнобойная тетива! На этом расстоянье — менее одного перестрела — Андрей не промахивался даже и в тетёрку. Средний татарин рухнул с коня, прежде чем товарищи успели поддержать его. Прикрывшись лошадьми, двое других подползли к нему и, должно быть, убедясь, что он мёртв, стали всё так же, по-за конями, отбегать: один — вправо, другой — влево.
Дубравка хотела выглянуть из-за телеги, но Андрей, разозлясь, молча и с силой пригнул её к земле. Сам он вёл бой с предельной осторожностью, выцеливая и наблюдая татар в щель между грядкой и настилом телеги. Татарские стрелы так и стучали, одна за другою, в днище телеги, пробивая доски насквозь и расщепляя их. Скоро вся вогнутая сторона телеги стала как гвоздями утыкана: так выступают железные зубья в бороне...
Андрей Ярославич покачал головой.
— Ишь стрел, стрел-то у стервоядцев! — пробормотал он. — Дубрава! — негромко позвал он.
Дубравка прекратила устанавливать скатку из ковра между верхним и нижним колёсами для защиты от боковых стрел.
Андрей одобрительно кивнул ей головою, увидав её работу, которую она догадалась сделать сама.
— Молодец! — сказал он. — Доделаешь — глянь: сколько стрел у меня осталось в колчане.
Дубравка, установив ковёр, осторожно сотрясая колчан, повыдвинула бородки стрел. Молчанье, которое длилось, пока она считала стрелы, показалось Андрею нестерпимо долгим.
— Ну? — нетерпеливо спросил он.
— Андрей!.. — словно бы ахнув от ужаса, произнесла Дубравка. — Все переломаны... целых — только две... Кто-то все стрелы перепортил тебе!..
— Полно! — угрюмо произнёс он. — Никто не портил... Это — когда они рвали меня с седла да потом в телегу валили!.. Ну что ж, — заключил он, стало быть, нельзя тратить зря!..
Невесело усмехнувшись, князь бережно положил обе стрелы на колесо слева, опереньем к себе.
— По стреле на рыло! — пошутил он, чтобы хоть немного ободрить Дубравку. — Вот что, Дубравка, — приказал он. — Припади за ковром и тихонько осматривай свою сторону и сзади, чтобы не обошли, собаки!.. Да возьми саблю мою!..
Сказав это, он отстегнул и уронил на траву свою дамасскую саблю.
Татары — тот и другой — крались по уреме берега, по-прежнему укрываясь за своими лошадьми. Они то и дело останавливались и принимались пускать в беглецов стрелы — с такой частотою, что одна стрела догоняла другую.
Андрей Ярославич как ни присматривался, а не мог высмотреть такого мгновенья, когда можно было бы поразить одного из них наверняка. Между тем надо было что-то немедленно предпринимать: оба противника стали близиться, пересекая зелёный клин и заходя в тыл. И Андрей Ярославич, выбрав миг, пустил стрелу в того татарина, что приближался справа. Он целил в плечо, которое на мгновенье высунулось из-за лошадиной морды. Стрела впилась в голову лошади. Лошадь вздыбилась. Татарин оторвался от повода, упал, а поднявшись, кинулся бежать в кусты.
Андрей Ярославич угрюмо покачал головою.
— Худо! — пробормотал он. — Остаётся одна стрела на двоих! Ну посмотрим!..
Он весь стал как сокол, выстораживающий мгновенье удара.
— Тесанём саблей, Дубрава, если что, — ободрил он княгиню. — Только ради бога, не высовывайся!..
Он понимал, что надо кончать: каждое мгновенье могли нагрянуть новые...
Мысль работала на пределе какой-то небывалой в заурядье, как бы предсмертной ясности:
«Затаиться... Подпустить... Одного застрелю... другого — саблей... Только бы, только бы ещё не наскочили! А тогда... её — ножом в сердце!» — подумал он о Дубравке.
Оба татарина давно уж сообразили, что у князя вышли все стрелы. Они бы застрелили его, быть может, если бы не боялись нарушить приказ Чагана, который запретил убивать Андрея, но велел доставить его живьём. Им не возбранялось нанести ему раненье, чтобы лишить возможности сопротивляться, но только не убивать! И потому они подкрадывались всё ближе — с тем чтобы целиться наверняка.
Одного из них уложил-таки Андрей последней, оставшейся у него стрелой!
Но оставшийся в живых татарин успел забежать в тыл и с некоторого отдаленья стал нещадно, словно бы забыв о повеленье хана, осыпать стрелами обоих — и Андрея и Дубравку.
Гибель становилась неизбежной...
Вдруг татарин, только что начавший тщательно прицеливаться, взвизгнул, подпрыгнул, словно тарантулом укушенный, и выронил лук...
Огромная, похожая на волка собака, исходя пеной ярости, рвала в клочья бешмет и мясо татарина, дорываясь до горла.
Когда наконец, на миг отшибя осатаневшего пса, татарин взметнулся на лошадь и помчался прочь, Волк всё ещё метался на коня и всадника, выхватывая кровавые клочья из бедра татарина...
Андрей понял, что нельзя терять ни одного мгновенья. «Сейчас он ещё приведёт!» — мелькнуло у него. Он схватил Дубравку на руки и бросил её на спину коренника.
— Скачи и не оглядывайся! — вскричал он. — Вон туда — на север, на север!..
— А ты?
— Ты меня погубишь и себя!.. Я тебе говорю!..
— Нет!.. — сказала Дубравка, покачав головой. — Где ты — там и я!..
И великая княгиня Владимирская уже готова была спрыгнуть на землю.
И тогда, вне себя от неистового гнева, Андрей Ярославич навесил ей такое словцо, которого годами не слыхивали от своего князя даже и доезжачие его и псари!
Выругавшись, он выхватил из-за голенища кривой засапожный ножик и подкольнул им коня, на котором сидела Дубравка.
— Держись! — крикнул он. — Держись крепче! И — на север, на север!..
Мгновенье — и на глазах князя рыжий конь, уносивший Дубравку, шумно ввергнулся в Клязьму. Ещё мгновенье — и вот он уже там, по ту сторону, на пригорке! И вот — исчезнул в лесу!..
Андрей Ярославич, озираясь, кинулся к трупу татарина, чтобы спять с него колчан, полный стрел. Он уже и сделал это, как вдруг счастливая мысль осенила его. «Дело!» — глухо пробормотал он и, ухватя убитого за ворот бешмета, пригибаясь, быстро поволок тело в густой кустарник, окаймляющий Клязьму.
Он вышел оттуда одетый во всё татарское. Не выходя уж больше на луговину, держась кустов, он татарским обычаем подсвистал коня, изловил и взметнулся в седло. Негромко гикнув над самым ухом лошади, он отдал поводья, и татарский конь помчал его к тому самому бору, где только что скрылась из глаз Дубравка.
Припадая на истерзанную собакой ногу, весь в кровавых лохмотьях, татарин рухнул плашмя перед Чаганом.
— Они пойманы, они пойманы оба — и князь и княгиня! — воскликнул татарин.
Полное надменное лицо Чагана обошла торжествующая улыбка.
— Хан! Они в горсти твоего преобладанья находятся, и тебе стоит только сжать эту горсть, чтобы схватить их!.. Мы нашли их...
И, всё более обдаваемый ужасом предстоящего ему наказания, татарин, путаясь в рассказах, поведал Чагану всё, начиная с того, как догнали они втроём Дубравку и Андрея, как двоих застрелил Андрей, и кончая нападеньем собаки и своим бегством.
— Собака! — вдруг взвизгнул Чаган. — Ты падаль, и потому псы едва и не растерзали тебя! Нет, нет, ты не монгол! Матерь твоя зачала тебя в блуде! Ты, ты...
И, внезапно бросившись на татарина, опрокинул его на спину и зубами схватил за горло. Татарин захрипел, но Чаган всё же оторвался от поверженного. Встал на ноги. Глаза его были мутны. Лицо пожелтело. Он пнул лежавшего носком узорного сапога.
— Вставай, собака, и веди нас туда, где ты оставил их! — приказал он. — Все на коней!
Царевич опустился в седло. Тысяча всадников ринулась вслед за ним — на небывалую облаву, в загоне которой метались два человека: великий князь Владимирский и княгиня его...
«Нет, — мысленно, с угрюмым злорадством, восклицал Чаган, как бы вновь видя пред собою Дубравку в тот миг, когда она, гневная, в своей золотой диадеме на гладко причёсанных волосах, в длинном, серебристого цвета платье, покидала свадебное застолье, оскорблённая его появленьем. Хотя бы и крылатый конь уносил тебя, — всё равно: эта пот рука схватит его под уздцы!..»
Чагану было неведомо, что уже схвачен был под уздцы рыжий копь, уносивший Дубравку, — схвачен волосатой рукой в засученном рукаве, тогда как другая, такая же рука перехватила руку Дубравки, стиснула и перекрутила так, что, вскрикнув, княгиня выронила короткий нож, занесённый ею над головой нападавшего...
Но это были русские руки.
Всю дорогу Невского обдавал и преследовал омерзительный, надолго въедавшийся в сукно одежды запах гари, остывших пожарищ и трупного тленья.
Навстречу гнали пленных. Женщины были связаны меж собой волосами — по четверо. Все они были в пропылённых лохмотьях, босы, и только у некоторых ноги обёрнуты были мешковиной или иной какой тряпкой и обнизаны верёвочкой.
Лениво, вразвалку восседающий на своём косматом копе, монгол ехал позади пленниц, время от времени подгоняя отстающих длинной пикой. С мужчинами — кто отставал — поступали проще: их тут же, чуть отведя в сторонку, обезглавливали саблею, приказав для того стать на колошей и нагнуть шею. В толпе угоняемых женщин, как только поравнялся с ними Александр, вдруг произошло замешательство, и, вырвавшись из толпы, в седых пропылённых космах старуха кинулась было к его стремени. Двое монголов с ругательствами втащили её обратно.
Только отъехав, Александр признал в этой измождённой и уж, по-видимому, лишившейся рассудка старухе боярыню Марфу — ту, что была постельничьей княгини Дубравки...
Невский погонял коня. Супились могучие его охранители — те, что были самим Александром и в землях Новгорода, и на Владимирщине «нарубаны», — рослые, удалые, не ведающие страха смерти, не верящие ни в чох, ни в сон.
— Срамно ехать! — ворчали иные из них, исподлобья взглядывая на человека, в которого у каждого из них был словно бы вложен кусок своего сердца. — Да что уж мы — не русские, что ли? На глазах нашего брата губят!.. Над женщинами охальничают, — а он едет себе!.. А говорили ведь, какую власть ему Сартак надо всей Землёй дал!.. С пайцзой едет: все ему подчиниться должны!.. Вот те и с пайцзою!.. Вот те и подчиниться!.. Нет, когда бы оно так, дак разве бы Ярославич наш дозволил при себе творить такое?
Ошибались они: в любой миг Невский мог бы властно вмешаться и пресечь и эти казни, и эти душу цепенящие гнусности, что вытворяло окрест, у него на глазах, всё это многоплеменное скопище, согнанное со всей Азии. Но тогда бы ему пришлось продвигаться к цели своей, то есть к ставке Чагана, черепашьим шагом. А это означало бы, что за одного спасаемого здесь, на глазах, многие тысячи таких же русских людей по всей Владимирщине будут преданы на позор, на истязанья, на смерть, ибо там сейчас, по всей Владимиро-Суздальской земле, в каждый бой сердца, в каждое дыханье его, гибнут, и корчатся, и воют в непереносимых мученьях, и повреждаются умом и мужчины и женщины, и стар и млад... Ведь приказано уничтожать «всякого, кто дорос до чеки тележной!..».
И Александр мчался на храпящем коне впереди тысячи богатырей, ибо в Орду он всегда, чего бы это ни стоило, ходил «в силе тяжкой, со множеством воев своих», — мчался, словно бы чугунными пластинами заслонив очи свои справа и слева и утупясь в гриву коня.
«Эх, Андрей, Андрей!.. — гневно и скорбно говорил он мысленно брату своему. — Ведь этакую кровь людскую зря в землю отдать! Этакое проклятье людское навлечь на весь дом наш!.. И что было послушать тебе меня? А ныне и мои силы подсёк... Теперь поди ж ты — удержи их, татаровей!.. Теперь уж влезут в Землю!.. Теперь и моё всё, что успел завершить втайне, тоже отыщут, ведь войско — не иголка: хоть разбросай его по сотням, а всё равно не укроешь, когда баскаки зарыщут по всей Земле!.. Ох, Андрей, Андрей! — всё так же мысленно говорил он, хмурясь и стискивая зубы. — Не знаю, жив ты — не жив, а попадись ты мне, — душа не дрогнет! — не стану и слова ханского ждать: сам судья тебе буду смертный, немилостивый!..»
Андрей Иванович, некогда — дворский князя Даниила, а ныне — стоящий на челе дружины Невского, осадив коня, вытянулся на стременах и встревоженно стал всматриваться в пыльную даль.
— Беда, Александр Ярославич! — сказал он. — Сила поспей на нас неслыханная!.. Подтянуть бы надо всех наших сюда!..
Они ехали с князем стремя в стремя, однако, углублённый и раздумье, Александр ничего не ответил. И воевода распорядился сам: по его знаку дружинники со всех сторон оградили князя.
Между чем полчище азиатском конницы, со сверкающими на солнце кольями, с хвостатыми белыми и чёрными значками, всё вырастало и вырастало.
С далёкого холма, окружённый своими нукерами и гонцами, взирал на всё это царевич Чаган.
Он хорошо знал, что во главе дружины своей приближается Александр, возвращающимся из Донской ставки Сартака. И Чаган был рад этому! Сама судьба посылала ему сегодня, под сабли монгольских воинов, этого опасного гордеца! После можно будет отговориться, что русские первыми начали драку, понося имя великого хана... Да и кто же в Орде нелицемерно станет скорбеть о гибели Искандер-князя?! «Такого, — говорил на совете Берке, — безопаснее иметь открытым врагом, чем исправным данником».
Берке умнее их всех. Только слишком долго, как трус, ходит он вкруг престола Джучи, дожидаясь, когда полумертвец Батый опростает престол... Если бы он, Чаган, мог, безопасно для своей шеи, посоветовать Берке, он сказал бы: «Начни с Сартака! Когда ты с ним покончишь, недолго проживёт и отец: ибо смерть любимого сына уложит в могилу и старого Бату...»
— Князь!.. Александр Ярославич! — тревожно вскричал Андрей-дворский. — Мчат прямо на нас!.. Высылал к ним трубача, махальных: махали белым, в трубу трубили, якобы не слышат, не видят, — прут!.. Боюся, не пришлось бы их рубить!
Александр поднял голову. Прищурился. Азия — воющая, гикающая — окружала дружину со всех сторон. Дворский с мольбою и ожиданьем глядел на него.
— Рубить! — спокойно приказал Александр. Сам же он не сделал ни малейшего движенья. А уж как зудела рука! До чего истосковалась ладонь по сабельной тёплой рукояти! «Развалить бы сейчас, хватить с продёргом какого-нибудь дородного бека до самой до седельной подушки!.. Нельзя!.. Ну, пускай хоть воины потешатся!..»
— Обнажайте оружие! — звонко крикнул Андрей-дворский.
И тысяча сабель сверкнула в воздухе. Александр Ярославич давно уже счёл нужным перевооружить дружину свою с мечей на сабли.
...И началась кровавая пластовня!.. Ошарашенные отпором, татары не выдержали. Сперва заметались на месте, потом опрокинулись и врассыпную и кучами понеслись вспять...
Александр воспретил преследованье.
— Уйми! — коротко сказал он Андрею Ивановичу — сказал не без тяжёлого вздоха...
Глухо ворча, будто отлив моря, принуждённого оставлять захваченную им сушу, отхлынули под свои хоругви дружинники Александра.
Как ни в чём не бывало Невский продолжал путь свой к шатру, сверкавшему на холме.
Чаган, потрясённый всем, что произошло у него на глазах, готовился было дать знак, чтобы бросить на Александра целый тумен. Однако другое чувство — жажда глумленья над этим ненавистным человеком — удержало ордынского царевича: «Пускай приблизится. Когда станет на колени, то не столь уж и высок покажется!» — подумал, усмехаясь, Чаган.
Он стал ожидать приближения Александра. Только одно странное обстоятельство удивляло Чагана: русский князь оставил позади всю свою дружину и приближался всего лишь в сопровождении трёх знатнейших воевод, — и тем не менее взбудораженные донельзя толпы татарских всадников расступались перед ним, словно вода.
Вот уже какой-нибудь десяток сажен остался до встречи... кровь так сильно прихлынула к лицу Чагана, что ворот жёлтого бешмета, застёгнутый жемчужинами, стал душить батыря; он откинул толстую шею и всё-таки вынужден был расстегнуть верхнюю жемчужину. «Как? Да разве не в «Ясе» Величайшего сказано, что князь-данник за сотню сажен должен спешиться, раньше чем предстать перед лицом повелевающего?!»
И лицо Чагана стало словно из зелёной меди.
Но в этот миг солнце сверкнуло в золотой пластине на груди Невского — и, не рассуждая, ордынский царевич спрыгнул на землю: «Пайцза повелителя!..»
Ещё немного — и Чаган преклонил бы колени перед носителем этой золотой нагрудной дощечки, выше которой уж ничего не должно было существовать для монгола, да и не существовало. Что люди — целые царства повергались во прах пред этой золотой пластинкой величиною с ладонь, которая несла волю монгольского императора, воплощённую в изображении головы уссурийского тигра и в угловатых уйгурских письменах.
Однако Александр успел предотвратить коленопреклонённо Чагана. Он сам спрыгнул наземь, быстро приблизило! к Чагину и радушно-дружеским движеньем, слегка докоснувшись до плеч царевича, не допустил ею склониться пред ним.
Однако свита Чагана и все, кто толпился вкруг него, опустились на колени и лбом коснулись земли.
«Ими Менгу да будет свято! Кто не послушается, тот потерпит ущерб, умрёт...» — стояло на золотой пластине.
Андрей-дворский, ужо успевший обежать покои берендеевской усадьбы Невского, усадьбы, разграбленной и вен чёски осквернённой, попытался было не допустить Александра Ярославича пройти в спальные покои, ибо там валялись поруганные тела его невестки, княгини Натальи, супруги Ярослава Ярославича, и её двоих девочек, тела которых ещё не успели спрятать.
Судьба самого Ярослава Ярославича была ещё никому не известна — жив он или нет. Но если только он остался жив и попался в руки ордынцев, то лучше было бы ему умереть: ибо Татары, конечно, знали, что Ярослав Ярославич прислал в подмогу своему брату Андрею три тысячи ратников. А тогда иглы, загоняемые под ногти, были бы ещё самой лёгкой казнью!..
Александру стало уже известно, что сперва Неврюй намеревался обойти стороною личное поместье Невского, чтя охранную грамоту Батыя. Но какой-то наводчик из своих русских — предстояло ещё дознаться, кто именно, — сообщил ханам, что в усадьбу Невского во время восстания стекались воины и свозилось оружие и что туда укрылось и семейство князя Ярослава Ярославича, который помогал Андрею в его злоумышлениях на Орду.
Тогда-то царевич Чаган, как представляющий в Золотоордынском улусе лицо самого великого хана, на свой риск и страх приказал Неврюю вторгнуться в тарханные владенья Александра и предать их мечу и пожару.
...Осколки цветных стёкол, рассыпанные по выкладенному слоновой костью паркету, который был нагло загажен, а местами выгорел, ибо вторгшиеся раскладывали костры под котлами прямо во дворце, — осколки цветных стёкол звонко лопались и хрустели, дробимые твёрдой поступью Александра.
Андрей-дворский перед самым порогом спальни ещё раз забежал перед Александром, остановил его и сказал молящим голосом:
— Князь! Александр Ярославич! А не надо тебе ходить туда!.. Пошто будешь душу свою вередить, очи свои оскорблять? Зверски умерщвляли, проклятые!..
Невский отодвинул его со своего пути, распахнул дверь и вступил в свой спальный чертог...
...Когда Ярославич покидал осквернённый дворец, то не одни только сострадающие взоры чувствовал он у себя на лице. Воровские взгляды татарских соглядатаев из числа уцелевших бояр Андрея впивались в это грозно-непроницаемое лицо; подлое ухо татарских слухачей и доносчиков жадно обращено было в сторону князя: «А что-то сделает он теперь? Что скажет?»
Невский вышел сквозь обуглившуюся дверь на садовое крытое крыльцо. На мгновенье приостановился, глубоко вздохнул...
— Да-а! Похозяйничали!.. — сказал он. — Вот что, Андрей Иваныч, — обратился он вслед за тем к дворскому. — Хоронить будете без меня; всё управишь тут и приедешь ко мне во Владимир... Да распорядись, чтобы копи были в седле!..
Отдав этот приказ, Невский сошёл в сад, направляясь к озеру. И ни одна душа не посмела за ним последовать...
«...Всё так же, всё так же волны с тихостью брег целуют!» — вспомнилось ему из какой-то давно прочитанной книги, когда он стоял на самом обрыве и, осыпая носком сапога комья земли, смотрел на лоснящуюся под солнцем гладь родного озера. «Всё — то же, только вот паруса не видать ни единого... да, быть может, никогда уж и не взбелеет!.. Вот и берёзка, под которою сиживали мы, под которою испили из одного туеска с ней, с Дубравкой!.. А её уже нет!.. Где она? Что с нею? Какой ордынец возглумился над нею, где валяется, задавленная сально-кровавыми пальцами татарина?.. Что в том, ежели и узнаешь! Видел ведь, только что, осквернённое и ножами исполосованное тело Натальи и ребятишек её!.. Князь великий Владимирский!.. А может быть, и жива ещё, быть может, среди прочих, так же связанная за волосы, серая от пыли, во вретище, не узнанная мной, попалась мне по дороге, когда я мчался сюда!.. А возможно, что этот толсторожий бугай Чаган таит её где-либо в кибитке своей, — что-то уж очень он глумливо смотрел на меня, когда кумысничали у него в шатре!.. А может, он её к Берке отправил в дар, — они же ведь в добрых с ним!»
И Александр содрогнулся, представив на миг нежно-розовое и такое трогательное в своей девической чистоте ушко Дубравки, в которое, среди кромешной войлочной тьмы кибитки, Верке, этот старый сквернавец, станет нашёптывать свои ордынские мерзости...
...Уже давно, вдыхая полной грудью свежину озера, дабы хотя немного освежела душа, Александр стал чувствовать, сперва не очень беспокоивший его, тяжёлый запах, изредка наносимый ветерком. Когда же он отошёл от воды и захотел постоять возле фарфоровой берёзки, запах здесь стал ощутительнее, и теперь у него не оставалось никаких сомнений, что это — запах трупа.
Он заметил, что в ту же сторону густо летели и чёрные рои мух.
Князь сделал несколько шагов и раздвинул кусты. На лужайке, где было поместиться одному человеку, раскинуто было обезображенное, в клочьях окровавленного платья простолюдинки, тело пожилой женщины, уже подвергшееся тленью...
Князь отступил. Ветви кустов с шумом сдвинулись... И, зная, что здесь его не увидит никто, Александр, охватя огромный лоб свой, простонал покачиваясь:
— Боже мой, боже мой!.. И за что столь тяжко меня наказуешь?..
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК