ТРИ ПОКОЛЕНИЯ

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
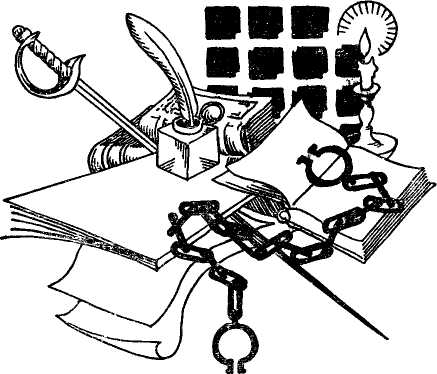
«Глядя на Петербург, размышляя об ужасной жизни обитателей этого военного лагеря из гранита, можно усомниться в милосердии господа, можно жаловаться, можно богохульствовать, но невозможно скучать. Во всем этом есть некая непостижимая тайна и в то же время — какое-то чудесное величие. Деспотизм, так организованный, становится неисчерпаемым источником наблюдений и размышлений. Эта колоссальная империя, поднимающаяся на востоке Европы, той самой Европы, (что страдает от оскудения всякой признанной власти, производит на меня впечатление выходца из загробного мира. Мне все кажется, что передо мной какой-то ветхозаветный народ, и я останавливаюсь с ужасом, смешанным с любопытством, у ног этого допотопного колосса» [1].
Так о николаевской России писал маркиз де Кюстин в 1839 году. А в 1901 году В. И. Ленин характеризовал российское самодержавие как «чисто военную, строго централистическую, руководимую до самых мелочей единой волей организацию русского правительства, нашего непосредственного врага в политической борьбе» [2]. Русская революция имела перед собой сильного противника.
Де Кюстин, либеральный консерватор или консервативный либерал по политическим убеждениям, предвидит русскую революцию и боится ее: «Представьте себе республиканские страсти…клокочущие в безмолвии деспотизма. Это сочетание сулит миру страшное будущее. Россия — котел с кипящей водой, котел, крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся все сильнее и сильнее. Я боюсь взрыва. И не я один его боюсь» [3]. Вождь российского и мирового пролетариата также видел диалектическую связь между взаимоисключающими противоположностями, на которые раскололась Россия, но в отличие от французского маркиза не имел, конечно, оснований опасаться «взрыва»: «Закон механики гласит, что действие равно противодействию. В истории разрушительная сила революции тоже в немалой степени зависит от того, насколько сильно и продолжительно было подавление стремления к свободе, насколько глубоко противоречие между допотопной «надстройкой» и живыми силами современной эпохи» [4]. При всем различии эмоциональной окраски обе оценки перспектив русской революции по существу совпадают. Мучительно долго для трех поколений русских революционеров разгоралось из искры пламя, но зато взрыв потряс весь мир.
В качестве отправной точки для анализа национального своеобразия русского революционного движения вплоть до 1917 года мы, естественно, примем классическую характеристику, данную этому движению В. И. Лениным:
«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.
Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.
Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах» [5].
В России более века отделяет появление первого революционера А. Н. Радищева от первой революции; и до того, как она разразилась, два поколения революционеров легли костьми за ее дело. Декабристы «страшно далеки от народа». Пропасть продолжает отделять от народа и следующее поколение революционеров. Но вот что удивительно: сознание своей слабости под лапой «допотопного колосса» не парализует воли к борьбе у русских революционеров, не деморализует их, не заставляет большинство их искать компромисса с царизмом. Для декабристов, вышедших на Сенатскую площадь, было совершенно ясно, что с царем следует говорить лишь языком ультиматума, подкрепленного штыками.
И для психологии движения очень характерен отрывок из личного письма одного из его участников, В. С. Толстого. После поражения восстания, представ перед судом еще несовершеннолетним юношей, почти подростком, он тем не менее был присужден к каторжным работам. По возвращении из Сибири (по амнистии, объявленной Александром II) Толстой писал: «Лично сам, — чья жизнь была надломлена за участие в тайных обществах, открытых в 1825 году, — я по совести считаю императора Николая Павловича совершенно правым, так как в политической борьбе, в которой самодержец стоит за свою власть, естественно, невозможно щадить побежденного противника; но когда настанет время правдиво вписать в историю это царство, едва ли Россия снисходительно посмотрит на этот период своей летописи: от нее не скроется, что время Николая I есть источник всех бедствий следующего царствования, в котором окончилась несчастная и бедственная Крымская война…» [6].
Здесь от противника в политической борьбе пощады не ждали, но и сами давать ее не собирались. «Теперь уже дело идет не о том, чтобы критиковать английскую конституцию. Пестель прямо ставит членам общества следующий вопрос: «В случае успеха что делать с царской фамилией?» Предложено изгнание, тюрьма, ссылка. «Надо ее уничтожить!» — сказал Пестель, выслушав все это. «Как, — вскричали все, — это ужасно!» — «Я это отлично знаю». Друзья Пестеля заколебались; пустили на голоса. Большинство были за Пестеля…» [7]. Если сам Максимилиан Робеспьер встречал 1789 год добрым роялистом и только постепенно, шаг за шагом, в ходе революции дошел до отрицания монархии, то Пестель начал с того, чем вождь якобинцев кончил. Известно, что для руководителя Южного общества образцом для подражания был Робеспьер девяносто третьего года.
Революционеры шестидесятых годов остаются верны традициям первого поколения. «Молодая Россия»* провозглашала: «…О Романовых — с теми расчет другой. Своей кровью они заплатят за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей. Как очистительная жертва сложит голову весь дом Романовых. Мы изучали историю Запада, и это изучение не прошло для нас даром: мы будем последовательней не только жалких революционеров 48-го года, но и великих террористов 92-го года; мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем было пролито якобинцами в 90-х годах» [9].
Русский революционер прекрасно понимал, против какого врага он выступает, и, обнажая меч, знал, что его не придется возвращать в ножны. В России переговоры между абсолютизмом и революцией, временные соглашения, половинчатые решения были невозможны; обе стороны полностью сознавали это, выходя на смертный бой. Здесь борцы за свободу не боятся ненавистного для западных и русских либералов слова «диктатура», и революционные русские демократы не останавливаются даже перед тем, чтобы поднять руку на кумира западной демократии, на само всеобщее избирательное право. В том же воззвании недвусмысленно разъяснялось: «Мы твердо убеждены, что революционная партия, которая станет во главе правительства, если только движение будет удачно, должна сохранить теперешнюю централизацию, без сомнения, политическую, а не административную, чтобы при помощи ее ввести другие основания экономического и общественного быта в наивозможно скорейшем времени. Она должна захватить диктатуру в свои руки и не останавливаться ни перед чем. Выборы в национальное собрание должны проходить под влиянием правительства, которое тотчас же позаботится, чтобы в состав его не вошли сторонники современного порядка, если только они останутся живы» [10].
На характер революционного движения, приведшего в конечном итоге к свержению абсолютизма, не могли не оказать влияния традиции предыдущей классовой борьбы вообще и борьбы крестьянства против феодальной эксплуатации в особенности. Но эти традиции в России отличались от западноевропейских.
Отличия сводились главным образом к одному коренному: на Западе классовая борьба велась в рамках правового государства, по необходимости принимала вид борьбы за сохранение, упрочение и расширение сословных прав. Но там, где классовый конфликт развертывается на правовой почве, остается широкое поле для компромисса между угнетателями и угнетенными, и великая задача уничтожения всякой эксплуатации разменивается на частные вопросы правового ограничения и регулирования этой эксплуатации. Жакерия во Франции, движение Уота Тайлера в Англии, крестьянская война XVI века в Германии в основных чертах повторяют друг друга. Они начинаются как стихийный отпор крестьянства усилению феодального гнета: в той мере, в какой этот гнет выходит за рамки обычного права и выражается во введении новых поборов, повинностей, в ущемлении старинных вольностей. Наиболее радикально настроенная часть восставших требует, правда, покончить с угнетателями раз и навсегда, но эта часть всегда в меньшинстве, и умеренным всякий раз удается взять верх, когда напуганные феодалы проявляют готовность рассмотреть крестьянские жалобы и претензии. Завязываются переговоры. Господам удается ценой частных уступок разделить прежде единый лагерь повстанцев, обессилить его, обмануть своих противников «пряником»; «кнут» — кровавые репрессии — завершит дело.
Русские крестьяне в отличие от своих западноевропейских собратьев по классу и так же, как и польские «хлопы», были бесправны. На Западе обязанности даже крепостных, не говоря уже о полузависимых крестьянах, по отношению к их господину были строго регламентированы и зафиксированы в соответствующих документах, так же как и их права. Русскому читателю странно, конечно, слышать о правах крепостных людей. Тем не менее в Англии, к примеру, они существовали. Так, еще в XIV веке, то есть до полного исчезновения крепостного права, английский помещик мог продать крепостного «с его выводком» (так в купчих той эпохи именовались крестьянские семьи), но неприкосновенность движимой собственности того же крепостного гарантировалась законом [11]. Полузависимые крестьяне, живущие на помещичьих землях, имели на руках копии договора об аренде, где перечислялись их обязанности и права (оригинал хранился в барской усадьбе), — отсюда их название «копихольдеры» [12].
Ничего этого в России не было. Русский барин, как и польский пан, был высшим судьей над своими «людьми», и его приговор, если он только не был смертным приговором, обжалованию не подлежал. Феодальный произвол был, стало быть, полным, а гнет, несомненно, более тяжким, чем где-либо еще.
И еще одна важная историческая особенность отличала русское крестьянство от западноевропейского. На Западе крестьянское ополчение почти повсеместно (за исключением Испании да Скандинавских стран) перестало созываться уже к X–XI векам. Сменившее его рыцарство постаралось превратить военное дело в свою сословную монополию и отучить «грязную чернь» браться за оружие. На Руси народная рать (крестьянская по своему основному составу) решает судьбу сражений еще в конце XIV века. В XV веке она, правда, теряет свое значение главной боевой силы, оттесняется дворянской конницей на задний план, но отнюдь не вытесняется ею полностью. Крестьянская «посошная рать», набираемая из военнообязанных с «сохи», единицы обрабатываемой площади, продолжает сопровождать царские полки в каждом походе, принимает участие в осадах и идет на приступ крепостей еще в течение двух столетий.
Когда наступает эпоха наемных армий, в соседней Речи Посполитой «жолнерами» (солдатами) почти всегда были шляхтичи и никогда «хлопы». Стефан Баторий набрал было пехоту из польских крестьян со своих коронных земель*, да столкнулся с яростным противодействием панов и шляхты и вынужден был довольствоваться наемниками из Германии и Венгрии. Россия была слишком бедна, чтобы содержать регулярное войско, и вот к какому средству она прибегает в XVII веке:
«На северо-западе, вблизи шведской границы, были устроены военные солдатские (пехотные) поселения; жили крестьяне на прежних своих участках, пашню пахали, угодьями владели, данных и оброчных денег не платили, но учились солдатскому делу у иноземцев. Сначала велено было их учить военной службе ежедневно, но в 1650 году государь велел их польготить, учить в неделю день или два, чтоб им от пашни и от промыслов не отбыть. На степной украйне были поселены, «устроены вечным житьем» драгуны, служба которых была конная и пешая… Подле этих служилых людей с новыми, иноземными названиями — солдат, рейтар, драгун — сохранились старые — городовые казаки, которым в мирное время правительство давало дворы и землю пахотную, не брало с них оброка и никаких податей, а во время службы давало им жалованье» [13].
Помимо всех этих служилых людей «по прибору» с их новыми или старыми названиями, помимо целого сословия однодворцев, пахавших землю и в то же время с пищалью и саблей в руках отражавших набеги крымских татар (правительство вплоть до реформы 1861 года так и не уяснило для себя, считать ли их дворянами или крестьянами, принимая по этому предмету противоречивые решения), помимо широких слоев крестьянства, привлекаемых к делу народной обороны государством, само крестьянство против воли феодального государства стихийно создавало свою собственную боевую силу, именовавшую себя вольным (в отличие от служилого) казачеством.
Бесправие крестьянства и его военные привычки встречались и за пределами России, но порознь. Сочетание же этих двух феноменов составляет, по всей видимости, национальную историческую особенность. Не только характер русского крестьянства отразился в чертах русского солдата, но и, наоборот, солдатчина наложила свою печать на крестьянство. «Народ русский зело терпелив и послушен», — говаривал Петр I. Это терпение солдата и послушание воинской дисциплине в самом деле вошли в национальный характер. Но когда чаша терпения переполнялась, русский крестьянин проявлял в борьбе против внутреннего классового врага ту же самоотверженность, готовность идти до конца, не считаясь ни с какими жертвами, которые отличали русского солдата на полях битв с иноземцами. Крестьянские армии Болотникова и Разина, Булавина и Пугачева не посылали парламентеров к противнику, не заключали с ним перемирий, не вступали в переговоры относительно удовлетворения их требований. Да и о чем договариваться? Именно потому, что русский мужик слишком долго терпел и слишком многое выносил на своих плечах, ему не нужны были частные уступки. Он хотел всего: земли, воли и полной расплаты за перенесенные унижения.
Вот почему Болотников велит «боярским холопам побивати своих бояр и жен их», брать себе «их вотчины и поместья» [14]. Разинцы «черных людей наговаривали, чтоб дворян и детей боярских и в городах воевод и подьячих всех переводили и избивали» [15]. Булавин опять зовет бить «всех бояр и прибыльщиков» [16]. Пугачев приступает к поголовному истреблению дворянства.
Однако социальный радикализм крестьянских движений в России всякий раз сочетается с крайним политическим консерватизмом (вплоть до революции 1905 года, когда под идейным влиянием пролетариата русский мужик впервые преодолел в себе слепую веру в «батюшку-царя»). Болотников называет себя предтечей и посланцем царя Дмитрия Иоанновича, своим сторонникам он сулит «боярство, воеводство и окольничество и дьячество» [17]. В своих «прелестных грамотах» С. Разин призывает «всю чернь» «стоять… за великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича и за благоверных царевичев» и истреблять «изменников бояр» [18]. «За его, великого государя, и за всю чернь» [19] — стало политическим лозунгом разинцев. Пугачев, окруженный свитой из псевдографов «Воронцовых» и «Чернышевых» с владимирскими и андреевскими лентами через плечо, требует перебить всех «изменников дворян» за то, что они собирались «извести» его, императора Петра III. Термин «изменники бояре-; и «изменники дворяне» взят, очевидно, из лексики опричнины — недаром Грозный в народных песнях предстает не только как победитель Казани, но и как «справедливый царь», достойный пример для подражания.
Самозванство обычно в историографии трактуется как характерная черта русских крестьянских движений. Нам представляется более верным переставить логическое ударение на слово русских крестьянских движений. На Западе если в крестьянских войнах и появлялся иной раз самозванец, то крайне редко, и его «титул» в агитации существенной роли не играл. Но то, что там оказывалось исключением, здесь было правилом: ни одно крупное восстание угнетенных трудовых масс не обходилось без своего «царя» или, на худой конец, «царевича». Так, только на последнюю треть XVIII века приходится появление 23 самозванцев, не считая Пугачева [20]. Там между повстанцами и охранителями феодального порядка всегда оставались достаточно широкие социальные слои, колеблющиеся между двумя лагерями, нейтральные, а то и просто равнодушные к не задевающей их непосредственно борьбе. Здесь повстанцы, требуя от всех и каждого присяги своему «законному государю», ставили вопрос ребром: «Кто не с нами, тот против нас!» Присяга «царю» предполагала и службу ему «по-московски», то есть безоговорочную и безусловную, а те, кто отказывался такую клятву дать, рассматривались, естественно, как «изменники». Поляризация классовых сил в стране происходила поэтому стремительно.
Причину такого различия нужно искать в том же источнике, что обусловил несравненно более высокую сплоченность вокруг трона российского боярства и дворянства по сравнению с западноевропейскими феодалами. Чтобы не повторяться, ограничимся одним конкретным сопоставлением.
Англичанин Флетчер, бывший в Москве в 1588–1589 годах при царе Федоре Иоанновиче, отмечал, что политика Ивана Грозного «так потрясла все государство и до того возбудила всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что это должно окончиться не иначе как гражданской войной» [21]. Несчастной России было мало опричнины, ей нужна была еще гражданская война, Смута. Непосредственным поводом к ней послужило, как известно, убийство или случайное самоубийство царевича Дмитрия.
Веком раньше по сходному поводу разразилась гражданская война в Англии. Ричард III, монарх не более мягкосердечный, чем русский Иван IV или Борис Годунов, тайно извел в тюрьме своих малолетних племянников, имевших право на престол. Это последнее и самое гнусное из целого ряда злодеяний вызвало всеобщее возмущение английского общества. Враждовавшие между собой бароны, сторонники Белой и Алой розы, наконец помирились, выставили общее войско и в решительной битве разгромили армию короля-тирана. Сам Ричард был изрублен в схватке. Его корону, сбитую с головы, нашли где-то под кустом и тут же возложили на голову Генриха VII Тюдора [22]. Ничего более серьезного не произошло, и Англия за удовольствие сменить монарха на троне уплатила вполне умеренную цену, потеряв несколько сотен профессиональных воинов.
Совсем иные последствия имело падение царской короны в России. Если число погибших в годы опричнины, по оценке историографов, было равно примерно четырем тысячам [23], то ущерб, причиненный Смутой, вообще не поддается исчислению. Нидерландский посол, прибывший в Москву вскоре после воцарения Михаила Романова, в сообщении на родину так описывает свое путешествие: на всем пути от границы до столицы голландцы, несмотря на зимнюю пору, были вынуждены ночевать в лесу или в чистом поле — деревни выжжены. Кое-где, правда, остались не тронутые огнем избы, и путешественники пытались обосноваться там на ночь, вытаскивая из них трупы бывших обитателей, да нестерпимый смрад выгонял на мороз [24]. На юге и юго-востоке Московского царства та же картина, что и на западе и Северо-западе. Между тем как войска Василия Шуйского вели борьбу против «тушинского вора», в открывшиеся бреши на оборонительных рубежах прорвалось более ста тысяч крымских и ногайских татар. Эти походы повторялись из года в год на протяжении всего Смутного времени. Уже в 1611 году рязанцы писали, что татары совершенно обезлюдили их землю, пашни остались незасеянными, все оставшиеся в живых сидят в городе в осаде, нигде даже «не добыть овцы — татары всех вывоевали и выганили с собой» [25]. Русским людям, пережившим такое, даже царствование Грозного должно было казаться «старым добрым временем».
Столь страшные уроки не могли пройти, конечно, даром для всего русского народа, то есть как для класса феодалов и верхушки посадского люда, так и для трудовых масс. Посадские низы и крестьянство оказались перед неразрешимым для той эпохи противоречием в своем отношении к государству и отношении государства к ним. «А государство Московское многолюдно, велико и пространно, сияет светло посреди паче всех инех государств и орд… аки на небе солнце», — писали в Москву донские казаки, взявшие приступом у турок мощную крепость Азов и просившие у царя военной помощи ради ее удержания за Россией [26]. Эти в недалеком прошлом бесправные крепостные крестьяне гордятся своим национальным государством, верны ему до конца, готовы головы положить ради его блага и славы, но в той же челобитной выражено и трагическое сознание того, что в «светлом Московском государстве» «рады… все концу нашему», потому что «отбегаем мы из того государства Московского на работы вечные, от хозяйства невольного, от бояр и дворян государевых. Кому об нас там потужить? [27]. Национальное государство, средство защиты всех от внешней опасности, оказывается вместе с тем и государством классовым, оружием угнетения трудового люда.
Чувство патриотизма поэтому сплошь да рядом сковывает классовую борьбу, мешает ей развернуться в полную силу. Великое смирение перед самодержавием было в определенной степени обратной стороной великой национальной гордости, чувства молчаливого, некичливого, но от этого еще более глубокого и мощного.
По понятным историческим причинам чувство это должно было сосредоточиваться и сосредоточивалось нa царе как на воплощенном символе национального единства. Объективное противоречие между национальным характером и классовой эксплуататорской сущностью Российского государства преломлялось в сознании народа так, что вся безграничная преданность этому «светлому государству», что «сияет… ако солнце в небе», все надежды на конечное торжество справедливости, все чаяния обездоленных и угнетенных сходились к личности государя, окруженного радужным ореолом народной сказки, а классовая ненависть, еще темная и неосмысленная, направлялась против царских слуг, «изменников бояр и бар». За многие века многострадальная и мужественная Россия накопила в народных недрах огромный революционный потенциал, да только ключ от этого порохового погреба оставался долгое время в руках царизма.
Царский престол осеняли те же знамена, что плыли в пороховом дыму над русскими полками под Полтавой и при Бородине; и это служило ему более надежной защитой, чем солдатские штыки, казачьи пики и вся полицейско-жандармская рать.
Когда второе поколение русских революционеров направилось «в народ», чтобы поднять его на борьбу с царизмом, оно натолкнулось на стену непонимания и подозрительности. Один из таких пропагандистов, вошедший в качестве рабочего в плотничью артель, вспоминает: «Я начинал с расспросов об их деревне, нужде, о том, как у них себя ведет начальство, и затем уже переходил к своим заключениям и обобщениям. Но тут я натыкался всякий раз почти на одно и то же возражение: соглашавшийся с моими посылками кологривец делал из них свой вывод или подводил свой итог, а именно, утверждал, что сами они, деревенские, во всем виноваты… По этому воззрению им приходится терпеть нужду, обиды и скверное обращение собственно потому, что они сами поголовно пьяницы и забыли бога» [28].
Другая народница, Е. Брешковская, сообщает: «Некоторые крестьяне спрашивали, нет ли под моими грамотами подписи царя или кого-нибудь из его семейства»; один крестьянин-сектант принял ее саму за «царицу или цареву дочку» [29].
Мысль о «подписи царя» легла в основу предприятия «бунтарской группы» в Чигиринском уезде Киевской губернии. Ее руководитель Стефанович выдал себя перед крестьянами за тайного «царского комиссара» и распространил среди них подложный царский манифест, призывавший их вооружаться и подниматься против помещиков в защиту царя и поземельной общины. Такой призыв сразу же был услышан — достаточно отметить, что по Чигиринскому делу было арестовано до 900 крестьян. Историк-марксист М. Н. Покровский подводит следующий итог этой революционной попытке: «…Царизм являлся в самой тесной связи с земельным идеалом крестьян. Свои желания, свои понятия о справедливости крестьяне переносили на царя, как будто это были его желания, его понятия… В народе возможно было вызвать восстание только от имени царя, т. е. не против существующего порядка, а на защиту его» [30].
Проходит еще один исторический период, и третье поколение русских революционеров сталкивается с тем же психологическим препятствием, на этот раз в среде пролетариата. Тот же историк, сам лично стоявший у истоков социал-демократического движения, вспоминает: «…В 1902 году зубатовская организация больше притягивала к себе рабочих, нежели наша партийная организация. Даже в 1905 году, в начале этого года, у Гапона по малой мере в пять раз было больше рабочих, чем в партии. Про Москву, где был Зубатов, и говорить нечего. Тогда рабочих в наших организациях приходилось считать единицами, а Зубатов согнал к памятнику Александру II в 1902 г., 19 февраля, 50 тысяч человек; он сам поражался такой «громадой» и самодовольно говорил, что для того, чтобы двигать такой «громадой», нужен особый талант, который не у всякого есть» [31]. Когда летом 1905 года рабочие Иваново-Вознесенских мануфактур впервые на массовой сходке услыхали лозунг «Долой самодержавие!», они «шарахнулись» и стали кричать: «Не надо! Не надо!» [32]. Конечно, необходимо подчеркнуть, что в количественном отношении большинство российского рабочего класса тех лет составляли вчерашние крестьяне.
Располагая столь огромным политическим кредитом у русского народа, царизм смог продлить свое существование гораздо дольше и войти в противоречие, по словам В. И. Ленина, с «живыми силами современной эпохи» гораздо глубже, чем это было дано абсолютным монархиям в Западной Европе. История дает недвусмысленный ответ на вопрос о том, что происходит с обществом, неспособным разрешить противоречие между «допотопной надстройкой» и требованиями дальнейшего социально-экономического развития. Вот один красноречивый пример:
«…Испания в эту эпоху была всецело католической и монархической, — отмечал французский историк и философ XIX века Ипполит Тэн. — Она победила турок при Лепанто, стала твердой ногой в Африке и вводила здесь свои учреждения, воевала с протестантами в Германии, преследовала их во Франции, нападала на них в Англии, обращала и порабощала идолопоклонников Нового Света, изгоняла евреев и мавров, очищала собственную веру с помощью костров и гонений, расточала флоты, армии, золото и серебро своей Америки, драгоценнейшую кровь своих сынов, живую кровь собственного сердца на многочисленные, нескончаемые крестовые походы с таким упорством и фанатизмом, что через полтора столетия она пала, истощенная и попираемая Европой, но обнаружила такой энтузиазм, такую пылкую любовь к родине, покрылась столь блестящей славой, что ее подданные в своем увлечении монархией, собравшей воедино их силы, и делом, за которое они жертвовали своей жизнью, имели лишь одно желание: возвеличить религию и короля своим беспрекословным повиновением, образовать вокруг церкви и трона толпу верных бойцов и поклонников» [33].
Подобно Испании XVI века, только что победоносно завершившей Реконкисту, Россия XVIII — первой четверти XIX века подъемом своего международного политического могущества, экономическим процветанием своего правящего класса, быстрым и плодотворным развитием культуры была обязана военным победам. Штыками расчистила она себе выход в Балтику, штыками пробила пути в Черное и даже — по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору с Турцией — в Средиземное море.
В начале XVIII века она оставалась еще отсталой, по западноевропейским стандартам, страной. Но в ходе Северной войны был наконец положительно решен коренной вопрос ее будущего развития, и поэтому всего через несколько десятилетий после кончины Петра Россия стремительным взлетом обгоняет по основным экономическим показателям другие страны Европейского континента (за исключением разве Нидерландов), оставив позади себя даже передовую, созревшую для буржуазной революции Францию.
С 1762 по 1796 год, то есть за 34 года, число русских мануфактур увеличивается с 984 по 3161, более чем в три раза [34]. Такие темпы экономического роста до промышленного переворота никогда еще не достигались на Западе. Во Франции фабрики со 100–200 рабочими считались очень крупными, по русским масштабам той эпохи такие мануфактуры меньше средних [35]. Русские шелковые, ковровые, кожаные изделия успешно конкурируют с французскими на европейских рынках. Французский историограф России Левек весьма высоко оценивает качество русских промышленных товаров: «Русским удаются фабрики и ремесла. Они делают тонкие полотна в Архангельске, ярославское столовое белье может сравниться с самым лучшим в Европе, стальные тульские изделия, быть может, уступают только английским. Русская шерсть слишком груба, чтобы можно было фабриковать из нее тонкие сукна, но некогда получали от иностранцев все сукно для обмундирования войск, а теперь иностранцы начинают получать его из фабрик этой страны. Русские настолько даровиты, что они сравняются и превзойдут в смысле индустрии другие народы, если они когда-нибудь получат свободу» [36]. В ряде областей промышленного развития, впрочем, и екатерининская Россия «превзошла другие народы». Так, на втором месте (после пеньки) в русском экспорте занимает уральское железо, далеко оставляя за собой лес, хлеб, продукты скотоводства, холст, полотно. Особенным спросом в Англии пользовалось «соболиное» железо — с сибирским гербом, изображавшим двух стоящих друг перед другом на задних лапах соболей. Английские заводчики предпочитали его шведскому [37]. В 1774 году на заседании английского парламента указывалось на то, что русские товары «существенно необходимы» для королевского флота, а бедные классы в Британии без русского полотна обойтись не могут. Вообще говоря, на Западе в эту эпоху господствовало убеждение, что торговля Европы с Россией нужнее первой, чем второй [38].
Бурный экономический рост России, служивший основой ее военной мощи, политического влияния на международной арене и внутреннего культурного развития, продолжался до тех пор, пока не натолкнулся на непреодолимую преграду — на крепостничество. Мануфактурное производство могло еще до поры до времени уживаться с крепостническими порядками, машинное — нет. От того, отменит ли Россия в начале XIX века крепостное право и откроет ли тем самым двери перед промышленной революцией, зависело, останется ли она после победы в Отечественной войне 1812 года ведущей державой Европейского, а быть может, и Азиатского континентов. Альтернативой этому предлагаемому декабристами решению было стремление сохранить все как было, идти проторенным путем, понимание величия России как военно-крепостнической державы — такой альтернативой, короче говоря, стал политический курс Николая I. Истоки этого коренного для той эпохи противоречия следует искать в двойственной социально-экономической природе господствующего класса — феодальный по своему происхождению и привилегиям, он был давно уже теснейшим образом связан с рынком. Перед ним имелся еще выбор: следовать примеру английского дворянства, совершенно обуржуазившегося и сохранившего от прошлого лишь феодальные титулы и гербы, или французского, вцепившегося мертвой хваткой в свои средневековые права и безжалостно поэтому сметенного буржуазной революцией. Чем дальше, тем яснее становилось русскому дворянству в целом, что крепостничество нерентабельно. Мы не оговорились, применив к помещичьему хозяйству категорию политэкономии капитализма: даже наиболее отсталая его форма, основанная на барщине и распространенная главным образом в южных, наиболее плодородных областях России, так же мало походила на традиционное феодальное натуральное хозяйство, как и, скажем, плантация хлопка на юге Соединенных Штатов. Различие между ними, конечно, было несущественным и заключалось лишь в том, что «фабрика зерна» приводилась в действие трудом белых рабов, а «фабрика хлопка» — черных. Но и та и другая в равной мере давным-давно вошли в систему мирового капиталистического производства.
Уровень производительных сил в Российской империи второй половины XVIII века вряд ли был ниже того, который оказался достаточным для Великой французской революции, и, несомненно, был выше, чем тот, который послужил основой для английской революции XVII века. Тем не менее давление этих сил «снизу» не только не привело к революционному взрыву в России ни в XVIII и ни в XIX веках, но не воспрепятствовало даже ее превращению в оплот феодально-крепостнической реакции в Европе. Дело в том, что «крышка на котле, под которым огонь разгорался все сильнее и сильнее, была завинчена слишком туго», или, говоря без метафор, в том, что государственная надстройка, порожденная устаревшими экономическими отношениями, оказалась в России вследствие отмеченных выше особенностей ее истории намного массивнее, прочнее, «взрывоустойчивей», нежели на Западе. Крепостничество, поднимаясь из барской усадьбы в Зимний дворец, оборачивалось царизмом точно так же, как и самодержавие именно в крепостничестве (а позднее в его пережитках) имело свою подлинную экономическую основу.
Не столько экономическая, сколько психологическая причина заставила основную массу российского дворянства подчиниться в двадцатые годы прошлого века руководству крепостнической фракции и пойти вслед за Аракчеевым и Николаем I. Этот психологический фактор — авторитет государства. В «Войне и мире» есть очень характерная сцена спора между Пьером Безуховым, будущим декабристом, и Николаем Ростовым, типичнейшим представителем именно этой основной массы «благородного сословия», из которой, к слову сказать, в то время почти полностью формировался офицерский корпус русской армии. Пьер убеждал: «…Мы только для того, чтобы Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтобы Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого боремся рука с рукой, с одной целью общего блага и безопасности…
…Николай почувствовал себя поставленным в тупик. Это еще больше рассердило его, так как он в душе своей не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение (выделено мной. — Ф. Н.), знал несомненно справедливость своего мнения.
— Я вот что тебе скажу, — проговорил он, вставая и нервными движениями уставляя в угол трубку и наконец бросив ее. — Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга условное дело, и на это я тебе скажу, что ты лучший друг мой, ты это знаешь; но составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, каково бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди, как хочешь».
На развилке исторических путей Россия остановилась на мгновение — 14 декабря 1825 года, а затем, повинуясь страшной силе инерции, подавляющей все рассуждения, покатилась с вершины могущества и славы, на которую вознес ее 1812 год, к пропасти. Чтобы сохранить свой статус великой державы после победы в Отечественной войне, Россия должна была решить задачу промышленного переворота, задачу для нее принципиально новую, не имевшую на этот раз ничего общего с привычным делом защиты Отечества. Решение, предложенное на Сенатской площади, было ею, то есть ее господствующим классом, отвергнуто, а другого не было. История же, подобно Сфинксу из древнегреческого мифа, жестоко расправляется с теми, кто оказывается не на высоте ее задач. Первое ее наказание — застой. Между тем как страны, вводившие у себя машинное производство, устремились вперед, Россия ползла черепашьими шагами, и ее прочный панцирь только сковывал ее движение. Вскоре и панцирь подвергся разъедающей коррозии. Она хотела остаться военной державой тогда, когда находилась в полной безопасности, и через три десятилетия превратилась всего лишь в тень военной державы. В эпоху, предшествовавшую Крымской войне, русские солдаты не завинчивали до конца ни одной гайки на своих ружьях: с разболтанными шурупами команда «к ноге» выполнялась особенно гулко и красиво. Великий князь Михаил Павлович был убежден, что война, отучая солдата от строевой выправки, только портит его. Уровень боеспособности русской армии понижался с каждым десятилетием, и это потому, что она оставалась царской. Упрек декабриста Толстого к покойному императору Николаю был, конечно, как нельзя более справедлив.
Вступи Россия на «прусский путь» развития капитализма (что предполагало отмену крепостного права и сохранение помещичьего землевладения) в начале XIX века, она, по всей видимости, сохранила бы свою гегемонию на Европейском континенте. Но она пошла по нему лишь в шестидесятые годы, после известного манифеста 19 февраля, — время оказалось безвозвратно потерянным. Чтобы наверстать упущенное, она должна бы была устремиться по «американскому пути» через радикальную буржуазно-демократическую революцию, безжалостно сметавшую с лица земли все остатки средневековья и потому обеспечивающую максимум экономического роста при прочих равных условиях — сравнимых, кстати сказать, с североамериканскими. Однако революционная ситуация начала шестидесятых годов не вылилась в крестьянскую революцию. По причинам очень сходным, если не прямо тождественным, с теми, что воспрепятствовали успеху дворянской революции декабристов, царистская идеология укоренилась в сознании крестьянства ничуть не менее глубоко, чем в сознании дворянства. Российский Эдип вторично ошибся при решении загадки Сфинкса. И на этот раз наказание было удвоено: к военной отсталости добавилась экономическая, а следовательно, и политическая зависимость. Россия Екатерины II не была ни отсталой, ни зависимой; Россия Николая I была уже отсталой, но еще была фактически независимой; Россия Александра II, пытаясь избавиться от отсталости при помощи иностранного капитала, с каждым шагом все сильнее запутывается в расставленных им сетях; при Николае II Россия уже лежит, связанная по рукам и ногам, под ножом англо-французского Шейлока, который с полным сознанием своих прав получает фунт пушечного мяса, причитающийся ему за займы, предоставленные царизму на подавление революции 1905–1907 годов. Круг истории замкнулся: самодержавие из защитника России, из представителя ее национального суверенитета превратилось в орудие ее порабощения иностранным капиталом.
Еще народник Степняк-Кравчинский писал: «Причины возникновения и сохранения самодержавия надо искать в истории России и в социальных условиях, исторически оправдывавших его существование… [39]. Сыграв свою роль в создании политического могущества России, царизм стал теперь причиной его неуклонного разрушения. Если самодержавие не падет вследствие внутренних причин, то оно потерпит поражение в первой же серьезной войне; будут пролиты реки крови, и страна будет расчленена на куски. Свержение самодержавия стало политической, социальной и нравственной необходимостью. Оно обязательно для блага государства и для блага народа» [40].
Царизм действительно втянул Россию в империалистическую войну, пролил реки крови, потерпел поражение в этой войне и подтолкнул страну к расчленению на куски. Окончательное решение этой последней задачи иностранный капитал возложил на более современную, более гибкую и более послушную его воле политическую систему «плюрализма партий», которая во главе с Временным правительством заменила после февраля 1917 года «допотопное чудовище». Вот почему В. И. Ленин в письме, направленном Центральному Комитету РСДРП(б) в конце сентября 1917 года, настаивает на «безусловной необходимости» восстания рабочих Питера и Москвы для «спасения революции и для спасения от «сепаратного» раздела России империалистами обеих коалиций…» [41]. (Курсив наш. — Ф. Н.)
Итак, русская революция на ее последнем, пролетарском, этапе должна была одновременно со свойственной ему задачей решить и те, что остались в наследство от первых двух. Расшатать и затем опрокинуть твердыню самодержавия, довести до конца буржуазно-демократическую революцию, спасти политическую независимость России в кровавой борьбе против интервенции и белогвардейщины, отстоять ее экономическую независимость после окончания гражданской войны, ликвидировать ее отсталость в кратчайший исторический срок — все это легло на плечи российского пролетариата сверх общепролетарской миссии освобождения народа от ига капитала. Однако пролетарские революционеры были далеки от того, чтобы бросать упрек своим предшественникам. Первые два поколения передали третьему не только незавершенное дело, но и большой, так сказать, задел революционной работы; они погибли, но своей кровью вспоили ту революцию, которую Ленин и созданная им партия довели до конца.
Лишь на последнем своем этапе революция вовлекает в свое русло народные массы и становится тем самым непобедимой, но до этого и для этого революционное, далеко еще не массовое движение такое русло должно было проложить, несмотря на свою оторванность от народа, несмотря на свою очевидную слабость перед лицом самовластия. Явное несоответствие наличных сил и средств величию поставленной цели составляет трагический пафос жизни и гибели декабристов, землевольцев, народовольцев. Подобно своим далеким предкам, вышедшим на Куликово поле, они не могли победить и все же победили: русло для могучего потока было проложено ими.
* * *
«Русские дворяне служат государству, немецкие — нам», — обронил как-то в минуту откровенности Николай I [42]. «Нам» — это значит династии Романовых или скорее даже Гольштейн-Готторпской. И действительно, в день восстания 14 декабря остзейские бароны стеной встали за императора. («Мы не любим русских, — разъяснил впоследствии один из них А. И. Герцену, — но во всей империи нет более верных императорской фамилии подданных, чем мы»). [43]. И хотя царь своей победой в гораздо большей степени был обязан сплоченной воинской дисциплиной массе русских дворян, которые служили государству, нежели личной преданности остзейских баронов, капля горечи и тревоги ясно чувствуется в этом признании: те, кто на Сенатской площади выступил против него, тоже стояли за государство. Судьбы династии и России начали бесповоротно расходиться.
Отношение к государству — вот ось тождества русских поборников самодержавия и их противников, декабристов. Вокруг этой неподвижной оси Россия царская в лице передового отряда своего правящего класса повернулась на 180 градусов и превратилась в свою прямую противоположность — Россию революционную.
Момент относительного тождества противоположностей нужно особо выделить во избежание довольно распространенного, но от этого не менее ошибочного взгляда, согласно которому наряду с официальной царской Россией и под ней всегда существовала какая-то политически безликая народная Россия с заунывными песнями, безудержной удалью, березовыми вениками и масленичными блинами. Из знакомства лучших людей помещичьего класса с этой народной политически нейтральной Россией и из любви к ней, вызванной западным лучом свободы, якобы и родился декабризм. Это метафизическое представление, и проистекает оно из неспособности постичь зарождение нового как переход в него его же противоположности и из стремления по этой причине предположить новое извечно сущим, хотя бы и в зародышевом состоянии.
Историограф, сколь-либо знакомый с диалектическим методом, такой ошибки, естественно, не совершит. Он скажет, что до определенного исторического момента вся Россия (народная, в частности) оставалась царистской даже в лице Пугачева — Петра III, но в недрах ее уже зародилась, зрела новая Россия. Сначала в одном только человеке (им был А. Н. Радищев), затем в горстке дворянских революционеров, которые «страшно далеки от народа» потому, что сделались республиканцами, между тем как народ еще долго оставался верным царю, затем в несравненно более широком слое революционеров-разночинцев и, наконец, в основной массе русского народа. Когда произошло это последнее превращение, царизм умер. Он мог еще стрелять в народ, но ни его террор, ни террор его последышей, белых генералов, уже не могли остановить победной поступи революции, ибо народ нельзя запугать ничем, если он верит в правоту своего дела. Но для того чтобы правильно понять революцию в этом ее торжествующем половодье, нужно не только подняться от ее устья к истокам, но и дать себе отчет в том, каким это образом тогда, в конце XVIII и начале XIX века, произошел переход в нее ее же противоположности и что от этой противоположности сохранилось в ней.
А. И. Герцен в своей работе «О развитии революционных идей в России» характеризует империю Петра I и Екатерины II как «молодой, деятельный, не знающий узды деспотизм, равно готовый и на великие дела, и на великие преступления» [44], а говоря в «Пролегомене» о современной ему «империи фасадов», замечает, что в ней только и есть неподдельного, настоящего, что доблесть воинская да доблесть революционного отрицания [45].
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Часть 2. Государство и поколения
Часть 2. Государство и поколения Глава 1 Мужская и женская полярность. — Родовой коллективизм как средство отрицания закона полюсов. — Символы распада. — «Неспособность женщины». — Исторический обзор. Мы видели, что за религиозными, моральными и художественными
Феномен фронтового поколения
Феномен фронтового поколения То, что во время войны, часто довольно протяженной, в сознании социального субъекта доминирующую роль играют специфические социально-психологические качества, необходимые в условиях вооруженной борьбы, не может не сказаться на всей
Учебники нового поколения
Учебники нового поколения Коренным образом изменились учебники истории нового поколения по сравнению с книгами ХХ в., о чем свидетельствуют подготовленные нами в издательстве «ВЛАДОС» учебники для общеобразовательных учреждений по истории России для 6–7 классов
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ Первое из них вступило в жизнь еще в конце VI в. до н. э., и ему суждено было лишь заложить основы культурного расцвета Афин. Эсхил и Фриних положили начало аттической трагедии. Скульпторы Критий и Несиот украсили в 476 г. до н. э. афинскую агору — рыночную
Глава 3 Три поколения RAF
Глава 3 Три поколения RAF В 68-м мы поднялись на борьбу за справедливый и гуманный мир, а наши родители почти сплошь были нацистскими преступниками или их пособниками… Наше отношение к людям в этой стране долгое время определялось еще и тем, что мы, живущие в богатых странах,
Главная задача пятого поколения
Главная задача пятого поколения Перед пятым поколением лидеров Китая, то есть перед новым Генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином, который стал и Председателем КНР, XVIII партийный съезд поставил амбициозную задачу: за предстоящие десять лет, то есть за два пятилетних
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ «Глядя на Петербург, размышляя об ужасной жизни обитателей этого военного лагеря из гранита, можно усомниться в милосердии господа, можно жаловаться, можно богохульствовать, но невозможно скучать. Во всем этом есть некая непостижимая тайна и в то же
СУДЬБА ПОКОЛЕНИЯ
СУДЬБА ПОКОЛЕНИЯ ...Идут съемки фильма «Город Зеро» режиссера Карена Шахназарова. В главной роли Леонид Филатов. Я нахожусь в съемочном павильоне, который представляет грандиозный хаос времен. Необычные экспонаты: первые исполнители рок-н-ролла в нашей стране; римские
«Мир для нашего поколения»
«Мир для нашего поколения» …Гитлер сидел на диване, хмуро глядя куда-то поверх карниза, и от нетерпения сжимал и разжимал кулаки. Весь его вид выражал крайнее недовольство. Временами «фюрер» вскакивал и нервно шагал из угла в угол. Потом снова садился, теребя цепочку
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ «Глядя на Петербург, размышляя об ужасной жизни обитателей этого военного лагеря из гранита, можно усомниться в милосердии господа, можно жаловаться, можно богохульствовать, но невозможно скучать. Во всем этом есть некая непостижимая тайна и в то же время —
Три поколения советских крестьянок
Три поколения советских крестьянок Основными нашими информантами были женщины, принадлежащие к нескольким советским поколениям. Хронологически эти поколения можно разделить приблизительно следующим образом: рожденные в 1899 – 1916 годах (до Октябрьской революции);
Два поколения
Два поколения Прозвучал сиплый паровозный гудок; вагон дернулся и плавно покатился по рельсам. Прошел кондуктор, зажигая свечи в фонарях, оглядывая скамейки: не видать ли чего подозрительного.Молодой человек со взглядом живым и быстрым, сказал в изумлении:— Что это он?
1. ЧЕРЕЗ ВЕКА И ПОКОЛЕНИЯ
1. ЧЕРЕЗ ВЕКА И ПОКОЛЕНИЯ Словом, в этих краях господствуют богатство и цивилизация; тот, кто называет англичан варварами, по моему мнению, сам является таковым. Я наблюдаю здесь чрезвычайно изысканные манеры, высочайшую нравственность и необыкновенную любезность. А
1. Через века и поколения
1. Через века и поколения Слава принцев зиждется на гордости и участии в опасных начинаниях; все усилия принцев пересекаются в одной точке, называемой гордыней. Жорж Шателен (1415–1475 % французский поэт, писатель и хронист Герб Валуа с саркофага Карла Смелого (1433–1477),