Глава 7 Розыск в застенке
После «роспроса», который был, в сущности, допросом без пытки, дело обычно переходило на следующую стацию сыскного процесса — розыск и пыт-ку. Решение об этом принималось руководителем сыскного ведомства, а иногда и государем на основе знакомства с результатами «роспроса». Обычно розыск начинался с так называемого «роспроса у пытки (у дыбы)», т. е. допроса в камере пыток, но пока без применения истязаний. «Роспрос у пытки» известен в источниках не позже XVII в. Эго видно из документов, опубликованных Н. Новомбергским. В царском указе 1643 г. воеводе Черни Ивану Юшкову было сказано, чтобы он кричавшего «Слово и дело» изветчика «велел привести к пытке и у пытки его роспросил, какое он наше дело ведает. А будет он того нашего дела у пытки тебе не скажет и ты б его велел пытать, какое он наше дело ведает». В документах упомянуты и другие формулы «роспроса» с пристрастием: «Роспросить подлинно и пыткой постращать» или «Пыткой постращать, а не пытать», «Пыткой стращали и с ума их выводили» (500, 12, 171, 163 и др.). В деле 1690 г. о допрашиваемых сказано: «В застенок привожены и в застенке роспрашиваны, а не пытаны» (278-12, 205). Обычно две стадии розыска — роспрос у пытки и сама пытка — были четко разделены: «А что они в роспросех своих у пытки и с пытки говорили» (718, 15). Другое название допроса в камере пыток — «роспрос с пристрастием». В «Кратком изображении процессов» о нем сказано: «Сей роспрос такой есть, когда судья того, на которого есть подозрение пред пыткою спрашивали, испытуя от него правды и признания в деле» (624-6, 421).
Допрашивали «у пытки» следующим образом. Человека подводили к дыбе. Дыба представляла собой примитивное подъемное устройство. В потолок или в балку вбивали крюк, через него (иногда с помощью блока) перебрасывали ремень или веревку. Один конец ее был закреплен на войлочном хомуте, называемом иногда «петля». В нее вкладывали руки пытаемого. Другой конец веревки держали в руках ассистенты палача. Вид этого снаряда мало воодушевлял упорствующих при допросах. Однако на стадии «роспроса с пристрастием» человека еще не поднимали, а лишь ставили под дыбой. Роспрос у пытки (в ряде документов процедура эта называлась описательно: «Стоя у дыбы до подъему» — 44-2, 230 об.) был, несомненно, сильным средством морального давления на подследственного, особенно для того, кто впервые попал в застенок. Человек стоял под дыбой, видел заплечного мастера и его помощников, мог наблюдать, как они готовились к пытке: осматривали кнуты, разжигали жаровню, лязгали страшными инструментами. Эту стадию римские юристы называли tеrritiо realis, т. е. демонстрация подследственному орудий пыток, которые предполагалось применить к нему. Известно, что некоторым узникам показывали, как пытают других. Делалось это, чтобы человек понял, какие муки ему предстоят. В 1724 г. ювелир Рокентин инсценировал ограбление своего дома, но допустил в этом оплошность и оказался в Тайной канцелярии. Там его увещевал раскаяться сам император и, чтобы подбодрить ювелира к признанию, «приказал прежде при нем бить кнутом другого преступника» (150-4, 9). В проекте указа Екатерины II в 1768 г. об упорствовавшей Салтычихе сказано: «Показать ей розыск к тому приговоренного преступника» (633-2, 311). За 13 лет до этого, в 1755 г., по указу Елизаветы Петровны было предписано допросить адову Конона Зотова Марью, обвиненную в подлоге. В указе о ее допросе сказано: «Подлежащей по законам к пытке по другим делам женщине указные пытки при ней, Зотовой, произведя, потом и ее, Зотову, увещевая к показанию истины, к действительной пытке приготовлять, а в самом деле той пытки не чинить» и при этом допрашивать. Так и было сделано. Зотова, не выдержав зрелища пытки, во всем раскаялась (270, 143–145). «Роспрос у пытки», т. е. в камере пыток, был фактически продолжением обыкновенного «роспроса» — допроса и очных ставок в помещении Канцелярии. Запись о «роспросе у пытки» в журнале Канцелярии была примерно такая же, какую мы встречаем в деле стрелецкого пятидесятника Сидорова в 1698 г.: «А пятидесятник Аничка Сидоров к пытке привожен же и роспрашиван, а в роспросе сказал…». К «роспросу» с пристрастием применяли и другие формулы: «У пытки говорил…», «Стоя у дыбы до подъему, сказал…», «До подъему говорил…» (197, 51, 68, 69; 44-2 230 об.).
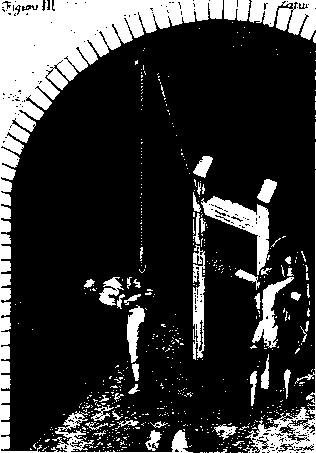
Дыба
Под дыбой проводились и очные ставки, причем один из участников мог уже висеть на дыбе, а другой — стоять возле нее («Их ставши с тат[ь]ми с очей на очи и татей перед ними пытать» —104-4, 30). Известен и другой вариант допроса: сначала преступника спрашивали под дыбой, а потом уже с дыбы. В записи допроса стрельца Сидорова 17 сентября 1698 г. хорошо видны особенности очной ставки под дыбой, а потом уже на дыбе: «Стрелец ж Аничка Сидоров у пытки против Васкиных слов Игнатьева во всем запирался. И Васке Игнатьеву с Аничкою в спорных словах дана очная ставка А на очной ставке Васка с Аничкою говорил прежние свои речи, что… Аничка-де в том запираетца напрасно. А Аничко у пытки на очной ставке говорил: “Против-де Васкиных слов он во всем виноват”». Когда Сидорова подняли на дыбу, то очная ставка была продолжена «Васка ж Игнатьев Аничку у пытки уличал… Аничко ж с подъему говорил…» и т. д. (197, 73). Подобным же образом пытали и тридцать лет спустя: «Привожен в застенок и паки спрашиван с увещанием… и того же времени подъят на виску и паки спрашивай с увещанием» (выписка из дела монаха Маркела за 1729 г. — 181, 252).
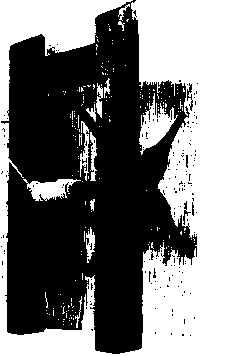
Дыба
В 1703 г. крестьянин Иван Ряпцов донес на стольника князя Ивана Мещерского в «непристойных словах» о государе. В «роспросе» и в очной ставке с изветчиком и свидетелями Мещерский свою вину не признал. Тогда ответчик и изветчик были «приведены к пытке», и перед пыткой им снова дали очную ставку. В ходе ее Мещерский «винился»: признался, что бранил государя «в исступлении ума» (88, 59 об.). Здесь мы видим, как и ответчик, устрашенный зрелищем застенка и строгостью допроса на фоне дыбы, подтвердил извет. Так было в деле 1735 г. придворной дамы Яганы Петровой, которая позволила себе опасную болтовню о происхождении Э.И. Бирона. Ее товарка Елизавета Вестенгарт донесла об этом в Тайную канцелярию. Там на допросе и с очных ставок Петрова упорствовала в непризнании извета. Но так же твердо стояла на своем и изветчица Вестенгарт. После этого императрица Анна Ивановна приказала объявить дамам указ, который показывает, на что могло рассчитывать большинство «клиентов» Тайной канцелярии после «роспроса», не давшего нужного следствию результата, — немедленно сказать «об оном сущую правду и ежели и потом будут утверждаться каждая на своем, то привесть их в застенок и роспросить об этом накрепко» (56, 13; 322, 551–552).
Допрос у дыбы не ограничивался только угрозами применить пытку, а также демонстрацией пыточного действа на телах других людей. Из документов сыска известно, что следователи прибегали к имитации пытки. Для этого приведенного в застенок подследственного раздевали и готовили к подъему на дыбу. Вот как допрашивали в 1728 г. родственницу А.Д. Меншикова Аксинью Колычеву, обвиненную в составлении подметного письма. Ее спрашивали «прежде с увещеванием, потом с пристрастием, чтобы явила всю истину о подметном письме, понеже из всех ее поступков является подозрительна и потом ставлена в ремень и кладены руки в хомут» (329, 243–244). В проекте Уложения 1754 г. мы встречаем подробное описание допроса с пристрастием, составленное на основе большого сыскного опыта; «Пристрастный роспрос есть когда подозрительный, по судейскому приговору, приведется и… от судей увещевается, которые, не объявя ему учиненного о пристрастном распросе приговору, действительною пыткою устращивают и для того все к пытке надлежащие приуготовления учинить велят, а буде такой по увещании не признается, тогда палачу в руки отдается, который, раздев его, к дыбе приводит и, положа руки в хомут, всякими приуготовлениями стращает, токмо самым действом до него больше ничем не касается» (569, 51).
Непривычная к подобным угрозам придворная дама Петрова расплакалась и извет Вестенгарт признала. Благодаря этому признанию, да еще и снисходительности императрицы, Петрова получила лишь порцию плетей и была пострижена в сибирский «дальний девичий монастырь». Однако такие случаи единичны, спасительная для ответчика резолюция после «роспроса у пытки»: «И после того роспросу не пытан» (197, 123, 125) или «Розыску быть не подлежит, понеже в тех словах никаких великих дел не касаетца» (8–1, 23 об.) — встречается в документах сыскного ведомства крайне редко. В «Кратком изображении процессов» 1715 г. ясно сказано, что «роспрос у пытки» не заменяет саму пытку, а лишь предшествует ей. По закону судья обязательно «пред пыткою спрашивает (подследственного. — Е.А.), испытуя от него правды и признания в деле» (626-4, 421). И если колодника решили пытать, то от пытки его не спасало даже чистосердечное признание (или то признание, которое требовалось следствию) — ведь пытка, по понятиям того времени, служила высшим мерилом искренности человека. Даже если подследственный раскаивался, винился («шел по повинке»), то его обычно все равно пытали. С одного, а чаще с трех раз ему предстояло подтвердить повинную, как писалось в документах, «из подлинной правды». Эта норма была установлена еще в Уставной книге Разбойного приказа, сильно повлиявшей на сыскной процесс при расследовании политических преступлений (785, 60). В протоколах и экстрактах Преображенского приказа и Тайной канцелярии было в ходу выражение относительно повинившихся, но тем не менее подвергнутых пытке: имярек «по повинке ево и с подлинной правды розыскивать» (49, 11 об.). Так как допрос у пытки очень часто вел к пытке, то в протоколах встречается обобщенная формулировка: «По приводе в застенок в роспросе и с очных ставок… и с подлинной правды поднят был на дыбу, и пытан впервые, и с подъему, и с пытки говорил…» (54, 5 об.).
Если пытали даже признавшего свою вину, то для «запиравшихся», упорствующих в «роспросе», на очной ставке или даже в «роспросе у дыбы» пытка была просто неизбежной. Подобная ситуация описана в деле князя Ивана Долгорукого (1738 г.): «Князю Ивану Долгорукому с изветчиком Осипом Тишиным в спорных словах в застенке дана очная ставка… А князь Иван Долгорукий с изветчиком Осипом Тишиным в очной ставке говорил те ж речи, что и сперва в распросе у дыбы показал и в том утверждался. И того ж числа вышеписанный князь Иван Долгорукий подымай на дыбу, и с подлинной правды пытан» (719, 167–168). Так «роспрос у дыбы» переходил в собственно пытку, точнее в ее первую стадию — «подъем» («виску»), а потом и во вторую — в битье кнутом на виске. Как правило, соблюдалась такая последовательность:
1) «роспрос» в застенке под дыбой, с увещеванием и угрозами («роспрос с пристрастием», «роспрос у дыбы», «роспрос у пытки»),
2) подвешивание на дыбу («виска»),
3) «встряска» — висение с тяжестью в ногах,
4) битье кнутом в подвешенном виде,
5) жжение огнем и другие тяжкие пытки.
Конечно, в повседневной пыточной практике какие-то звенья могли пропускать: после «роспроса» в Канцелярии без пыток сразу проводили пытки на дыбе, пропуская «роспрос у дыбы». В 1735 г. после «роспроса» и очных ставок Совета Юшкова А.И. Ушаков распорядился: «По тому своему показанию не без подозрения он, Юшков, явился, чего ради ныне, ис подлинной правды, привесть ево в застенок и, подняв на дыбу, роспросить с пристрастием в том, что оные слова, которые сам на себя показал, в каком намерении, и для чего он говорил, и от кого подлинно о том он слышал…» (52, 30–31). В 1748 г. по делу Лестока также последовал указ: «Лестока в запирательстве его с очных ставок и в протчем привести в застенок и подняв на дыбу, роспросить накрепко» (760, 56).
Так мы видим, что термины «с пристрастием», «накрепко» применяются и к собственно пытке на дыбе, и к «роспросу» без пытки у дыбы. Но все же следует взять за «образец» пытку известного старца Авраамия в 1697 г. По записи в деле мы видим последовательное применение большей части описанных выше пыточных процедур: «И того ж числа старец Аврамей у пытки роспрашиван с пристрастием, и подымай на дыбу двожды. А на другом подъеме было ему кнутом три удара, чтоб он про тех людей, которые к нему прихаживали, сказал подлинно какова они чину и где живут. А на пытке и после пытки в роспросе сказал… (идет содержательная часть допроса. — Е.А.). Старец Аврамей руку приложил» (376, 173).
Следует заметить, что в проекте Уложения 1754 г. сказано, что перед пыткой приговоренному к ней зачитывают приговор о пытке и «расталковывают ему при том все оныя подозрения, которыми он по делу отягощен» (594, 47). И хотя мы имеем дело с нереализованным проектом кодекса, он, как и во многих других случаях, отражает сложившуюся сыскную практику. Объявление приговора о пытке для приведенного в застенок уже есть моральная пытка, к которой прибегали в «роспросе с пристрастием» перед подъемом на дыбу.
Пытка как универсальный элемент судебного и сыскного процесса была чрезвычайно распространена в XVII–XVIII вв. Заплечные мастера, орудия пытки, застенки и колодничьи палаты были во всех центральных и местных учреждениях. Пытка в России дожила до реформ Александра II, хотя указ об ее отмене появился в 1801 г. Пытка разрешалась гражданским процессуальным правом, как в XVII, так и в XVIII в. Правовые основы пытки как средства физического истязания для получения показаний, и прежде всего признаний, отлились в нормы Уставной книги Разбойного приказа, были переняты Соборным уложением 1649 г. Оно свободно допускало пытку по многим делам, и не только политическим. В «Кратком изображении процессов» 1715 г. пытке посвящена целая глава (6-я — «О роспросе с пристрастием и пытке»). Согласно этим законам, решение о применении пытки выносил сам судья, исходя из обстоятельств дела. Закон предписывал, что «пытка употребляется в делах видимых (т. е. очевидных. — Е.А.), в которых есть преступление». В России, в отличие от многих европейских стран, не было «степеней» пыток, все более и более ужесточавших муки пытаемого. Меру жестокости пытки определял сам судья, а различия в тяжести пытки были весьма условны: «В вящих и тяжких делах пытка жесточае, нежели в малых бывает». Вместе с тем законы рекомендовали судье применять более жестокие пытки к людям, закоренелым в преступлении, а также к физически более крепким и худым. Тогда опытным путем пришли к убеждению, что полные люди тяжелее переносят физические истязания и быстрее умирают без всякой пользы для расследования. Милосерднее предписывалось поступать с людьми слабыми, а также менее порочными: «Также надлежит ему оных особ, которые к пытке приводятся, рассмотреть и, усмотря твердых, безстыдных и худых людей — жесточае, тех же, кои деликатного тела и честные суть люди — легчее» (626-4, 421). Эта норма повторяется и в проекте Уложения 1754 г.: судьям надлежало иметь рассуждение и «с твердыми и крепкими людьми жесточае, а с нежными и безсильными легче поступать» (600, 30).
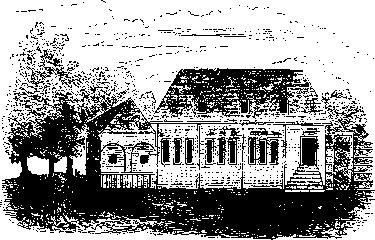
Подворье Стефана Яворского в Петербурге
По закону от пытки в суде освобождались дворяне, «служители высоких рангов», люди старше семидесяти лет, недоросли и беременные женщины (626-4, 422–423). В уголовных процессах так это и было: слово дворянина официально считалось весомее и правдивее слова простолюдина. В политических делах эта правовая норма в точности не соблюдалась, как и другие законы, характерные для состязательного суда В сыскном ведомстве пытали всех без разбору и столько, сколько было нужно. В итоге на дыбе оказывались и простолюдины, и лица самых высоких рангов, дворяне и генералы, старики и юноши, женщины и больные. Женщин пытали наравне с мужчинами, но число ударов им давали поменьше, да и кнут иногда заменяли на плети или батоги (285-4, 64). В проекте Уложения 1754 г. об этом сказано определенно: женщин пытать «теми же градусами (что и мужчин. — Е.А.), токмо при том с ними с умеренностию поступать, дабы оттого совсем изувечены или умерщвлены не были» (600, 47).
Но гуманизм к женскому полу — достижение уже Елизаветинской эпохи. До этого с женским состоянием считались мало, хотя беременных не пытали уже при Петре Великом. Известно, что во время свирепого Стрелецкого розыска 1698 г. на дыбу была поднята постельница царевны Софьи Федора Колужкина. Тут-то и заметили, что она беременна И хотя Колужкина могла дать важные показания, ее более не пытали (399, 104). Впрочем, из записок Желябужского известно, что прислужница царевны Марфы Алексеевны Анна Жукова «на виске… родила». Между тем известно, что Жукову пытали трижды, причем в последний раз дали ей 25 ударов кнута Вряд ли следователи при пытке не видели, что женщина беременна (290, 264; 163, 77-78). После рождения ребенка пытки женщины могли возобновиться. По крайней мере, согласно указу 1697 г. преступницу, родившую ребенка, разрешалось наказывать на теле через 40 дней после родов (587-3, 1612, 1629). Императрица Елизавета в 1743 г. так писала по поводу «роспроса» беременной придворной дамы Софьи Лилиенфельд, проходившей по делу Лопухиных: «Надлежит их (Софью с мужем. — Е.А.) в крепость всех взять и очной ставкой производить, несмотря на ее болезнь, понеже коли они государево здоровье пренебрегали, то плутоф и наипаче жалеть не для чего» (660, 38–39).
Материалы Стрелецкого розыска 1698 г. позволяют прийти к выводу, что малолетними («за малые леты») считались «бунтовые» стрельцы в возрасте до 20 лет. Только по этой причине им даровали жизнь. Однако пытали их во время следствия с той же жестокостью, как и взрослых стрельцов (197, 60, 207). По-видимому, пытки и казни малолетних вообще все-таки случались, хотя и не так часто; припомним ужасную казнь через повешение в 1614 г. четырехлетнего «воренка» — сына Марины Мнишек. В принципе пытки и казни детей закон не запрещал. В Соборном уложении о возрасте преступника не сказано ни слова. В 1738 г. пытали 13-летнюю чревовещательницу Ирину Иванову поднимали на дыбу и секли розгами (322, 162). Но все-таки по делам видно, что детей и подростков щадили. В страшном Преображенском приказе Ромодановского малолеток только допрашивали, на дыбу не поднимая (212, 63). В выписке по делу 13—14-летних учеников Кронштадтской гарнизонной школы, привлеченных в Тайную канцелярию в 1736 г., сказано: «В означенном между ими споре дошли они до розыску, но за малолетством их розыскивать ими не можно». Поэтому было предложено: «Учинить наказанье — вместо кнута для их малолетства бить обоих кошками нещадно» (63,14 об.).
Проблема возраста пытаемых и казнимых впервые серьезно встала лишь в царствование гуманной Елизаветы Петровны. В 1742 г. 14-летняя девочка Прасковья Федорова зверски убила двух своих подружек. Генерал-берг-директориум, которому подчинялся округ, где произошло преступление, настаивал на казни юной преступницы. Когда Сенат отказался одобрить приговор, то горное ведомство потребовало уточнения вопроса о пытке и казни малолетних с точки зрения права. Обсуждение в Сенате в августе 1742 г. привело к важному правовому нововведению: отныне в России малолетними признавались люди до 17 лет. Тем самым они освобождались от пытки и казни (587-9, 8601), по крайней мере, теоретически. За 1756 год сохранилось дело о пытке 15-летнего В. Рудного «под битьем лозами». Известны данные 1760-х гг. о наказании малолетних (в том числе 11-летнего) преступников розгами и плетью. В поправках 1766 г. к проекту Уложения 1754 г. сказано, что безумных и малолетних, которым меньше десяти лет, «с пристрастием не спрашивать и к роспросу не принуждать, и не истязывать понеже, не имея разума, ни в чем умышленного преступления учинить и наказаны быть не могут» (227, Прил. 17, 112; 600, 29).
Рассмотрим теперь саму процедуру пытки. Перед пыткой (а порой и перед «роспросом») приведенного в застенок колодника раздевали и осматривали. В деле Ивана Лопухина отмечалось, что вначале он давал показания «в застенке, еще нераздеванный» (660, 17). Эго обстоятельство является принципиальным, почему его и зафиксировали в деле. Публичное обнажение тела человека считалось постыдным, позорящим действом. Такой раздетый палачом, побывавший в «катских руках» человек терял свою честь. В 1742 г. это обстоятельство стало поводом для отказа восстановить в должности бывшего адъютанта принца Антона-Ульриха, т. к. он, отмечалось в постановлении, «до сего был в катских руках» (544, 176). Осмотру тела (прежде всего — спины) пытаемого перед пыткой в сыске придавали большое значение. Это делали для определения физических возможностей человека в предстоящем испытании, а также для уточнения биографии пытаемого: не был ли он ранее пытан и бит кнутом. Как рассказывал в сентябре 1774 г. в Секретной комиссии Емельян Пугачев, после первого ареста в Малыковке и битья батогами его привезли в Казань. Секретарь губернской канцелярии, «призвав к себе лекаря, велел осмотреть, не был ли я в чем прежде наказан. Когда же лекарь раздел донага и увидел, что был сечен, а не узнал — чем, и спрашивал: “Конечно-де, ты, Пугачов, кнутом был наказан, что спина в знаках?” На что я говорил: “Нет-де, а сечен только во время Пру[с]кого похода по приказанию полковника Денисова езжалою плетью, а потом чрез малыковского управителя терпел пристрастный распрос под батогами”» (684-0, 136).
Дело в том, что при наказании кнутом, который отрывал от тела широкие полосы кожи, на спине навсегда оставались следы в виде белых широких рубцов — «знаков». Плети и батоги, которыми наказывали Пугачева, таких явных следов не оставляли. Впрочем, специалист мог обнаружить следы битья даже многое время спустя после экзекуции. Когда в октябре 1774 г. генерал П.С. Потемкин решил допросить Пугачева с батогами и для этого приказал раздеть и разложить крестьянского вождя на полу, то присутствующие при допросе стали свидетелями работы опытного заплечного мастера Вот как описывает этот эпизод сопровождавший Пугачева майор П.С. Рунич: Потемкин приказал «палачу начать его дело, который, помоча водою всю ладонь правой руки, протянул оною по голой спине Пугачева на коей в ту минуту означились багровые по спине полосы. Палач сказал: “А! Он уж был в наших руках!”. После чего Пугачев в ту минуту вскричал: “Помилуйте, всю истину скажу и открою!”» (629, 151).
Когда на спине пытаемого обнаруживались следы кнута, плетей, батогов или огня, то положение такого человека менялось в худшую сторону — рубцы свидетельствовали: он побывал «в руках ката» и тем самым был ранее уже обесчещен, а значит, перед судьями стоит человек «подозрительный», возможно — рецидивист. В протоколе допроса обязательно делали запись об осмотре и допросе по этому поводу: «Приведен для розыску в застенок и по осмотру спина у него бита кнутом и зжена»; «А по осмотру сего числа кнутом он бит же…». Подозрительного арестанта обязательно допрашивали о рубцах, при необходимости о его персоне наводили справки в других учреждениях. «Да он же, Куземка, явился бит кнутом и про то сказал…» или «По осмотру он явился подозрителен: бит кнутом, а за что не знает и для того он показался сумнительным». Веры показаниям такого человека уже не было никакой. О нем делали такую запись: «К тому же он… человек весьма подозрительный и за тем никакой его к оправданию отговорки верить не подлежите (28, 6; 92, 146 об.; 197, 100, 125; 804, 446–447).
В основе такого вывода лежала норма законодательства XVIII в., согласно которой за ранее наказанным преступником полностью отрицалось даже призрачное право на защиту. Даже в проекте Уложения 1754 г., авторы которого призывали судей к милосердию, обязывали не лишать допрашиваемого шансов оправдаться, разговор с теми, у кого на спине были знаки, был короток и беспощаден — тотчас по обнаружении «знаков» на спине такого человека надлежало спрашивать «только о их летах и не были ль прежде сего в каких штрафах или что обстоятельство дела требовать будет» (596, 15). Иначе говоря, признавалось, что перед судьями стоит не подозреваемый, который может оправдаться, а преступник, возможно — беглый. После короткого допроса его снова наказывали и отравляли на каторгу. Так произошло с будущим сообщником Пугачева беглым каторжником Афанасием Соколовым — «Хлопушей», который был (еще до восстания) пойман без паспорта по дороге в Екатеринбург. Как он рассказывал на следствии 1775 г., «по допросе (как он человек подозрительный) наказан в другой раз кнутом» и после рвания ноздрей и клеймения был сослан на каторгу в Нерчинск (280, 164; 220, 161).
После «роспроса с пристрастием» под дыбой и осмотра тела пытаемого начиналась собственно физическая пытка. Первой стадией ее являлась, как сказано выше, так называемая «виска», т. е. подвешивание пытаемого на дыбе без нанесения ему ударов кнутом. О солдате Зоте Щербакове, попавшем в Тайную канцелярию в 1723 г. за «непристойные слова», записано: «Тот Щербаков в роспросе и с очных ставок, и с виски винился» (9–3, 88 об.). Петр в письме Меншикову 1718 г. предписывал допросить слугу царевича Алексея, а также А. В. Кикина, «распрося в застенке один раз пытай только вискою одною, а бить кнутом не вели». В другом случае царь употребляет специфический термин: «Вискою спроси» (325-1, 310, 312).
Известно два способа виски (другое ее название — «с подъему», «подъем на дыбу»). В одном случае руки человека вкладывались в хомут в положении перед грудью, во втором — руки преступника заводились за спину, а затем (иногда с помощью блока) помощники палача поднимали человека над землей так, чтобы «пытанной на земле не стоял, у которого руки и заворотит совсем назад, и он на них висит» (519, 58). Как пишет иностранец — очевидец этого страшного зрелища, палачи «тянут так, что слышно, как хрустят кости, подвешивают его (пытаемого. — Е.А.) так, словно раскачивают на качелях» (794, 121). Кстати говоря, путешественники могли видеть пытки своими глазами — посещение застенка было видом экскурсии, подобно посещению анатомического театра или кунсткамеры. Патрик Гордон за 24 сентября 1698 г. записал в своем дневнике: «Смотрел я в Преображенском как пытали сначала девицу Анну Александрову, а затем подполковника Колпакова» (163, 62).
В таком висячем положении преступника допрашивали, а показания записывали: «А Васка Зорин с подъему сказал…», «Илюшка Константинов с другой пытки на виске говорил…», «А с подъему Сере и: ка Степанов в роспросе сказан…», «Костка Затирахин в застенке поднимая и в петли висел, а с виски сказал…» (197, 88, 101, 102 и др.). Пытку «в виске» следователи могли и ужесточить. В составленном в середине XVIII в. описании используемых в России пыток («Обряд како обвиненный пытается») об этом методе рассказано следующее: между связанными ногами преступника просовывали бревно, на него вскакивал палач, чтобы сильнее «на виске потянуть ево (преступника. — Е.А.), дабы более истязания чувствовал. Естьли же и потому истины показывать не будет, снимая пытаного с дыбы, правят руки, а потом опять на дыбу таким же образом поднимают для того, что и чрез то боли бывает больше» (519, 59).

Посещение Венингом русской тюрьмы в начале XIX века
Г.К. Котошихин, живший во второй половине XVII в., описывает другой, весьма распространенный и впоследствии вариант пытки: после того как ноги пытаемого, который висел на дыбе, связывали ремнем, «один человек палач вступит ему в ноги, на ремень, своею ногою и тем его оттягивает, и у того вора руки станут прямо против головы его, а из суставов выдут вон». Эта очень болезненная процедура называлась «встряской» или «подъем с стряской». В записках аббата Шаппад’Отроша (1764 г.) и на гравюре XVIII в., помещенной в его сочинении, видно также, что и тело вытягивалось с помощью просунутого между ног бревна, на которое вставал палач (814, 228). О подвешивании тяжести к ногам говорят другие авторы (784, 1143). Англичанин Перри писал о том, что к ногам пытуемого еще привязывали гирю (546, 141). Работные люди Н.Н. Демидова в 1752 г. жаловались, что их хозяин многих из них «поднимал на встряски, вкладывая в ноги великии и притежелые бревны, а петли ж руки и ноги» (463, 220). При пытке в Сыскном приказе раскольника Ивана Филипова в 1756 г. между ног «ему клали троекратно бревно», а после еще дали 50 ударов кнутом (264, 57). Вывернутые из суставов руки вновь вправляли, и после этого человека вновь подвешивали на дыбу так, что новая встряска оказывалась болезненней предыдущей. Поэтому виску старообрядца Мартынка Кузмина в 1683 г., о которой сказано, что «были ему многие встряски», следует признать как полноценную жестокую пытку (718, 16).
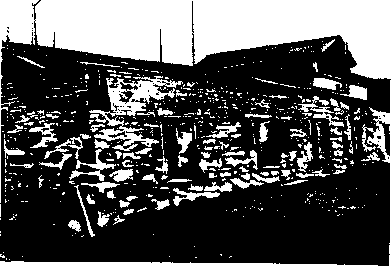
Заводская тюрьма для рабочих завода Демидовых, построенная в 30-х годах XVIII в.
Редко, но бывало и так, что пытка на стадии виски и заканчивалась. Это происходило тогда, когда преступник уже с виски давал ценные показания или признавал свою вину. В материалах Стрелецкого розыска 1698 г. есть запись допроса стрельца Якова Рыбникова, из которой можно видеть, как человек «ломается» на виске и начинает признаваться и рассказывать то, что нужно следствию: «Якушко Рыбников роспрашиван и пытан. В роспросе и на виске говорил, бутто он ни про что против [допросных] статей, ни в чем спрашиван не ведает… Он же, Якушко, говорил, чтоб ево снять с виски, а он скажет правду. И он, Якушко, с виски снят и перед боярином перед князем Петром Ивановичем Прозоровским в роспросе сказал…» (197, 98). Украинец Григорий Денисов, взятый в розыск в 1726 г. за угрозы стоявшим у него на дворе русским солдатам, что «наш (т. е. украинцев. — Е.А.) будет верх», вначале полностью отрицал извет на него, но «потом с подъему винился: те-де слова говорил он в безмерном пьянстве». Следователи ограничились виской и по приговору Тайной канцелярии сослали Денисова с семьей в Сибирь (8–1, 313). Так же поступили и с хирургическим учеником Иваном Черногороцким, сказавшим в 1728 г. нечто неодобрительное о портрете Петра II. Протокол о пытке его содержит такие слова: «С подъему сказал: те-де слова говорил он, обмолвясь». Это вполне удовлетворило следствие, и без продолжения мучений Черногороцкий отправился в Сибирь «на вечное житье» (8–1, 336 об.).
Разновидностью виски была и «развязка в кольца». Из дела Авдотьи Нестеровой (1754 г.) видно, что «она положена и развязана в кольцы и притом спрашивана» (571, 298). Суть пытки состояла в том, что ноги и руки пытаемого привязывали за веревки, которые протягивали через вбитые в потолок и стены кольца. В итоге пытаемый висел растянутым в воздухе. В Западной Европе в XVI–XVIII вв. это приспособление называлось «колыбель Иуды». Кроме растяжек веревками применяли железный пояс и пирамиду, на острие которой сажали пытаемого.
Но для многих попавших в застенок виска была только началом тяжких физических испытаний. Следует различать показания («речи»), которые получали «с подъему», и речи «с розыска, ис подлинной правды». В первом случае имеется в виду лишь допрос с «вытягивания» подследственного на дыбе в виске, а во втором применение кроме виски также кнута и других приемов и средств пытки. Из делопроизводственных документов сыска следует, что виска «с подъему» даже не считалась полноценной пыткой. Доносчик Михаил Петров был определен, по обстоятельствам его дела, к розыску «ис подлинной правды», «понеже без розыску показания ею за истину признать невозможно», хотя он «в роспросе и в очной с ним (ответчиком. — Е.А.) ставке и с подъему и утверждался, но тому поверить невозможно потому, что и оной (ответчик. — Е.А.) Федоров в роспросех и в очной ставке, и с подъему в том не винился» (42-2, 114). Теперь рассмотрим, как, собственно, происходила пытка кнутом.
После того как человека поднимали на дыбу уже для битья кнутом, палач, согласно «Обряду, како обвиненный пытается», связав ремнем ноги пытаемого, «привязывает [их] к зделанному нарочно впереди дыбы столбу и, растянувши сим образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах, и все записывается, что таковой сказывать станет» (519, 58). Иначе говоря, тело пытаемого зависало почти параллельно земле. Когда наступал момент бить кнутом, то палачу требовался умелый ассистент — он следил за натягиванием тела пытаемого так, чтобы кнутмейстеру было ловчее наносить удары по спине, били только по спине, преимущественно от лопаток до крестца. Немецкий путешественник конца XVII в. Г.А. Шлейссингер, сам видевший пытку в застенке, к этому добавляет, что ассистент хватал пытаемого за волосы и пригибал голову, «чтобы кнут не попадал по голове» (794, 121). Из описания пытки 1737 г. видно, что при повреждении кистей рук пытаемый подвешивался на дыбу «по пазухи», т. е. за подмышки (710, 132). Однако многих подробностей пытки мы так и не узнаём — очень часто все разнообразие пыточной процедуры умещалось в краткие слова протокола пытки: «Подыман и пытан…» (623-4, 251).
Кнут применялся как для пытки, так и для наказания преступника. О нем сохранились многочисленные, хотя и противоречивые, сведения. У Котошихина сказано о кнуте следующее: «А учинен тот кнут ременной, плетеной, толстой, на конце ввязан ремень толстый, шириною на палец, а длиною будет с 5 локтей», т. е. до 2 метров (415, 115). Перри описывает иное устройство кнута: «Кнут состоит из толстого крепкого кожаного ремня, длиною около трех с половиной футов (т. е. более метра. — Е.А.), прикрепленного к концу толстой палки длиною 2,5 фута, на оконечности коей приделано кольцо или вертлюг, вроде цепа, к коему прикреплен ремень» (546, 141). С ним не согласуются сведения Ф.Г. Берхгольца, который в своем дневнике 1721 г. пишет, как и Котошихин, что кнут — «род плети, состоящий из короткой палки и очень длинного ремня» (150-1, 71). Уильям Кокс в 1781 г. путается в рассказе об устройстве кнута, но отмечает, что это «ремень из сыромятной кожи, толщиной в крону (т. е. в монету. — Е.А.) и шириною около трех четвертей дюйма (т. е. ок. 2 см. — Е.А.), суживающийся постепенно к концу», к толстому кнутовищу он привязывался с помощью ремешка (391, 26). По словам датского посланника в России 1709–1710 гг. Юсга Юля, кнут «есть особенный бич, сделанный из пергамента и сваренный в молоке», чтобы он был «тверд и востр» (810, 180). Думаю, что речь идет не о пергаменте, а о толстой, хорошо выделанной (в том числе и с помощью выварки в молоке) коже. Так считал Яков Рейтенсфельд, видевший кнут в Москве в 1670 г. и писавший о нем: «Кнут, то есть широкий ремень, проваренный в молоке, дабы удары им были бы более люты» (615, 117). Неизвестный издатель записок пастора Зейдера 1802 г., наказанного кнутом, дает свое описание этого орудия. Это описание ставит все точки над i: «Кнут состоит из заостренных ремней, нарезанных из недубленой коровьей или бычачьей шкуры и прикрепленных к короткой рукоятке. Чтобы придать концам их большую упругость, их мочат в молоке и затем сушат на солнце, таким образом они становятся весьма эластичны и в то же время тверды как пергамент или кость» (520, 480).

Наказание кнутом Лопухиной
Кнут специально готовился к экзекуции, его согнутые края оттачивали, но служил он недолго. Недаром в «наборе палача» 1846 г. (официальное название минимума палаческих инструментов), с которым палач являлся на экзекуцию, было предписано иметь 40 запасных «сыромятных обделанных сухих концов» (716, 213). Такое большое количество запасных концов необходимо потому, что их требовалось часто менять. Дело в том, что с размягчением кожи кнута от крови сила удара резко снижалась. И только сухой и острый конец считался «правильным». Как писал Юль о кнуте, «он до того тверд и востр, что им можно рубить как мечом… Палач подбегает к осужденному двумя-тремя скачками и бьет его по спине, каждым ударом рассекая ему тело до костей. Некоторые русские палачи так ловко владеют кнутом, что могут с трех ударов убить человека до смерти». Это мнение разделяют и другие наблюдатели, писавшие о кнуте, а также последний из историков, кто держал в руках это страшное орудие пытки и казни — Н. Д. Сергеевский (см. 711, 180; 492, 26; 673, 152–153 и др.).
Об огромной силе удара кнутом сообщал Котошихин, писавший, что после удара «на спине станет так, слово в слово (т. е. точно. — Е.А.), будто большой ремень вырезан ножом, мало не до костей» (415, 115). Такую же, как Котошихин, технику нанесения ударов описывает и Перри: «При каждом ударе он (палач. — Е.А.) отступает шаг назад и потом делает прыжок вперед, от чего удар производится с такою силою, что каждый раз брыжжет кровь и оставляет за собой рану толщиною в палец. Эти мастера, как называют их русские, так отчетливо исполняют свое дело, что редко ударяют два раза по одному месту, но с чрезвычайной быстротой располагают удары друг подле дружки во всю длину человеческой спины, начиная с плеч до самой поясницы». Согласен с Перри в оценке мастерства палачей и Берхгольц, хотя о технике удара он имеет иное представление, чем другие авторы. Он пишет, что, после того как суставы пытаемого вывернуты из своих мест, «палач берет кнут в обе руки, отступает несколько шагов назад и потом с разбегу и, припрыгнув, ударяет между плеч вдоль спины и, если удар бывает силен, то пробивает до костей. Палачи так хорошо знают свое дело, что могут класть удар к удару ровно, как бы размеряя их циркулем и линейкою» (546, 141; 810, 329–330; 150-1, 71; все о кнуте см. 728, 219–253).
Разница в описании авторами ударов «кнутового мастера» (Перри) или «обер-кнутмейстера» (Берхгольц) объясняется тем, что существовало несколько приемов нанесения ударов при пытке и во время казни. Так, из комментария издателя записок Зейдера следует, что при наказании на эшафоте палач бил преступника по спине, располагая удары вдоль хребта (520, 480–481). Впрочем, били преступника и крест-накрест сразу двумя кнутами. Удары плетью палач также клал крестообразно. При этом следили, чтобы удары не касались боков и головы человека (711, 212). Чтобы достичь необходимой точности удара, палачи тренировались на куче песка или на бересте, прикрепленной к бревну (784, 1152–1153).
Вообще-то, цель убить пытаемого (чтобы он умер, как тогда говорили, «в хомуте») перед заплечным мастером, работавшим в застенке, не ставилась. Наоборот, ему следовало бить так, чтобы удары были чувствительны, болезненны, но при этом пытаемый сразу после застенка оставался жить — по крайней мере, до тех пор, пока не даст нужных показаний. За состоянием арестанта при пытке и после нее тщательно следили, имея в виду новую пытку. Следователи понимали, что пытаемый, к которому применены суровые или не соответствовавшие его «деликатному сложению», возрасту и состоянию (например, стар, болен) меры, мог умереть под пытками без пользы для сыскного дела. Указы предписывали смотреть, чтобы людей «вдруг не запытать, чтоб они с пыток не померли вперед для разпросу, а буде кто от пыток прихудает и вы б тем велели давать лекарей, чтоб в них про наше дело сыскать допряма» (500, 111). Пытки стрелецкого подполковника Колпакова в 1698 г. оказались настолько жестокими, что он онемел и не смог ответить ни на один вопрос. Колпакова сняли с дыбы и принялись лечить (399, 99, 105). Во время пыток Кочубея в 1708 г. следователи также опасались давать ему много ударов. Г.И. Головкин сообщал царю: «А более пытать Кочубея опасались, чтоб прежде времени не издох, понеже зело дряхл и стар, и после того был едва не при смерти… и если б его паки пытать, то чаем, чтоб конечно издох» (412, 603). В 1718 г. начальник Тайной канцелярии П.А. Толстой писал Петру I о пытаемой в застенке Марии Гамильтон: «Вдругорядь пытана… И надлежало бы оную и еще пытать, но зело изнемогла» (536, 30). Явную ошибку сделал в 1725 г. генерал Шереметев, который «перепытал» извозчика — самозванца Евстифея Артемьева, который на четвертой и пятой пытке «весьма был болен же и ничего не говорил и распрашивать было его за безмолвием невозможно» (598, 12). В 1737 г. главнокомандующий Москвы С.А. Салтыков доносил в Петербург о раскольнике Иване Павлове, что он стоит на своих показаниях, и «хотя надлежало было им розыскивать накрепко, токмо опасно, чтоб не умер, ибо он собою весьма худ, и стар, и мало ест» (710, 130). Впрочем, иным людям, чтобы погибнуть, было достаточно нескольких ударов кнутом. Так, автор осуждающих Петра I «Тетрадей», старец Авраамий, был в 1697 г. пытан в застенке Преображенского приказа по самой «легкой программе»: ему дали только три удара кнутом и после этого он начал говорить — так был стар и слаб Авраамий (212, 85).
То, что палач получал от следователей указания о числе ударов кнутом, видно из всей процедуры пытки. Неясно, говорили ли ему бить сильнее или легче, но, исходя из существовавших в процессуальном праве понятий о пытке («жесточае», «легчае»), из бытовавших представлений о «крепкой натуре» и «деликатном теле», можно предположить, то палач, по указанию следователя, наносил удары кнутом сильнее или слабее, в менее или более болезненные места. Малолетних пытали так же, но в облегченном варианте: для них пытка ограничивалась виской, вместо кнута они получали батоги, плети или палки (7, 136 об; 325-2, 200). Само известное из следственных дел и законодательства выражение «пытать жестоко» (как и выражения: «жесточае», «легчае» или «накрепко», «не слабовато поступать») нигде не уточняется, числом ударов не обозначается. В этом проявлялась характерная для того времени приблизительность закона, который давал следователю значительную свободу действий. В выписке из допросов нескольких стрельцов в 1699 г. сказано, что они «пытаны по дважды накрепко, а Якимка Пострелов, Пронка Шатченинов после пытки зжены огнем» (197, 217). Иначе говоря, выражение «накрепко» не означает пытки огнем, которая фигурирует как отдельная пытка. Общее же правило читаем в «Кратком изображении процессов», где сказано: «Умерение пытки весьма на рассуждение судейское положено» (626-4, 421).
Последствия пытки кнутом на дыбе были ужасны. Шлейссингер так описывает все виденное им в застенке: «Я видел одного такого несчастного грешника, который приблизительно после 80 ударов висел совсем мертвый, ибо вскоре уже на его теле ничего не было видно, кроме кровавого мяса до самых костей. Продолжая бить, преступника все время допрашивают. Но этот, которого я видел, все время повторял: “Я не знаю, я не знаю”, пока в конце концов вообще не мог больше отвечать» (794, 121). Другой наблюдатель, Рейтенсфельд, писал: преступник находился в висячем положении, а «судья при каждом ударе восклицает “Скажи!”, т. е. “Признавайся”» (615, 117).
В отчете 1627 г. об истязаниях Васьки Лося, которого пытали «накрепко» и дали при этом 100 ударов кнута, сказано: «Да [было ему] 10 стрясок, да трижды на огонь поднимали… И мы… того Ваську Лося велели в четвертые поднять на огонь и тот Васька Лось с огня повинился» (500, 42–43). Так в документах чаще всего записывали пытку огнем. Выражения «на огонь поднимали», «зжен огнем», «говорил с огня» широко известны и в XVIII в. Ими обозначали еще одну разновидность пытки, по оценке сыска — более тяжелой, чем виска, встряска или битье кнутом на дыбе. Не случайно пытку огнем отделяли от других пыток. Об этом сохранились записи-резолюции: «Из переменных речей пытать еще дважды и жечь огнем» (322, 40). Нужно согласиться с мнением В. Линовского, считавшего, что в России заменой западноевропейских «степеней» было разделение физических истязаний на пытки без огня и пытки с огнем (431, 98). Пытка огнем во многих случаях являлась либо заключительным испытанием в серии пыток, с помощью которой «затверждали» полученные ранее показания «из подлинной правды», либо (в случае, если нужные показания не получены) становилась самостоятельной, особо тяжелой мукой. В последнем случае жечь огнем могли многократно, как это видно из записи пытки Лося или Мартанки Кузмина, который был «пытан накрепко… и огнем, и клещами жжен многажды», или как в деле рудничного мастера Елисея Поздникова, которого «сильно жгли огнем» (718, 16; 163, 47; 89, 774). В таких случаях жизни пытаемого угрожала смертельная опасность; в деле «жонки» Марфы Долговой, десять раз пытанной на дыбе и жженной огнем, сказано: «И на огне зажарена до смерти» (или по другому документу: «А Марфушка в застенке после пытки на огне сожжена» (89, 437; 322, 14).
Из материалов розыска не совсем ясно, как проводили такую пытку, зачастую в протоколе сказано кратко: «говорил с огня» или «огнем зжен». Но есть основания думать, что допросы вели, держа человека над огнем (костром, жаровней). Упомянутого Лося, если судить по тексту документа, каким-то образом подвешивали над огнем и в таком положении допрашивали. Перри — один из немногих авторов мемуаров, который видел эту пытку в начале XVIII в., — писал: «Около самой виселицы разводят мелкий огонь…, [человеку] связывают руки, ноги и привязывают его к длинному шесту, яко бы к вертелу. Двое людей поддерживают с обоих концов этот шест над огнем и таким образом обвинного в преступлении поджаривают спину, с которой уже сошла кожа; затем писец… допрашивает его и приводит к признанию» (546, 142). В протоколах сыска каждый новый вид пыток отмечался особо: «Говорил… в роспросе, и с пытки, и с огня», «И Ерошка огнем зжен, а с огня говорил…» (197, 111–114). В протоколе пытки Никиты Кирилова 20августа 1714 г. записано: «На пытке было ему 25 ударов и зжен огнем, с огня говорил…» (325-2, 102–103). В проекте Уложения 1754 г. техника этой пытки проясняется окончательно: «Приводнаго на виске еще сверх того веником или утюгом жгут» (596, 46). Из дела чародея Науменка 1643 г. единственный раз мы видим не встречавшееся в других источниках уточнение пытки огнем: «Пытан — подозжена ему пята»(307, 36).
В конечном счете нужно различать следующие разновидности пытки огнем: держание над огнем (о такой пытке писали — «зжен на огне») я прикладывание к телу каких-либо раскаленных или горящих предметов («зжен огнем»). Впрочем, последний термин использовали и для обозначения жжения на огне. Григорий Конисский в своей «Истории Руссов или Малой России» сообщал, что пытка огнем состоит в прикладывании к телу раскаленной железной шины, которую водили «с тихостью или медленностью по телам человеческим, которые оттого кипели, шкварились и воздымались» (398, 238). Рейтенфельс писал также, что пытаемым «крайне мучительно проводят по телу… раскаленным добела железом» (615, 117). Он же упоминает о пытке горящей серой. Вероятно, ею предварительно намазывали какой-нибудь участок тела, а потом поджигали (так было в Западной Европе), либо горящую серу лили на тело пытаемого.
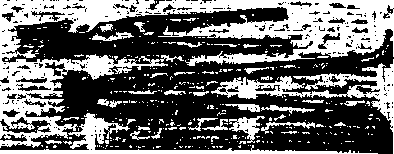
Раскаленные щипцы и клещи
Котошихин упоминает пытку раскаленными докрасна клещами — ими ломали ребра пытаемого (415, 115). Об этом сказано в делах за XVII в.: «Велел пытать накрепко ж и клещами розжегши, велел жечь…», «Розжегши клещи и у ноги перст жечь», «Клещами жжен» (500, 38–39; 718, 16–17; 736, 37). Пытки клещами применил к церковному вору П.А. Толстой в 1693 г. (536, 31). Подобную же пытку прошел в 1709 г. и пленный башкирец Урусакай Туровтев в Тобольске перед воеводой М.Я. Черкасским (537-1, 375). До нашего времени в музейных коллекциях Европы сохранились два вида подобных инструментов, относящихся приблизительно к 1500–1800 гг. — щипцы и клещи, имевшие длинные ручки для того, чтобы накаливать их на огне. Первые похожи на гигантские плоскогубцы, они сделаны в виде пасти крокодила и предназначались для прижигания различных частей тела (грудей, гениталий). Вторые напоминают длинные клещи для вытаскивания гвоздей. Вероятно, именно такими клещами ломали ребра пытаемого и вырывали ноздри у казнимого на эшафоте (815, 126). Шлейссингер, повествуя о пытке, которую он видел в Москве, пишет, что палач подошел «с раскаленным железом и несколько раз ткнул им несчастного грешника в спину. Тот снова стал кричать и жалобно завывать. Это выглядело очень страшно, но мне сказали, что так делается для излечения, чтобы спина снова зажила» (794, 121).
Подозреваю, что доверчивого немецкого экскурсанта обманули, он присутствовал при известной «пытке огнем», а не при лечении таким способом. Вероятно, о такой пытке волшебника Ивана Бунакова в 1689 г. Желябужский писал: «С пытки он рван и не винился» (290, 211, ср. 626, 406). В проекте Уложения 1754 г. есть упоминание о жжении пытаемого раскаленным утюгом (596, 46). Снегирев упоминает также пытку огнем, когда несчастного «встряхивали на спину зажженным веником». Так как автор не ссылался при этом на источники, А. Циммерман считал, что эта подробность вымышлена Снегиревым (784, 1160). Однако и в проекте Уложения 1754 г., и в «Обряде, како обвиненный пытается» середины XVIII в. об этом сказано ясно и определенно: «Палач, отвязав привязанные ноги от столба, висячего на дыбе растянет и зажегши веник с огнем водит по спине, на что употребляетца веников три и больше, смотря по обстоятельствам пытанного» (519, 59). О том же говорится в деле 1724 г., когда было «учинено бабам Федорою Ивановой… Аадотьею Малафеевою… розыскивано, зжены огнем вениками» (9–4, 94). В 1732 г. колодник Ошурков был, согласно приговору Тайной канцелярии, «зжен вениками». Эта пытка отличалась от «зжения огнем», которое упомянутый Ошурков также претерпел (42-3, 119). С. В. Максимов, ссылаясь на традицию, сообщает о мрачной шутке, которой перебрасывались в тюрьме те, кого вели с пытки, с теми, кто ждал своей очереди: «Какова баня? — Остались еще веники!» (453, 111). М.И. Семевский также упоминает, вероятно, взятое им из документов выражение «пытка со вспаркой горячими вениками», передает и такую формулу пытки: «усечь огнем» (664, 65, 98). Майора С.Б. Глебова, любовника царицы Евдокии, пытали не только раскаленным железом, но и «горячими угольями» (734, 442). То, что огонь могли использовать (подносить, прикладывать) несколько раз за пытку, подтверждается документами Стрелецкого розыска 1698 г.: «Васка ж Алексеев огнем зжен в третие, к вышеписанным словам прибавил…» (197, 113).
Все остальные виды пыток встречаются — по крайней мере, по известным мне материалам — довольно редко. «Вождение по спицам» («поставить на спицы») упоминается только несколько раз. Об этой пытке говорится в деле Варлама Левина в 1722 г., а также в деле брянского архимандрита Иосифа. Согласно экстракту Тайной канцелярии, он дал показания «и с огня, и с вожения по спицам» (8–1, 303 об.). Вождение по спицам упомянуто в деле Феофилакта Лопатинского (около 1735 г.), когда «причастник» Феофилакта архимандрит Иоасаф Маевский был не только пытан на дыбе, но и «вожен по спицам три четверти часа» (484, 286; 775, 662). Какова была техника этой пытки, точно мы не знаем. Известно только, что для этого Левина выводили на двор в Преображенском. Можно предположить, что спицы (заостренные деревянные колышки) были вкопаны в землю и пытаемого заставляли стоять на них голыми ногами или ходить по ним (325-1, 45). О таких спицах, которые находились на площади в Петропавловской крепости, пишет первый историограф Петербурга А. Богданов. Он сообщает, что спицы эти были врыты в землю под столбом с цепью, и когда кого «станут штрафовать, то в оную цепь руки его замкнут и на тех спицах оный штрафованный должен несколько времени стоять». Площадь эту у Комендантского дома в крепости народ, склонный к мрачному юмору, прозвал «Плясовой», так как стоять неподвижно на острых спицах человеку было невозможно и он быстро перебирал босыми ногами, как в пляске. Как пишет австрийский дипломат Плейер, Степан Глебов в 1718 г. кроме обычных пыток кнутом, жжения железом и углями натри дня был привязан к «столбу на доске, с деревянными гвоздями» (752, 224; 734,442).
А. Богданов упоминает также и другое орудие пыток, которое находилось на той же площади и использовалось и как пытка, и как наказание, — это деревянная лошадь с острой спиной, на которую верхом на несколько часов сажали пытаемого (наказуемого). Ноги его привязывались под «брюхом» лошади, иногда к ногам привешивали груз. При этом пытку ужесточали ударами кнута или батогов по спине и бокам. Возможно, об этой распространенной пытке-наказании среди военных говорит пословица «Поедешь на лошадке, что самого ездока погоняют» (159, 126; 236, 169). А.П. Волынский, будучи губернатором в Астрахани, прославился тем, что пытал поручика князя Мещерского на деревянной лошади, привязав к его ногам живых собак.
В «Обряде, како обвиненный пытается» есть упоминания еще о четырех видах пыток, которые были в ходу в русских застенках. Из этого описания мы узнаём о пыточных инструментах, известных по литературе о европейской инквизиции. Это тиски — винтовые ручные зажимы и «испанский сапог», т. е. «тиски, сделанные из железа в трех полосах с винтами, в которые кладутся злодея персты сверху большие два из рук, а внизу ножные два и свинчиваются от палача до тех пор, пока или не повинится или не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать». В книге Роберта Хелда приводятся фотографии нескольких видов дошедших до нашего времени тисков для пальцев рук и ног (815, 92–93). Максимов сообщает, что ручной зажим в народе назывался «репка», в сжатом состоянии зажим напоминал этот овощ. «Репка» вызывала острую боль и крики пытаемого. С этим также связана пословица: «Хоть ты матушку-репку пой!» (453, 112). «Испанский сапог» надевали на ногу и затем в скрепу забивали молотком дубовые клинья, постепенно заменяя их клиньями все большей и большей толщины. Самым толстым считался восьмой клин, после чего пытка прекращалась, так как кости голени пытаемого ломались.

Тиски для пальцев
Две другие пытки попали в Россию с Востока. Первая называется «клячить голову», а второй была пытка водою: «Наложа на голову веревку, и просунув кляп, и вертят так, что оный изумленным бывает. Потом простригают на голове волосы до тела и на то место льют холодную воду только что почти по капле, от чего также в изумление приходит». Так описана эта пытка в «Обряде». Снегирев, опираясь на фольклорный материал (чем также вызвал резкую критику А. Циммермана), писал, что была еще пытка с помощью веревки, которой стягивали голову и ноги жертвы (784, 1159). Она отразилась в пословицах «В три погибели согнуть» и «В утку свернуть». В. И. Даль к этому прибавляет. «Согнуть кого в бараний рог. Скрутить кляпом. Узлом затянуть. Согнул в дугу. Скрутил в круг. Смотал его клубком, да связал узлом» (236, 169). Думаю, что в споре Циммермана со Снегиревым прав последний. Хотя эти записанные в XIX в. пословицы имели исключительно переносное, условное значение, допускаю, что весьма распространенная во всем мире пытка (см. 815, 58–59) с помощью стягивания-растягивания тела пытаемого не миновала и Россию. Из следственного дела 1713 г. известно, что попа Ивана Петрова «мучали и клячем голову вертели», что можно понимать как применение веревки с просунутой в нее палкой, которой эту веревку закручивали (537-1, 535). В 1788 г. помещика Анненкова обвиняли в убийстве крестьянина Макарова, которого «приказал скрючить, притянуть веревкою верхние части тела к ногам насколько это было возможно. При этом, чтобы туже натянуть веревку для скрючивания, была употреблена палка» (607, 236). Пытку водой применили к Степану Разину. О ней говорит мемуарист Людвиг Фабрициус: «Есть у русских такой род пытки: они выбривают у злодея макушку и по капле льют туда холодную воду, что причиняет немалые страдания». О том, что Разину «капали ледяную воду на голову», пишет и Ян Рейтенфельс (306, 114; 615, 117, 119).

Переламывание голеней с помощью «испанского сапожка»
Известно дошедшее до наших времен выражение «Сказать всю подноготную» и более чем ясная по своему историческому смыслу пословица «Не скажешь подлинную, так скажешь подноготную» (236, 154). Речь идет о пытке, когда человеку забивают под ногти железные гвозди или деревянные колышки. С.В. Максимов сообщает, что для этой пытки руку пытаемого закрепляли в хомуте, а ладонь зажимали особыми плоскими клещами так, чтобы он не сжал руку в кулак. Возможно, что так пытали под Петергофом, в присутствии Петра I, царевича Алексея. Андреи Рубцов, который попал в Тайную канцелярию в 1718 г. по доносу товарища, показал, что слышал пыточные крики, а потом видел царевича с завязанной рукой (322, 126–139). Впрочем, сына царя могли пытать и просто упомянутым выше ручным зажимом — «репкой».

Пытка водой
Снегирев пишет, что пыткой было и кормление арестанта соленой пищей, причем ему долго не давали пить. Педантичный критик Снегирева А. Циммерман против этого не возражает, припоминая сам, что в современной ему русской полиции (статья писалась в 1864 г.) этот способ добиться нужных показаний был в ходу и называли его «покормить селедкой». Ниже будет приведен отрывок из воспоминании Андрея Болотова о том, как он сам пытал крестьянина этим же способом. Об этой пытке упоминается даже в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», когда идет речь о приемах работы судьи Ляпкина-Тяпкина. О кормлении соленым как пытке, а также о посыпании ран солью пишет и С.В. Максимов (453, 111). Крестьяне заводчика Н.Н. Демидова в 1752 г. жаловались, что хозяин в заводском застенке «бьет немилосердно кнутом и по тем ранам солит солью и кладет на розженое железа спинами» (463, 220, 308, 341).
Пыточные вопросы (в конце XVII в. их называли «Статьи, каковы выписаны… для розыску» — 623-4, 135), как и в «роспросе», составляли заранее на основе извета, роспросных речей, других документов. В особых, «важных» делах их писали или диктовали сами коронованные следователи. Так делали все русские государи: Алексей Михайлович, Петр I, Анна Ивановна, Елизавета Петровна. Последняя, составив такой вопросник, распорядилась: «И что с розыску покажет, доложить Ея величеству» (660, 22). Протокол допроса на пытке был близок к тому, который вели во время «роспроса» и очной ставки. Вопросы писали на листе столбцом слева, а на правой, чистой половине листа записывались ответы, полученные с пытки, — иногда подробные, иногда — краткие («признается», «винится») или в виде пометок: «Во всем запирался», «Запирается» (630-4, 249; 755, 210).
Неясно, каким образом во время виски и битья кнутом велся допрос («роспрос из пытки»). Часто мы имеем лишь краткую запись об этом: «В застенке ж у пытки Оска Охапкин в роспросе сказал…», «В том Авраам подъиман и с виски сказал…» (623-4, 270; 752, 214, 217). Возможно, что вначале пытаемому задавали вопрос, потом следовал улар (или серия ударов), а потом слушали и записывали его ответ. Возможно, что человека били и до вопросов, и после них. Из дел российского сыска (как и из западноевропейских гравюр) мы видим, что пытаемый давал показания в висячем положении. Как пишет Перри, удары кнутом «обыкновенно производятся с расстановкой и в промежутках поддьяк или писец допрашивает наказуемого о степени виновности его в преступлениях, в коих он обвиняется, допрашивает и о том, нет ли у него сообщников, а также не виновен ли он в каких-либо других из тех преступлений, которые в эту минуту разбираются судом… в коих виновные не открыты» (546, 141).
Из дела Александра Кикина, сподвижника царевича Алексея, которого допрашивали 18 февраля 1718 г., следует, что «роспрос из пытки» был организован следующим образом. Пытаемому вначале задали девять вопросов, он на них отвечал, а потом его подвесили на дыбу, дали 25 ударов и вновь повторили вопросы, а потом уже записали его ответы на них. В протоколе сыска допрос с пытки записывали так: «И в том им розыскивано. А с розыску сказал: На 1-е: Тож (т. е. как в ответе на первый вопрос до пытки. — Е.А.)» и т. д. (752, 468–469). В документах сыска очень часто встречаются две устойчивые обобщающие формулы: «С подъема винился…, с розыску утвердился» или «Подыман и говорил прежние ж свои речи», т. е. в первом случае пытаемый человек признал свою вину на «виске», а затем подтвердил ее на пытке кнутом или огнем. Во втором случае пытаемый подтвердил на пытке свои прежние показания в «роспросе» (623-4, 180; 42-2, 29). Наконец, в проекте Уложения 1754 г. сказано вполне определенно о технике допроса во время пыток: «Висячаго на дыбе распрашивать судьям по каждому главнейшему пункту и обстоятельству учиненнаго им злодейства вкратце… а судьям увешавать и склонять к показанию истины и что он на каждый пункт скажет, то велеть повытчику обстоятельно записывать, означе при том сколько минут на той пытке висел и сколько ему на дыбе ударов дано, чего ради иметь на столе часы» (596, 48).
Во время пытки, как уже отмечалось выше, проводили не только допросы, но и очные ставки. Из дела Кирилова 1713 г. видно, что во время пытки 23 февраля сначала пытали его, изветчика, а потом на дыбу подвесили оговоренного Кириловым Ивана Андреева. Пока его допрашивали, спущенный на землю изветчик «у дыбы его, Ивана, уличал: вышеписанныя-де непристойные слова как он, Никитка, сказал в извете и с пытки он, Иван, говорил подлинно, да он же, Иван, про него, Государя, говаривал не по одно же время как-де Он, Царь, в посты ест мясо и женит христиан, и нарядил людей бесом, поделал немецкое платье и епанчи жидовские. А Иван Андреев против той улики в тех словах запирался и говорил изветчику, [что] и никому никогда… не говорил же» (325-2, 79).
Из записи ответов Андреева и других пытаемых по этому делу видно, что в протоколе вначале записывали «уличения» изветчика, а затем ответ ответчика Другого оговоренного крестьянина, Осипа Артемьева, уличали поочередно изветчик и его свидетель Иван Бахметев. Протокол допроса велся по тому же принципу. Артемьев, несмотря на «уличения», хотя и висел на дыбе, но прежних своих показаний не менял. Его «пыточная речь» записана трафаретно, как и речи других пытанных: «А вышеписанными своими словами изветчик Никитка Кирилов клеплет на меня напрасно». Таким же был и ответ последнего из пытаемых — Семена Андронова (325-2, 81–83). И хотя жесткого порядка ведения «пыточного протокола» не существовало, но все же основные принципы составления подобного документа были довольно устойчивы. Когда в итоговых материалах розыска встречаются краткие записи типа «А в роспросе из пытки говорил те же речи, что и в роспросех, и в очных ставках своих показал», это означает, что весь цикл «роспроса из пытки» был проведен, но и после пытки человек не изменил данных в пред-пыточном «роспросе» показаний.
Как появляется такая запись, видно из протоколов пытки Василия Кочубея и его товарищей в 1708 г. Вначале они были «спрашиваны, не было ль чрез кого от шведов или от поляков, или от запорожцев, и из Крыму подсылки в том гетманском, или в ином каком деле мимо гетмана к ним, или другой старшине, или иным каким чинам о малороссийского народа к какому возмущению?». Далее в протоколе записано, что «Кочубей приведен к пытке и перед пыткой сказал, что (далее воспроизводится вопрос, — Е.А.)… того он не ведает и в согласии с ним, Кочубеем, никто не был. И потом пытан, и опрашивай о том, и с пытки говорил те же речи, что и пред пыткою выше сего» (357, 144). После пытки пытаемый подписывал по принятой тогда форме перебеленный «пыточный протокол», который ему зачитывал подьячий. Так было в 1739 г. с Долгоруким: «Князь Иван Долгорукий руку приложил» (719, 168; см. 752, 61). Если сам прошедший пытку этого сделать не мог (например, сломана рука), то приказные писали так: «А Варсонофия руки не приложила для того, что она после розысков весьма больна» (325-2, 50). Артемию Волынскому после первой же пытки повредили руку, и он не мог подписывать протоколы следствия, что в них отмечалось особо (304, 158). В протоколе подьячие записывали также, были ли при пытке старшие должностные лица: «Было ему 26 ударов. При оном присутствовал его превосходительство (далее следует весь его чин. — Е.А.)… Андрей Иванович Ушаков» (49, 9; 66, 15).
Теперь рассмотрим вопрос об очередности применения пытки к участникам политического процесса. Общее правило таково: если ответчик стоял на отрицании возведенного на него извета на «роспросе» (включая очную ставку с изветчиком и свидетелями), то первым в застенке пытали изветчика. В некоторых делах мы сталкиваемся с «симметричным» принципом пыток, так называемым «перепытыванием»: 1-я пытка изветчика, 1-я пытка ответчика, 2-я пытка изветчика, 2-я пытка ответчика и т. д. Но чаще в делах упоминается серия из 2–3 пыток одного из участников процесса. В промежутках между сериями следователи вели допросы, организовывали очные ставки, священники исповедовали и увещевали пытаемых. То, что первым на дыбу шел изветчик, отвечало традиционному процессуальному принципу, отраженному в пословице: «Докащику — первый кнут». В этих случаях от изветчика требовали не только подтверждения его извета, но и одновременно ответа на вопрос: «Не затевает ли о тех словах на оного… напрасно по какой злобе или иной какой ради притчины, и не слыхал ль тех слов… от других кого?» (42-5, 67; 42-2, 96).
Закон в принципе позволял изветчику избежать пыток, но для этого ему следовало убедительно «довести» — доказать свой извет. В деле доносчика Крутынина есть резолюция на основе «роспроса», которой обосновывалась пытка изветчика: «Без розыску показания ево за истину принять невозможно, понеже свидетельства никакова на означенные непристойные слова он, Кругынин, не объявлял, а что хотя он, Кругынин, о тех словах на оного Наседкина (ответчика. — Е.А.) в роспросе и в очной с ним ставке, и с подъему, и утверждался, но тому поверить невозможно потому, что и оной крестьянин в роспросе ж, и в очной ставке, и с подъему в том не винился; того ради оным Кругыниным и с подлинной правды, и розыскивать» (42-2, 74, 97–95). Подтвердительные пытки часто оказывались западней, страшным испытанием для изветчика, и он, подчас не выдерживая их, отказывался от своего извета, говорил, что «затеял напрасно» или «поклепал напрасно». Это называлось «сговорить с имярек», «очистить от навета», т. е. снять, смыть, счистить с человека подозрения и обвинения. Это выражение еще означало, что изветчик признает: «я оклеветал ответчика». В докладной записке о допросах стрельцов в 1698 г. мы читаем о таком изветчике: «Он, Ларка, с них, Артюшки Маслова, и с Федулейки Батея, и с Елески Пестрякова, о побиении бояр зговорил, что он затеял на них напрасно. И он, Ларка, пытан и огнем зжен, и с пытки их очистил же» (197, 62). Важно отметить, что отказ от извета не избавлял бывшего изветчика от пытки и неминуемо вел его к подтверждению уже новой пыткой отказа от извета. Делалось это, чтобы убедиться наверняка: изветчик отказывается от извета чистосердечно или по сговору или подкупу со стороны людей ответчика.
В 1714 г. изветчик Кирилов, до тех пор твердо стоявший на своих показаниях против нескольких ответчиков, не выдержал мучений и на седьмой пытке признался, что всех этих людей оговорил ложно, чтобы избежать казни за разбой и убийства, «и ныне он, Никитка, говорит подлинную правду и зговариваег не по засылке, и не по скупу». После этого Кирилов «из переменных речей пытан в другой [раз], а с пытки говорил те же речи, что сказал с первой пытки: непристойными-де вышеписанными всеми словами (список 5 оговоренных— Е.А.)… поклепал он напрасно, хотя отбыть в воровствахсвоих смерти… и говорит он ныне подлинную правду, и сговаривает не по засылке, и не по скупу». После 25 ударов кнутом (предыдущая пытка — также 25 ударов) его жгли на огне, и он «со огня говорил тоже». В итоге оболганных изветчиком людей освободили (325-2,101–103).
Если же изветчик выдержал пытку и «утвердился кровью» в извете, наступала очередь пытать упорствующего в непризнании ответчика. На этом этапе следствия у изветчика и появлялся шанс утвердить свой (даже самый ложный) извет. Естественно, более всего изветчик хотел, чтобы ответчик «пошел в повинку», т. е. признал правдивость извета на него еще на стадии «роспроса» и в очных ставках с ним и со свидетелями. Тогда за «доведенный» извет доносчика не пытали, и он мог даже рассчитывать на награду. Ею могла стать и жизнь — выше упоминалось, что «за правой донос» колодника Савву Фролова в 1730 г. освободили от смертной казни. Устраивала изветчика в принципе и пытка ответчика после того, как он, изветчик, сам выдержал пытку и подтвердил свой извет. В этом случае он мог рассчитывать, что оговоренный им человек (ответчик) или не выдержит пытки и умрет, или признает себя (в том числе вопреки фактам) виновным и тем самым подтвердит извет. Если ответчик умирал, то изветчик мог надеяться на спасительный для него приговор, подобный тому, который был вынесен по делу Авдотьи Невляиновой, донесшей в 1703 г. на Арину Мячкову об оскорбительном высказывании о Петре I. Обе женщины «утверждались» в своих показаниях в «роспросе», на очной ставке и с трех пыток каждая. После серии пыток ответчица умерла, а Авдотья была освобождена на том основании, что «ей в непристойных словах перепытываться не с кем». К такому же итогу пришли в пыточном споре крестьянка Игнатьева и попадья Авдотья, которая донесла на Прасковью в произнесении той слов: «Я слышала про государя, что он не царского колена». Женщин пытали, и через месяц ответчица умерла, а изветчицу выпустили на свободу (88, 42–43, 64 об.). Записи о «перепытывании» изветчика Григория Левшугина и ответчика Никиты Никифорова в 1716 г. позволяют предположить, что сама эта процедура выглядела как спор двух висящих на дыбах людей (325-1, 697). Из дела 1732 г. видно, как на стадии пытки судьба изветчика вдруг оказывается в руках ответчика, и «оружие доноса», которое он применил против ответчика, било по нему самому. Ответчик расстрига Илья не признал доноса на него, сделанного конюхом Никитиным, и не только выдержал три пытки, но «и показал на оного изветчика Никитина якобы те слова говорил он, Никитин». Только смерть от пыток спасла Никитина от наказания за ложный извет (42-1, 106). При этом нужно заметить, что закон формально запрещал принимать к делопроизводству доносы с пытки, но тем не менее исключения делались постоянно, как в этом случае, так и в других случаях.
Упомянутое выше дело Крутынина и Наседкина также пошло по худшему для изветчика сценарию: ответчик Наседкин выдержал первую пытку и отказался признать извет Крутынина (которого до этого уже пытали дважды). Тогда было решено: «Ис подлинной правды и вышеписанным Крутыниным (т. е. изветчика. — Е.А.) розыскивать в третьи (т. е. в третий раз. — Е.А.) и буде он, Крутынин, с третьего розыску показывать будет на оного Наседкина тож, что оной Наседкин объявленные непристойные слова говорил, то и оным Наседкиным ис подлинной правды еще розыскивать дважды» (42-2, 97 об.).
Скажем теперь о правиле «трех пыток», отразившемся в пословице «Пытают татя по три перемены». В просторечье эти три пытки еще упоминались как «три вечерни» (286-3, 337). Бытует представление, согласно которому человек, выдержавший три пытки подряд и не сошедший со своих показаний, признавался правым («очищался кровью») и мог даже получить свободу. Как сказано выше, и признание ответчиком справедливости доноса, и отказ изветчика от обвинений в «роспросе» (допросе), а также первая пытка автоматически не освобождали этих людей от последующих пыток. Показания, данные на первой пытке, требовали обязательного подтверждения — буквального повторения сказанных на первой пытке слов и на последующих двух пытках. В мае 1732 г. по делу Татьяны Ивановой было определено: «Означенную вдову Татьяну привесть в застенок и в подтверждение прежнего ее показания роспросить ее с пристрастием, и поднять на дыбу, и спрашивать подлинно ль она, Татьяна, вышеозначенному Никите Артемьеву показанных от того Артемьева непристойных слов… не говорила, как показано о том в очных ставках и с первого розыску» (42-2, 1 об.). В делах политического сыска заметна некая закономерность: если ответчик сразу признавал свою вину, подтверждал извет, «шел по повинке», то его пытали «из подлинной правды» один раз и правило трех пыток к нему не применялось. Иначе бывало с тем ответчиком, который отрицал свою вину, не признавал извета. Тогда правило трех пыток соблюдалось довольно последовательно. Из документов Сыскного приказа середины XVIII в. следует, что все раскольники, не желавшие раскаяться в своей вере, подвергались обязательной троекратной пытке (242, 58).
Только стойкость могла спасти ответчика, но ее хватало не у всех, чтобы выдержать три «пытки непризнания», стоять «на первых своих словах» и так «очиститься кровью» от навета. Правило трех пыток наиболее емко записано в деле 1690 г. о фальшивомонетчиках: если воровские люди «в том с трех пыток учнут виниться и на иных людей говорить, а оговорные люди на себя с трех же пыток говорить не учнут, и тех оговорных людей давать на поруки с записми» (104, 306). В 1698 г. испытание трех пыток выдержал стрелец Колпаков, после чего его освободили. В 1700 г. в деле Анны Марковой, стерпевшей три пытки, сохранился приговор: «Анютку… освободить, потому что она в том деле очистилась кровью» (290, 265; 322, 17). В 1704 г. после трех пыток «очистился кровью» и был освобожден из тюрьмы помещик Василий Аристов, на которого донес его крепостной Клим Дугин (88, 105). Крестьянин Иван Зубов выдержал три «пытки непризнания», причем одну из них с огромным числом ударов кнута (52 удара). В конце концов его выпустили на волю, как очистившегося от навета, хотя, судя по делу, следователи сомневались в искренности ответчика (88, 346 об.). Благодаря своей стойкости на пытках весьма приближенный к царевичу Алексею сибирский царевич Василий Алексеевич был только сослан в Архангельск, тогда как другие, менее близкие к сыну Петра люди оказались на плахе, с вырванными ноздрями, были сечены кнутом и сосланы в Сибирь. В выписке Тайной канцелярии о Василии сказано: «Что на него показано было от царевича Алексея Петровича, в том он с трех пыток винился, и для того по приговору министерскому марта 16 дня определено учинить ево свободна» (8–1, 17).
Отказ отданных на предыдущей пытке показаний или даже частичное изменение их (так называемые «переменные речи») с неизбежностью вели к утроению пыток — каждую поправку к сказанному ранее требовалось заново трижды подтвердить на дыбе, а потом на огне новые показания. Об этом ясно говорит закон. «Краткое изображение процессов», например, предусматривает: человек, признавшийся на пытке в преступлении и потом отказавшийся от первоначальных показаний… должен вновь подвергнуться пытке, «понеже учиненное признание паки его в новое приводит подозрение». И только в том случае, если человек выдержит пытку трижды и «паки отречется, то уже оного более допрашивать не надлежит» (626-4, 422). Иначе говоря, всякое новое изменение показаний позволяло утраивать пытки.
В 1725 г. допрашивали самозванца Евстифея Артемьева, который сказался царевичем Алексеем. В рапорте генерал-майора Шереметева, который вел розыск, отмечено, что Артемьев «был пытан в застенке три раза, токмо явился по распросам в назывании себя царевичем Алексеем Петровичем не постоянен, а говорил разнство. А именно: в первом застенке декабря 2-го числа на виске в роспросе сказал…». Затем следует пересказ всех показаний Артемьева на каждой из трех пыток. В конце рапорта Шереметев сообщал, что следователи приводили Артемьева в четвертый и в пятый раз в застенок «для роспросу в разнстве», «токмо-де весьма был болен… и ничего не говорил». Тогда «по роспросным и пыточным речам в разнстве с розыском, приказал он, Шереметев, следовать и когда от болезни оной извощик сво-одится, тогда еще розыскивать» (598, 10–13). Пытки эти, как сказано выше, могли продолжаться до тех пор, пока на трех последних из чих не будут даны идентичные показания и «разнство» будет устранено. По-видимому, правовой основой этой практики был указ (дата его издания неизвестна), на который часто ссылались в делах Преображенского приказа. Указ предписывал: если «воры учнут речи свои переменять, и тех людей велено ис переменных речей пытать трижды и огнем жечь. Да что с тех трех пыток и с огня скажут, тому и верить» (212, 66). Именно о таком толковании правила «трех пыток» говорит автор «Обряда, како обвиненный пытается»: «Хотя по законам положено только три раза пытать, но когда случится пытаной на второй или на третьей пытке речи переменит, то еще трижды пытается. И если переговаривать будет в трех пытках, то пытки употребляются до тех пор, пока с трех пыток одинаковое скажет, ибо сколько б раз пытан ни был, а есть ли в чем-нибудь разнить в показаниях будет, то в утверждение должен еще три пытки вытерпеть, а потом и огонь» (519, 59).
Вероятно, первоначально правило «трех пыток» имело символическое значение. Уже в Судебниках, уставных грамотах и губных наказах мы находим выделение трех степеней преступлений и соответствовавших им наказаний, которые ужесточались при рецидиве (626-2, 149, 222 и др.). Но было бы неверно думать, что правило «трех пыток», как и другое правило «первый кнут доносчику», оставалось для политического сыска «священной коровой» и соблюдалось всегда и последовательно. Если сыск был особенно заинтересован обвинить одну из сторон процесса, то все эти и подобные им традиции и правила для следователей ничего не значили. Сохранились дела, из которых видно, что многократная пытка применялась только к изветчику или только к ответчику. Причины неожиданной жестокости к одним или особой милости к другим участникам процесса скрыты от нас, и было бы слишком просто объяснить подобный ход следствия только тем, что доносчиком выступал рвущийся на волю крепостной крестьянин, а ответчиком — его помещик, которому доверяли больше, хотя этот мотив мог действительно в некоторых случаях присутствовать.
Так, четыре года тянулось дело, начатое в 1699 г. по доносу крестьянина Игнатия Усова на его помещика Семена Огарева в оказывании «непристойных слов». Несмотря на подтверждение извета свидетелем и на девять(!) пыток изветчика, непоколебимо стоявшего на своем доносе, ответчик Огарев был только на допросах и на очных ставках и ни разу не был поднят даже в виску (212, 189–191). Ответчик Муравщик, выдержавший за три сеанса 106 ударов кнута, был пытан в четвертый раз, а «в пятом розыске и с огня говорил, что тех слов он никогда не говаривал». Тем не менее изветчика не пытали, а стойкий Муравщик, однако, был сослан на каторгу (181, 186).
Полно таких процессуальных «странностей» и дело писаря Бунина против вдовы Маремьяны Полозовой, которое велось в 1723–1725 гг. После того как доносчик на первых допросах и с очной ставки убедился в том, что ответчица «в повинку» не пойдет и что ему грозит «первый кнут», то он прикинулся больным и подтвердил свой донос на исповеди. В итоге ответчицу пытали первой, но она пытку выдержала и не признала извета Бунина Тогда послали за попом — духовным оптом Полозовой. Он свидетельствовал о религиозности и послушании своей духовной дочери. Теперь по всем правилам сыска путь на дыбу предстояло проделать Бунину. Однако этого не произошло — на дыбу опять возвели Маремьяну и дали ей 20 ударов кнута. Но старуха оказалась на редкость стойкой. Она вновь отвергла донос и обвинила писаря в клевете. И тут… следствие, вопреки всем принятым процессуальным нормам и указам, приняло от Бунина дополнительный извет, по которому Полозову стали допрашивать. К этому времени она, пройдя две страшные пытки, была почти при смерти. Призванный ею священник исповедовал ее, и в «исповедальном роспросе» женщина вновь подтвердила «Все, что я при розыске показала и то самая сущая правда, стою в том непременно, даже до смерти». Действительно, смерть ее казалась близкой — пытки сделали ее инвалидом, но следователи и теперь, после исповеди, ей не поверили. Они приняли третий донос Бунина о якобы вспомнившихся ему словах Полозовой в «поношение священнического сана». По-видимому, в Тайной канцелярии кто-то благоволил доносчику, ибо не случайно новый донос «о поношении… сана» появился после того, как исповедовавший Полозову священник отозвался о ней как о примерной прихожанке. Кроме того, вопреки действовавшему процессуальному праву, следователи допросили как свидетельницу жену писаря.
Бунину и Полозовой устроили очную ставку, и на ней измученная пытками старуха сказала, что она «поносила священнический чин», но в главном — в говорении «непристойных слов» об императоре — виновной себя не признала и на очной ставке! Обычно в такой ситуации следствие выносит приговор: доносчика пытать, чтобы начать, хотя бы и с опозданием, «перепытывать» стороны. Но нет! П.А. Толстой под расписку о невыезде выпустил изветчика на свободу, а Полозовой назначил третью пытку, но отложили ее до выздоровления колодницы. Когда Полозова через два года тюремного сидения стала, наконец, ходить на костылях, последовал указ: сослать преступницу в Пустозерск. В приговоре от 23 декабря 1724 г. о причинах наказания Полозовой было сказано: «А вина ея такова: говорила она писарю Бунину весьма важные непристойный слова про Его и.в., о чем на нее тот писарь доносил, а в роспросе и с двух розысков созналась, что из означенных слов говорила Бунину некоторыя слова, токмо не все». На самом же деле, как показано выше, Полозова упорно отрицала извет Бунина и в «роспросе», и в первой очной ставке, и с двух пыток. Только на второй очной ставке с Буниным женщина признала свою вину по второстепенному обвинению (о «священническом чине»). Между тем донос об оскорблении чести Величества Бунин так и не «довел», но кнута при этом ни разу не отведал. 5 января 1725 г. Бунин был выпущен на свободу (664, 76).
Сходный случай произошел раньше, в 1723 г., когда денщик Комаров донес на двух женщин — Авдотью Журавкину и Федору Баженову — в говорении «непристойных слов». Ответчицы упорно отказывались подтвердить извет. Им устроили восемь(!) очных ставок, каждую из женщин трижды пытали на дыбе. Федора получила 32, а Авдотья 36 ударов кнута, потом женщин жгли огнем. Однако результата — признания вины — от них не добились. Итак, три традиционные пытки были налицо, тем не менее женщин не освободили, а изветчик в застенке так и не побывал, из этой переделки вышел в полном здравии. В указе о ссылке женщин в Пустозерск в декабре 1724 г. как бы признавалась неудача следствия («Хотя Авдотья Журавкина запирается в важных и непристойных словах, токмо тому не верить, а послать и ее, и Федору Баженову, за караулом в ссылку…»). Между тем, по всем законам и неписаным правилам, женщин за «недоведенностью» изветчиком доноса на них надлежало отпустить на свободу. Изветчика же после этого следовало признать виновным в ложном извете и отправить на дыбу, чтобы он «сговорил» с женщин донос или «кровью утвердился» в своем извете.
В других случаях отказ применять правило «трех пыток» объясняется проще. В 1722 г. колодница Кулачиха донесла на крестьянку Ненилу и одного крестьянина в произнесении «непристойных слов». При этом Кулачиха выдержала четыре пытки. И все же ей не поверили. В приговоре по ее делу было сказано: «Помянутой Кулачихе учинить наказанье, бить кнутом нещадно, а изветом ее на Сукина человека и на Чубарову девку Ненилу не верить, хотя она в том четырежды и розыскивана, а с розысков утверждаетца якобы от обоих подлинно слышала, однакож то отставить потому, что она Кулачиха напред сего штрафованная воровка, да и потому, что на тех Сукина человека и на девку Ненилу в роспросех до розысков ничего не показывала, а как ее в воровствах начали розыскивать, в то время она те слова объявила на обоих, отбывая розысков» по совершенным ранее преступлениям (9–3, 8).
Рассмотрим теперь вопрос о продолжительности, степени тяжести пытки, периодичности самих пыток и о том, как люди переносили мучения. Здесь много неясностей. Так, нигде в документах не расшифровываются часто упоминаемые резолюции о предстоящих пытках «Распросить накрепко» или «Распросить с пристрастием», хотя ясно, что в этом случае пытки были страшнее, чем по резолюции «Распросить».
Судя по сохранившемуся столбцу Преображенского приказа с пометами «пытать», «в застенок» (89, 392), арестанты готовились к розыску заранее. Их дело предварительно рассматривал судья приказа. Сыскное ведомство работало, как всякое государственное учреждение, по принятым правилам, с соблюдением традиционных бюрократических процедур, в режиме, принятом для всех других государственных учреждений, чем часто и объясняется волокита с решением многих следственных дел. Конечно, в делах особо важных следователи работали, не считаясь с многочисленными праздниками и выходными. Об этом выразительно сказано в указе царя Михаила Федоровича от 26 апреля 1639 г. Указ разрешал пытать татей и разбойников «и в те дни, хотя будет по котором государе и память будет, и хотя и праздник будет, потому, что разбойники и тати и в праздники православных крестьян бьют и мучат, и огнем жгут и до смерти побивают» (538-5, 226). Впрочем, из дел Стрелецкого розыска 1698 г. видно, что по воскресеньям все же не пытали, потому что Петр I и его сподвижники в это время пировали.
При пытках обязательно присутствовал кто-то из руководителей сыска, приказные без начальства пытали людей очень редко. Обязательным было составление протоколов пыток (запись «пыточных речей»). В этих протоколах отмечалось число нанесенных ударов кнутом, другие пыточные действия: «Подыман он, Федка, дважды, было 17 ударов», «На пытке было ему 10 ударов», «А дано ему было 25 ударов», «А на пытке было ему 55 ударов и зжен клещами». В некоторых протоколах отмечалась продолжительность пытки. 9 августа 1735 г. В.Н. Татищев, пытавший Столетова, приказал отметить в протоколе: пытанный висел в виске полчаса, получил 40 ударов кнута, а потом висел еще час (623-4, 179; 659, 9, 12–13; 537-1, 375).
По мнению Г.К Котошихина, число ударов кнута в течение часа колебалось от 30 до 40 (415, 115). Данным Котошихина в целом можно доверять. Они совпадают с моими наблюдениями над массовыми пытками стрельцов в 1698 г. Пытаемого не все время держали в подвешенном состоянии, а периодически опускали на землю, чтобы он мог прийти в себя. Когда в 1732 г. пытали А. Яковлева, обвиненного Феофаном в писании анонимного пасквиля, то его пришлось спустить с виски, т. к. он, согласно протоколу, «обмер и весь посинел и стал храпеть» (775, 441). Время «в подъеме», как и время отдыха на земле, иногда записывали в протоколе. В решении Тайной канцелярии 1734 г. о пытке копииста Краснова сказано: «…ис подлинной правды, подняв ево на виску, держать по получасу и потом, чтоботтого подъему не вес[ь]ма он изнемог, спустить ево с виски и держать, не вынимая из хомута, полчетверти часа, а потом, подняв ево, Краснова на виску, держать против оного ж и продолжить ему те подъемы, пока можно усмотреть ево, что будет он слаб и при тех подъемах спрашивать ево, Краснова, накрепко» (42-5, 166 об.). О том, что подъемы на дыбе бывали многократными и затяжными, упоминается и в других документах сыска. В записи допроса стрельца Игнатьева 12 октября 1698 г. сказано: «А Васка Игнатьев з другово подъему говорил…» (197, 131). Архимандрит Александро-Свирского монастыря Александр (расстрига Алексей Пахомов) во время следствия 1720 г. был поднят на виску и провисел 28 минут, после чего потерял сознание. На следующий день его продержали «в подъеме» 23 минуты (325-1, 151). А.П. Волынского, как сказано в журнале Тайной канцелярии, держали на дыбе и били кнутом первый раз «полчаса» (3., 222). На розыске 1743 г. Иван Лопухин висел на дыбе десять минут (664, 36). Но продолжительность пытки отмечалась не всегда точно: «Потом поднят на дыбу и висел довольно и на виске сказал» (33, 2 — дело Гаврила Силина, 1722 г.).
Число наносимых ударов в каждой пытке определяли следователи, которые исходили из обстоятельств дела, показаний пытаемого, его физических кондиций. В проекте Уложения 1754 г., обобщавшего практику пытки, сказано: «Сколько ж ударов при каждом градусе пытки порознь давать и коликое время приводному на дыбе висеть, и коликим стряскам быть, того точно определить невозможно, понеже судьям надлежит в том поступать по состоянию и крепости подозрительного». И далее следователям даются конкретные указания, суть которых сводится к тому, что «людей средней крепости держать на дыбе при первой пытке десять минут и двадцать пять ударов, при другой держать пятнадцать минут, дав тридцать пять ударов, и при том быть двум стряскам с бревном, при третей держать до двадцати минут, а ударов давать пятьдесят и быть трем стряскам и при том жечь огнем и по той же препорции, где по состоянию и крепости приводных, то надлежит судьям того прибавлять или где уже сила не допустит, несколько из она-го убавливать» (596, 47).
Однако подсчеты общего числа ударов кнутом на дыбе, которые я произвел по протоколам и экстрактам сыскного ведомства, явно расходятся применительно к концу XVII — началу XVIII в. с рекомендациями составителей проекта Уложения 1754 г. По материалам Стрелецкого сыска 1698 г.(некоторые дела тянулись до 1702 г.), общее число «застенков»-сеансов составило 677, а заплечные мастера произвели 14 527 ударов кнута, т. е. в среднем по 21 удару за «застенок». Эта средняя цифра во многом определяется тем, что почти в 37 % «застенков» пытаемые получали по 20–30 ударов (в 117 «застенках» было дано по 25 ударов). Меньше доля «застенков», в которых пытаемые получали от 2 до 10 ударов (20,5 %). В 103 «застенках» (т. е. в 15,2 %) было нанесено от 31 до 70 ударов, причем максимум — 70 ударов встречается только в одном случае (197).
По описи дел Преображенского приказа за 1702–1712 гг., в которой учитывается число «застенков» и количество ударов кнутом на них, можно сделать вывод, что большая часть пытаемых прошла по три «застенка», а число ударов в один «застенок» в среднем близко к упомянутому выше числу 25–27 ударов. В.И. Веретенников писал, что в Тайной канцелярии петровских времен на пытках наносили в среднем по 15–30 ударов (181, 198). При этом женщины получали несколько меньше ударов, чем мужчины. Следователи учитывали их «деликатную натуру», да и пытали женщин, вероятно, полегче. Котошихин сообщает, что раскаленные клещи для ломания ребер к женщинам не применялись (415, 115).
Мне кажется, что три «застенка» и около 25 ударов в один «застенок» были для политического сыска петровских времен общепринятыми. В первом «застенке» число ударов кнута обычно было больше, чем во втором или третьем. Вероятно, следователи опасались, как бы раньше завершения дела и получения нужных сведений не отправить пытаемого на тот свет. Типичной является ситуация с Ларионом Докукиным, которого пытали трижды, дав ему в первом застенке 25 ударов, во втором — 21, а в третьем — 20 (325-1, 164–166). Иван Лопухин пытан в 1743 г. таким образом: первый «застенок» — 11 ударов, второй «застенок» — 9 ударов, третий — просто виска на 10 минут (660, 34, 36).
Впрочем, как уже многократно отмечено выше, в политическом сыске не было раз и навсегда принятых норм. Когда власти требовали признания во что бы то ни стало, тогда число «застенков» и ударов кнута резко превышало средние показатели. Так было в Стрелецком розыске 1698 г., при общей средней «норме» в 20–30 ударов некоторым пытаемым давали по 40, 50, 60 и даже 70 ударов за один сеанс. Пожалуй, никого так свирепо не пытали при Петре I, как стрельцов. Некоторые из них выдержали по 3–5, 8, 9, а Яков Улеснев в 1704 г. вынес даже 12 пыток (212, 116). Напомню указ Петра 1720 г. о пытке старообрядца Иона: пытать «до обращения», т. е. до принятия официального вероисповедания, «или до смерти, ежели чего к розыску не явитца» (181, 118). В 1715–1716 гг. пытали доносчика Григория Левшутина и тех, на кого он донес: Никиту Никифорова и Кузьму Павлова На первой пытке 2 сентября 1715 г. каждый из них получил по 25 ударов. Второй «застенок» состоялся почти через семь месяцев — 17 апреля 1716 г. Тогда пытаемым дали по 30 ударов. Через месяц устроили третью пытку — 40 ударов каждому, 1 июля в четвертой пытке они получили по 41 удару (325-1, 605–607). Как мы видим, число ударов от «застенка» к «застенку», против обыкновения, возрастает. И позже в середине XVIII в. старообрядцев пытали более жестоко, чем других. Среди материалов Сыскного приказа за 1750-е гг. есть данные о 40, 50, 60 ударах кнутом тем, кто «упорствовал в своей заледенелости» (242). Не было и особых правил о паузах между пытками как в одном «застенке», так и между «застенками». Проект Уложения рекомендует судьям дать пытанному прийти в себя в течение двух недель (596, 48). Но из материалов сыска следует, что никакого правила на этот счет не было. В одних случаях следователи давали пытанному длительный срок для поправки, в других же случаях, добиваясь показаний, они мучили его почта каждый день.
Еще одно общее наблюдение. При расследовании дела Кочубея и Искры троим колодникам задали один и тог же вопрос, они одинаково отвечали на него, но при этом число ударов кнута различно: Василий Кочубей получил 3 удара, Иван Искра — 6 ударов, сотник Кованько —14 ударов, а поп Святайло (кстати, признанный виновным по приговору менее других «заговорщиков») — 20 ударов (322, 144–147). Заметна разница в степени жесткости пыток, примененных к людям разных возрастов: старого Кочубея пытали легче, чем его молодых товарищей. Однако в деле Кочубея видна и еще одна закономерность: тяжесть пытки зависела от социального положения пытаемого — дворяне, знатные колодники получали на пытках заметно меньшее число ударов, чем крестьяне или посадские. Формально все колодники, оказавшиеся у пытки (да и вообще в тюрьме), были равны и, как люди, побывавшие в руках палача, считались обесчещенными. Попав в застенок, вчера еще уважаемый судья Стрелецкого приказа и влиятельный сановник Федор Леонтьевич Шакловитый писался «вором Федькой», а старик архиепископ Тамбовский Игнатий «растригой Ивашкой». И все же социальные различия узников сказывались и на режиме их содержания в тюрьме, и на тяжести назначенных им пыток. По наблюдениям Н.Б. Голиковой, изучившей материалы Преображенского приказа за конец XVII — начало XVIII в., крестьяне на пытках получали по 15–40 ударов кнута, а дворяне всего по 3–7, что, как мы понимаем, было невеликим утешением (212, 94–95, 182). Объяснил, это можно характерным для тогдашнего общества неравенством, ведь известно, что с древнейших времен пытали только рабов. По мере того как «государевыми холопами» становились и все другие члены русского общества, пытки начали распространяться и на служилых людей, бояр и дворян, но все же их пытали легче, чем простолюдинов. И лишь сословные реформы Екатерины II защитили дворянина от руки палача.
Но вновь подчеркнем: с возрастом, сложением, здоровьем, полом пытаемого, кровью, которая текла в его жилах, а потом по спине, могли совсем не считаться. Если верховной власти требовалось выбить из пытаемого признание вины или нужные сведения, то все эти обстоятельства не принимались во внимание. В Стрелецкий розыск 1698 г. служительницы царевен Марфы и Софьи Анна Жукова и Офроська получили, как мужчины, по 25 ударов, а постельница Анна Клушина— 15 и «жжена огнем дважды» (163, 76, 78–19, 92). Царскому сыну царевичу Алексею Петровичу на пытке 1718 г. дали, как обыкновенному разбойнику, 25 ударов, а через два дня еще 15! (752, 273, 277).
Пытка была серьезнейшим испытанием физических и моральных сил человека Выдержать пытку, да еще не одну, обыкновенному человеку было невероятно трудно. Это оказывалось под силу только двум типам «клиентов» сыска физически сильным людям и психически ненормальным фанатикам-самоистязателям. К первому типу относились могучие, грубые каторжники, не раз битые кнутом и утратившие отчасти чувствительность кожи на спине. Корб пишет, в частности, об одном стрельце, который выдержал шесть пыток и совсем не боялся кнута и огня. Невыносимой он считал только описанную выше «ледяную капель», а также пытку, когда горящие угли клали на уши, что вызывало особенно острую боль (399, 1147). И таких могучих людей было на Руси, вероятно, немало. Знаменитый сообщник Пугачева Афанасий Соколов-Хлопуша был сечен кнутом четырежды (280, 163–164). В 1785 г. в Нерчинск попал закоренелый преступник, 32-летний Василий Брягин, которого с 18-летнего возраста почти непрерывно наказывали за воровство: в 1774 г. два раза били плетьми и один раз батожьем; в 1776 г. — плетьми и батогами; в 1777 г. — «за полученную от невоздержанности венерическую болезнь» — батогами, в 1779 г. (снова за воровство) — кошками, в 1780 г. Брягина приговорили к шпицрутенам: гоняли восемь раз через 1000 человек; в 1781 и в 1782 гг. за преступления он был приговорен к вырезанию ноздрей, битью кнутом и к ссылке на каторгу. Наконец, в 1782 г. за воровство и побег он был снова прогнан через 1000 человек восемь раз и отправлен в Нерчинск, как неисправимый преступник (189, 86–87). Вероятно, такой могучий человек, как Брягин, мог выдержать столько пыток, сколько их выдержал упомянутый выше Васька Лось: 100 ударов кнута, 10 встрясок в трех «застенках», а также три пытки огнем. И только в четвертый раз с огня он «повинился» в произнесении «непристойных слов» (500, 42–43).
Кроме того, в критические моменты у сильных, волевых людей могли мобилизовываться скрытые резервы организма, пробуждаться огромная воля к жизни, желание продлить существование во что бы то ни стало. Следователи по делу Федора Шакловитого, которого в 1689 г. жестоко пытали в застенке, были, вероятно, изумлены, «когда он, Щегловитой, перед бояры по пытке с дыбы был снят, просил у них бояр, чтобы его велели накормить, понеже несколько дней уже не ел» (527, 209). Возможно, опытные в делах пытки колодники перед «застенком» и после него пили какие-то настои из наркотических трав, притупляющих боль. В популярном в те времена лечебнике «Прохладный ветроград или врачевския вещи ко здравию человечества» есть рецепт «лекарства после правежа», который предписывает настоем особой травой «бориц» парить ноги после битья палкой по пяткам и «тако творить по вся дни, доколе биют на правеже и ноги от того бою впредь будут целы». Кроме того, известны заговоры против пытки, огня, железа, веревки и петли, которые облегчали, по крайней мере психологически, пытку, смягчали чувство боли. После пытки или наказаний кнутом лечились тем, что на спину клали шкуру только что зарезанной овцы (526, 290). Известно, что раны от кнута промывали водкой. Все это дезинфицировало раны, способствовало их заживлению (121, 33; 583, 241, 259; 678, 172).
Я.А. Канторович, изучая по материалам западноевропейской инквизиции поведение пытаемых, в особенности женщин, пришел к выводу, что некоторые из них терпели нечеловеческие боли на пытках потому, что «у этих женщин являлась общая анестезия, делавшая их нечувствительными ко всяким мучениям пытки; часто нравственное возбуждение было столь сильно, что оно заглушало физическую боль и давало жертвам силу переносить ее и не проронить ни одного слова» (371, 56). Возможно, что нечто подобное было и в пыточных палатах Тайной канцелярии. К типу фанатиков относятся монах Варлаам Левин и подьячий Ларион Докукин. Левин был одержим идеей очищения через страдание перед лицом ждущей всех неминуемой гибели в «царстве антихриста» Петра I. Поэтому он с радостью шел на пытки и по той же причине оговорил многих невинных и непричастных к делу людей — всем им он хотел доставить блаженство в будущем. Как он говорил, «что, может быть, пожелают они с ним мучиться и они-де будут с ним в царствии небесном» (325-1, 40–41). Докукин же, фанатичный составитель подметных писем, в марте 1718 г. сам отдался в руки мучителей, заявив, что «страдати готов» (325-1, 159). И Левин и Докукин, вероятно, были психически больными людьми с притупленной чувствительностью к боли: Левина пытали шесть раз, в том числе один раз водили по спицам. Из его дела видно, что он страдал эпилептическими припадками — «падучей болезнью». В своем дневнике, который у него забрали при аресте, он писал о приступах «меланхолии», посещавших его видениях, о том, что ему «припало забвение». В 1720 г. его, присланного в Петербургский госпиталь армейского капитана, освидетельствовали врачи. Они жгли на огне его левую руку, после чего зафиксировали утрату в ней осязания и затем уволили со службы, чего в петровское время добиться, не достигнув дряхлости, было очень трудно. Докукин, 57-летний человек слабого сложения, выдержал три пытки кнутом (66 ударов) в течение шести дней, потом был колесован и, несмотря на многочисленные переломы костей во время этой казни, находился в сознании и даже пожелал дать показания. Его сняли с колеса и пытались лечить. Конец его неясен — либо он сам умер, либо, видя, что подьячий не дает показаний, его казнили (325-1, 166–167).
После пытки несчастного осторожно спускали с дыбы и отводили (относили) в тюрьму. В проекте Уложения 1754 г. следователям рекомендовалось за день до «застенка» ничем не кормить узника и не давать ему горячего питья (596, 31). Авторы проекта — а они наверняка были из Тайной канцелярии — явно обобщали опыт практической работы в застенке, когда плотно поевшие перед пыткой люди потом умирали. Состояние человека после пытки в документах сыска деликатно называется «болезнью». Так это и было: большая потеря крови, болевой шок, возможные повреждения внутренних органов, переломы костей и вывихи, утрата кожи на большой части спины, неизбежный в тех условиях сепсис — все это в сочетании с ужасным содержанием в колодничьей палате и скверной едой приводило к послепыточной болезни, которая часто заканчивалась смертью или превращала человека в инвалида. В деле Крутынина — Наседкина сказано, что Крутынин «в службе быть не годен, понеже в споре с оным Наседкиным был розыскиван» (42-2, 162 об.). По данным Н.Б. Голиковой, во время розыска по астраханскому восстанию 1705 г. от последствий пыток умерло 45 человек из 365 пытаемых, т. е. 12,3 % (212, 67). Думаю, что в среднем после мучений в застенке людей умирало больше, ведь по астраханскому делу допрашивали, как правило, стрельцов, служивших в полках, т. е. физически сильных, в расцвете лет мужчин. В общем же потоке «клиентов» политического сыска были люди самого разного возраста, подчас слабые и больные, и они умирали уже после первой пытки.
В тюрьме больных пользовали казенные доктора из Медицинской канцелярии. За 1762 г. сохранились сведения, что лекарь Ковдратий Елкус состоял в штате Московской конторы Тайной канцелярии (83, 18). Забота о здоровье узника никакого отношения к гуманизму не имела. О колоднице Маремьяне Андреевой в 1724 г. было решено: «Пытана дважды, а более не пытана, понеже больна… велено ее розыскивать еще накрепко в то время, как от болезни выздоровеет» (10-3, 4). Ранее по другому делу Л И. Ушаков писал П.А. Толстому в ноябре 1722 г.: «Мне зело мудрено новгородское дело, ибо Акулина многовременно весьма больна, что под себя испражняется, а дело дошло что надлежало было ее еще розыскивать, а для пользования часто бывает у нее доктор, а лекарь — беспрестанно». С колодницей возились «с прилежанием неослабно» потому, что «до нее касается важное царственное дело» и чтобы она не могла с помощью смерти «ускользнуть» от дачи показаний и непременной казни. В деле есть и приписка о том, что безнадежную Акулину врачи если не вылечили, то, во всяком случае, довели до эшафота; «Акулина и Афимья кажнены марта 23 дня 1724 году» (181, 282; 10-3, 1).
О большинстве других послепыточных больных в тюрьме так не заботились, и они поправлялись сами и на свои деньги. Как лечили пытанных, сказать трудно. Думаю, что это делали точно так же, как вообще в те времена лечили больных, получивших открытые неглубокие раны и ожоги. В литературе по истории медицины об этом сказано много и подробно. Естественно, что в условиях антисанитарии раны воспалялись, гноились. По-видимому, для вытягивания гноя и было куплено чиновниками Тайной канцелярии в 1722 г. на два рубля «капусты для прикладывания к спине». В той же расходной книге Тайной канцелярии записано, что деньги издержаны на покупку вина и пива больным, а также «на покупку холста и на прочил лекарства» (34-5, 6; 325-1, 111, 126). Охрана внимательно наблюдала за состоянием здоровья узника после пытки и регулярно докладывала о нем чиновникам сыскного ведомства. Как только появлялись признаки близкой смерти, к заключенному присылали, точнее сказать — подсылали, священника.
Термина «исповедальные показания» в источниках нет, но он мог бы существовать, ибо исповедь умирающего в тюрьме иначе назвать трудно. Выше уже было сказано, что священника обязывали открыть властям тайну исповеди своего духовного сына Исповедальные показания, исповедь-допрос стоят в том же ряду. Духовными отцами узников тюрьмы Петропавловской крепости числились проверенные попы из Петропавловского собора или других окрестных церквей. Известно, что каждый православный имел право требовать перед смертью исповедника. В 1721 г. предстоящая казнь подьячего Ивана Курзанцова была отложена «того ради, что ко исповеди по многому увещанию отца духовного не пошел» и власти хотели выяснить причину такого упрямства. Этот неординарный поступок подьячий совершил для того, чтобы подать жалобу на неправильный, по его мнению, порядок расследования его дела, что (правда, ненадолго) продлило ему жизнь (181, 280–281).
Обычно же не забота о душе преступника волновала следователей. Священник выполнял у постели умирающего задание начальства и должен был, в сущности, провести последний в жизни колодника «роспрос», узнать подлинную правду — ту, которую не мог, страшась мучений в ином мире, скрыть перед своим духовником верующий человек. Узнав, что монах Кирилл, изветчик на архимандрита Александро-Свирского монастыря Александра, умирает, П.А. Толстой послал к нему протопопа Исаакиевского собора Алексея, чтобы тот увещевал колодника «страхом будущаго Суда Божиего и вечных мучений сказать: правду ли он показал на архимандрита Александра?» (325-1, 143). В 1729 г., узнав, что умирающий колодник Михаил Волков требует священника, верховники, которые руководили следствием, вначале послали к нему чиновников, чтобы «спросить с увещанием подлинно ль те слова… говорить научали его». Сам же священник получил соответствующую инструкцию от сыска: «И тому священнику приказать — у него, Волкова, при исповедании спрашивать по духовности правда ли он, Волков, на Федора… и других лиц сказал, что показано от него, Волкова, в роспросе ис розыску… или он то затеял напрасно». Священник потом рапортовал о проделанной им работе: «Показанного Волкова он исповедовал и святых тайн сообщил и при исповеди по вышеозначенному приказу его спрашивал», а исповедуемый отвечал, что на допросах говорил «самую правду» (181, 250).
Исповедальный допрос применили в 1775 г. и к «княжне Таракановой». Узнав, что самозванка тяжело больна, Екатерина II дала указ ведшему расследование князю Голицыну: «Удостоверьтесь в том, что действительно ли арестантка опасно больна. В случае видимой опасности узнайте к какому исповеданию она принадлежит и убедите ее в необходимости причастья перед смертию. Если она потребует священника, пошлите к ней духовника, которому дать наказ, чтоб он довел ее увещаниями до раскрытия истины…» Предупрежденный о смертной казни за разглашение государственной тайны самозванства, назначенный властями священник два дня исповедовал (читай — допрашивал) умирающую женщину, но нужного признания не добился. Он ушел из камеры самозванки, так и не удостоив ее последнего причастия (441, 612–613, 627).
На исповедальном допросе, как и во время увещевания, священнику было запрещено знать «важность», т. е. существо, преступления (а именно сказанные «непристойные слова», иные обстоятельства дела). Его задача была предельно узка — добиться раскаяния преступника, подтверждения (или опровержения) данных им ранее показаний. Каких именно — это священника не касалось. В 1735 г. В.Н. Татищев узнал, что подследственный Столетов хочет исповедаться. Он вызвал священника и предписал тому не слушать Столетова, если тот «станет сказывать что тайности подлежащее» (659, 9). Рапорт священника после исповеди умирающего колодника записывали со слов пастыря в Канцелярии. И хотя все священники были людьми надежными и проверенными, все же иногда — в делах особо важных — им не доверяли. Тогда во время совершения таинства исповеди возле священника сидел караульный офицер или канцелярист и записывал исповедальные слова. (Из дела 1733 г.: «А потом оной роспопа Петр, будучи в болезни, по исповеди, при отце своем духовном, да при караульном обер-офицере сказал…» — 42-4, 186.)
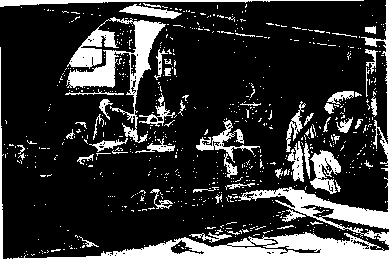
Застенок
Исповедальное признание на следствии ценилось весьма высоко — считалось, что перед лицом вечности люди лгать не могут. Выше сказано о расстриге Илье, который не только отказался признать извет на него конюха Михаила Никитина, но и сам обвинил Никитина в говорении этих же «непристойных слов». Он выдержал три пытки, а Никитин умер. Поэтому у Ильи появилась надежда выбраться из тюрьмы. Но этого не произошло — все его расчеты «испортила» исповедь Никитина перед смертью. В протоколе записано, что Никитин «будучи в болезни, по исповеди при отце духовном показал, что он тех слов подлинно не говаривал и, будучи под караулом, умре, почему признаваетца, что оной рострига [Илья] означенные непристойные слова говорил подлинно, а на вышепомянутого конюха Никитина о произшедших словах показывал ложно, отбывая вины своей» (42-1, 106 об.).
Двух женщин — Анфимью Исакову и Акулину Григорьеву — казнили за произнесение «непристойных слов» после того, как приговоренный к смерти распоп Игнатий Иванов в 1721 г. «утверждался при смерти на словах… [и], по увещеванию отца духовного, сказал», что его донос на женщин достоверен. Между тем никто из привлеченных к следствию, кроме Иванова, этого факта не подтвердил, а обе женщины стойко выдержали три «пытки непризнания» (8–1, 64 об.). Из письма Толстого к Ушакову от 27 января 1724 г. видно, что уже заранее рассчитывали использовать исповедальное признание как основу приговора: «Что распопа Игнатий при смерти скажет, на том можно утвердиться и по тому его последнему допросу и бабам указ учинить, чего будут достойны и тем оное дело кончить» (181, 284). Из этого следует, что исповедь была попросту последним допросом.
В 1722 г. Петр I получил рапорт Тайной канцелярии о колоднике столяре Корольке: «С роспросу и с дву розысков [он] показал важные слова… на клюшника, да и на гребца, которые померли. А потом на исповеди отцу духовному он объявил, что те слова (токмо не все) слышал он… от служительницы вдовы Варвары Кубасовой, о чем и на очной с нею ставке тоже сказал, а в распросех-де, и с розысков, и в очной ставке во оном запирается и в том себя не признавает и ежели тот Королек с третьего розыску станет говорить на нее, вдову, ее в застенок к очной ставке брать ли и ею ро-зыскиватьли?» Итак, мы видим, что исповедальное показание Королька было использовано следствием для ареста новых людей, а сам Королек, поправившийся от болезни, был снова поднят на дыбу, и теперь царю предстояло решить — пытать или не пытать оговоренную им на исповеди Кубасову. Резолюция Петра, в записи Толстого, гласила: «О бабушке (Кубасовой. — Е.А.) изволил говорить: буде Королек с третьей пытки с ней не зговорит, то-де можно и оную попытать» (664, 115–116). Значит, и в данном деле исповедальный допрос был признан за истину. Так же в ряду достоверных показаний была признана в 1725 г. исповедь самозванца Холшевникова, который показал на жонку Марью как на свою сообщницу. О ней сказано в резолюции Тайной канцелярии: Марью пытать, «понеже означенной Холшевниково том на оную жонку, будучи в болезни, по исповеди при отце духовном, также и з дву розысков, показывал именно» (42-2, 24).
Дело Петрова и Федорова за 1732 г. интересно тем, что сыскное ведомство из предсмертной исповеди Федорова сделало попросту очную ставку, перейдя все возможные пределы в надругательстве над одним из основных таинств христианского вероисповедания. Суть дела состояла в том, что новгородец Мирон Петров донес на Алексея Федорова о «некоторых непристойных словах». Федоров «заперся» и извета не подтвердил. Петров прошел все мучения в пыточной палате, но «в роспросе, и в очных ставках, и с подъему, и с трех пыток утверждался» в своей невиновности. Почти все те же круги ада прошел ответчик Федоров, но он сумел выдержать только две пытки и умер. Перед смертью, «будучи в болезни по исповеди при отце духовном и в очной же со оным Петровым ставке утверждался в том же, что он показанные непристойные слова не говаривал подлинно и потом, будучи во оной болезни, под караулом умре». Именно это обстоятельство (а не то, что изветчик выдержал три розыска) сыграло главную роль при вынесении решения по делу; Петрова, как лжеизветчика, приговорили к ссылке в Охотск, ибо «тому ево, Петрова, показанию верить ныне не подлежит, понеже означенной Федоров во оных непристойных словах з дву[х] пыток, паче же, будучи в болезни, при отце духовном и в очной с ним, Петровым, ставке не винился и потом в той болезни умре, почему видно, что на оного Федорова затеял он, Петров, о том собою ложно» (42-3, 14 об.). При этом в приговоре не приведено иных доказательств, кроме того, что неправда доноса Петрова «видна» из исповеди Федорова. Допускаю, что Федоров действительно говорил какие-то «непристойные слова», но, как и каждый человек, он, надеясь на выздоровление, доноса изветчика не признал и тем самым своего обидчика не выручил.
Но здесь, как и в других ситуациях, не было жесткого правила. В 1722 г. монах Кирилл донес на безжалостно преследовавшего его архимандрита Александра в подлинных (несомненных и потом доказанных другими) «продерзостных» высказываниях о Петре I и Екатерине. Не выдержав заключения, Кирилл умер. Перед смертью Кирилл совершил подлинно христианский поступок и в исповеди «сговорил» свой извете Александра. Он сказал, что извет его ложен и архимандрит ни в чем не виноват. Это открывало Александру, за смертью признавшегося во лжи изветчика, дорогу на свободу. Но исповедальные показания Кирилла не спасли Александра — нашелся другой ненавидевший его доносчик, и исповедальный допрос монаха Кирилла был проигнорирован. Поэтому не следует преувеличивать доверчивость инквизиторов к исповедальным показаниям своих жертв.
Как уже сказано выше, следователи Тайной канцелярии были весьма прагматичны, они понимали, что люди могут солгать и на исповеди, и на пороге смерти. В деле Маслова и Федорова 1732 г. сказано, что как изветчик, так и ответчик стоят на своем и нужно продолжать далее розыски, «но токмо видно, что они люди непотребные и правды в них сыскать неможно, понеже они оба при отце духовном, и оной Маслов с подъему, а Федоров с трех розысков утверждались всякой на своем показании и истиной в них не сыскано». Поэтому обоих наказали кнутом и сослали (42-2, 163, 164).
Иначе сложилось дело Левшутина и Ошуркова. Доносчик Левшугин, не выдержав трех пыток, умер и при смерти дал исповедальные показания, в которых настаивал на подлинности своего извета. К этому времени ответчик Ошурков вынес также три пытки да еще жжение вениками и тем не менее твердо отрицал извет. Здесь мы видим столкновение «правды исповедального показания» и «правила трех пыток». В приговоре по делу Ошуркова сказано: «Означенной Ошурков против оговоров помянутова Левшугина ис подлинной правды пытан еще трижды и зжен огнем, но токмо в вышеозначенных словах не винился ж». Из дела следует, что следователи решили еще раз проверить стойкость ответчика, и за свободу он заплатил большую цену: шесть раз на дыбе да еще испытание огнем. И только потом его освободили (42-3, 119).
В этой истории примечательна не только стойкость ответчика, не отказавшегося, несмотря на страшные муки, от своих первоначальных показаний, но не зафиксированные в бумагах следствия психологические наблюдения следователей. Вряд ли было случайно, что они в одном случае вполне доверяют исповедальному допросу, в другом случае полностью игнорируют его, в третьем — делают вывод о непорядочности исповедующихся, в четвертом — перепроверяют исповедь очными ставками или троекратными пытками. Как бы то ни было, исповедальный допрос был обычным и часто применяемым орудием следствия.
В.Н. Татищев в 1738 г. в своих примечаниях к «Русской правде» констатировал, что «у нас о пытке яснаго закона нет» (592, 498). Действительно, все опиралось на традицию, а в сущности, на волю следователя или распоряжения начальства. Как известно, комиссия по составлению проекта Уложения 1720 г. знакомилась с западноевропейскими актами о суде и тем самым неизбежно столкнулась с довольно детальной регламентацией процедуры пытки. Знакомство с ними отразилось в проекте Уложения. Смысл их заключался в попытке законодателя оговорить условия, при которых следовало прибегать к пытке подозреваемого. Глава 2 будущего Уложения называлась: «О пытке, для чего оная установлена и кто оной подлежит или пощажен быть имеет». Авторы главы стремились сузить «зону пытки», прибегая к ней «за неимением других доказательств» и «для испытания и изведывания правды», утверждая, что пытка «за неимением обличения злодеев изобретена, дабы их ко изведыванию сущей правды (буде оную иным способом испытать невозможно) принудить». В проекте главы сказано, что пытка проводится «токмо в тяшких и великих преступлениях, которых ради бывает смертная казнь или наказание на теле или тому подобные» (87-2, 147 об.). Таким образом, в проекте Уложения выделен принцип, согласно которому пытка применяется только в делах о тяжких преступлениях. Ранее это обстоятельство в русском праве оговорено не было. В артикуле 4 этой главы сказано о людях, пытки к которым применялись частично или выборочно. Среди них престарелые, слабые, немощные, малолетние, беременные, сумасшедшие. Малолетних можно бить розгами, разрешившихся от бремени женщин — пытать спустя 40 дней после родов, стариков можно было пытать без ограничений, «ежели оное дело касается оскорбления Величества» (87-2, 149 об.). Следователям предлагалось широко пользоваться угрозами применить пытку. В главе 9 проекта, несшей следы влияния шведского законодательства, вводится ответственность судьи, если он будет несправедлив, начнет пытать «по какой страсти, по неважным признакам, без доказательств» (87-2, 358 об.). Однако проект нового Уложения так и не был дописан, и в пыточных палатах работали по старинке.
К середине XVIII в., под влиянием идей Просвещения и вообще благодаря значительному смягчению нравов, в царствование Елизаветы Петровны, заметно стремление государства пересмотреть отношение к пытке. По этому пути двигалась вся Европа пытку в Пруссии отменили в 1754 г., в Австрии — в 1787 г. Во Франции пытка была отменена в 1789 г. вместе с лютыми средневековыми казнями (последнее в ее истории колесование произошло в 1788 г. — 642-2, 5). Жестокость обращения с людьми в политическом сыске отражает особенность политического строя страны, степень развитости судебной системы и гражданского общества В тех странах, где действовал институт присяжных, где сложились традиции публичного суда, существовала адвокатура, там пытки исчезли рано. В Англии и Швеции их не было уже в XVI в., исключая, естественно, процессы о ведьмах.
Как известно, придя к власти, императрица Елизавета Петровна фактически отменила смертную казнь, точнее — навечно приостановила исполнение смертных приговоров. Как предполагает В.Н. Латкин, в 1761 г. она даже объявила членам Комиссии по составлению Уложения о своем намерении «во оном новосочиненном Уложении смертные казни не писать» (424, 95). При Елизавете были введены некоторые ограничения и в традиционный пыточный процесс: отменили истязания для людей, сделавших описки в титуле государя, перестали пытать детей до 12 лет. При обсуждении последней проблемы в 1742 г. Сенат поспорил с Синодом: первый считал, что нужно отменить пытки людям, не достигшим 17 лет, а Синод был убежден, что пытать можно с 12 лет, так как с этого возраста люди уже приносили присягу и женились. Иначе говоря, сенаторы оказались гуманнее служителей Бога, которые считали, что человек становится преступником с того момента, как начинает грешить, а способность грешить у человека проявляется уже в семь лет (587-11, 8601; 620, 46–47). Только в 1767 г. Синод решил заменить пытки и телесные наказания для священников и монахов монастырскими трудами и «отрешением от дохода и от прихода» (587-18, 12909). Сенат же еще в 1751 г. рекомендовал судам и администрации «как возможно доходить, дабы найти правду, чрез следствия, а не пыткою и когда чрез такое следствие того изыскать будет неможно, то больше о том не следовать, а учинить им за то, в чем сами винились». Тогда же запретили пытать обвиненных в корчемстве (587-13, 9912, 9920).
Согласно проекту разделов нового Уложения 1754 г. о политических преступлениях, сама процедура пытки должна была стать другой. Во-первых, пытку признавали не ординарным, а чрезвычайным средством достижения истины. Применение ее допускалось только к упорствующему в непризнании вины подследственному («совсем тем повиниться не хочет»), да и то при недостатке улик против него. Если же вина человека была подтверждена бесспорными доказательствами, то пытки разрешалось не применять. Ранее же, как показано выше, пытка применялась даже и для подтверждения чистосердечного признания преступника.
Во-вторых, утверждался принцип, согласно которому тяжесть пытки не могла превосходить тяжести предполагаемого наказания. Иначе говоря, на дыбу поднимали только людей, обвиненных в тяжких преступлениях. Ранее же розыск в застенке в лучшем случае «засчитывали» за телесное наказание, к которому приговаривали преступника. В делах «маловажных», «меньшей важности» авторы проекта предполагали ограничиться «роспросом с пристрастием» или «пристрастным роспросом». Судья должен был смотреть, чтобы «между оным к сысканию истины средством и будущим наказанием всегда была пристойная пропорция».
В-третьих, реформировался сам пыточный процесс. Авторы проекта выделяли три «градуса»-степени пытки по нарастающей ее тяжести. Первым градусом становилась уже известная читателю «виска» («подъем на дыбу»), вторым градусом — «встряска» («подъем с стряскою без огня»). Наконец, третьим, высшим градусом являлась пытка на виске, когда еще «сверх того веником или утюгом жгут». Как только пытаемый признавал свою вину, всякая пытка прекращалась. Впервые в право предполагалось ввести фундаментальное, в духе новых времен, положение о том, что повторение пытки после признания пытаемого может не подтвердил, (как считали раньше), а лишь затемнить истину.
В применении самих пыток вводили ряд ограничений: социальных, возрастных, половых, по состоянию здоровья. От пытки освобождались (исключая преступления по «первым двум пунктам») чиновники первых восьми классов при условии, что они принесут церковную присягу. Дворяне подвергались пытке только по обвинению в убийстве, разбое, грабеже, поджоге, изготовлении фальшивых денег. Полностью освобождались от пытки дети до 15 лет и старики старше 70 лет, беременные женщины (до родов), больные (до выздоровления), глухонемые и сумасшедшие (596, 27–30). Однако и этот проект остался нереализованным.
После отмены «Слова и дела» Петром III и вступления на престол Екатерины II новые веяния гуманизации права усилились. В указе Сената от 25 декабря 1762 г. местные власти были предупреждены: «В пытках поступать со всяким осмотрением, дабы невинные напрасно истязаны не были и чтоб не было напрасно кровопролития, под опасением тягчайшего за то по указам штрафа». Но предупреждение это было скорее рекомендацией, ибо указ содержал оговорку: «Что же следует до таковых, которые по указам тому (т. е. пытке. — Е.А.) подлежат, с ними поступать так, как указы повелевают непременно». Об осмотрительном применении пыток в виде пожелания говорила 15 января 1763 г. в Сенате сама императрица Екатерина II (587-14, 11717). Однако пытки не были отменены ни в общеуголовных, ни тем более — в политических делах. В 1765–1766 гг. в главы о пытках проекта Уложения 1754 г. были внесены поправки. В целом они предполагали более гуманное отношение к пытаемым, смягчали жестокости елизаветинского проекта, но тем не менее основных положений о пытках не отменяли (596, 28–31).
Как известно, Наказ Екатерины 1767 г. рассматривался властями всех уровней как полноценный законодательный акт, принятый государственными органами к исполнению. Автор Наказа осуждал пытки как антигуманные и бессмысленные («Употребление пытки протавно здравому, естественному разсуждению; само человечество вопиет против оных и требует, чтоб она была вовсе уничтожена» — 587-18, 12949). Эти строки продиктованы не только гуманизмом Екатерины II, которая не терпела, чтобы при ней били слуг или животных, но и ее рационализмом. Познакомившись с делом А.П. Волынского, она написала; «Из дела сего видно, сколь мало положиться можно на пыточные речи, ибо до пытки все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили все, что злодеи хотели. Странно, как роду человеческому на ум пришло лучше утвердительнее верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодною кровию: всякий пытанный в горячке и сам уже не знает, что говорит» (633-10, 56–57). Несомненно, это высказывание, как и проект Уложения 1754 г., свидетельствует, что в сознании людей середины века произошел важный перелом: признание, добытое с помощью истязания, уже не считалось, как раньше, абсолютным доказательством виновности, саму же пытку признавали препятствием для выяснения правды.
Запрещая пытки Пугачева и его сообщников, императрица писала М.Н. Волконскому 10 октября 1774 г.: «Для Бога, удержитесь от всякого рода пристрастных распросов, всегда затемняющих истину» (687-7, 95) Волконский отвечал, что при допросах в Москве Пугачев «от пристрастных распросов всемерно, всемилостивейшая государыня, удержан» (554, 153). В приговоре по делу о побеге Беньовского с Камчатки сказано, что полковник Зубрицкий неправильно делал, когда применял при розыске «сечение» и что «телесное при следствиях наказание делает подсудимых более упорными и предписать, чтобы впредь старался открывать истину посредством приличных вопросов, не употребляя воспрещенных Ея величеством истязаний» (305, 436; 650, 545). В «Антидоте» — полемическом сочинении на путевые записки аббата Шап-пад’Отроша — императрица прямо пишет, что после отъезда путешественника, обличавшего пытки, в России уже «уничтожены все пытки» (312, 458).
Это высказывание предназначалось больше для зарубежного, чем для отечественного читателя, в действительности же пытки и по закону, и де-факто сохранялись. Через десять лет после отъезда аббата, неприятного императрице своей дотошной любознательностью, точнее — 8 ноября 1774 г., губернские учреждения получили секретный указ о неприменении пыток в виде телесных истязаний. Почему же этот указ был секретным? Суть состояла в том, что формально пытка оставалась в арсенале следователя, как и в законодательстве, но в то же время, в действительности, она была запрещена этим секретным указом государыни. Иначе говоря, к подследственным применяли угрозу пытки на словах (territiо vегbаlis). Приготовленный к пытке человек, не зная, что пытка запрещена, думал, что угроза применить к нему пытку вот-вот осуществится, и поэтому со страха он мог признаться в преступлениях или объявить своих сообщников. Обращает на себя внимание приведенное выше описание, как проводили сам «роспрос с пристрастием»: человека раздевали, клали его руки в хомут и «всякими приуготовлениями стращ[али], токмо самым действом до него больше ничем не каса[лись]» (596, 81). После таких приготовлений любой мог дрогнуть.
В октябре 1767 г. Архангелогородская губернская канцелярия расследовала дело Арсения Мациевича и капитана Якова Римского-Корсакова. Генерал-прокурор Вяземский приказал чиновникам, ведшим следствие, передать подследственным, что «есть-ли они истинной не покажут, поступлено будет по всей строгости законов». Все знали, что это был эвфемизм пытки. Но при этом Вяземский секретно предупреждал следователей: «Но как по беспримерному Ея и.в. великодушию и милосердию ника-кия истязания терпимы быть не могут, то вам рекомендую, чтоб по сему делу отнюдь побоями никто истязаем не был, а только б без всякаго наказания, показать в сем деле только словами строгость, сопряженную с благоразумием и верностию к Ея и.в. и чрез то б одно… людей подвигнуть к чистосердечному признанию» (483, 615; 591, 555). Поэтому можно верить сведениям о том, что при допросах Пугачева следователи якобы говорили знаменитому арестанту: императрица разрешила им вести дознание «с полной властью ко всем над тобою мучениям, какия только жестокость человеческая выдумать может», хотя на самом деле делать это не собирались, да и не могли согласно секретному указу 8 ноября 1774 г. Однако угрозы применить пытки подействовали, и Пугачев стал давать показания (522, 72; 316, 105–126).
Ясно, что разделительная грань между угрозами на словах применить пытку (territio verbalis), а также следующей стадией (territio realis) — демонстрацией подследственному орудий пыток, которые могли к нему применил, и, наконец, собственно пыткой была весьма условна, тем более что новая трактовка понятия «допрос с пристрастием» (об этом ниже) позволяла обходиться при пытке без дыбы и кнута. Угроза пыткой и прямое применение пытки долгое время в царствование Екатерины II шли рядом и широко использовались в следственном деле. Дело Салтычихи, судьба которой решалась в 1768 г. в высших сферах, говорит об этом со всей определенностью. Упорство садистки, не признавшей ни одного из своих чудовищных преступлений, привело к тому, что императрица дала указание «объявить оной Салтыковой, что все обстоятельства дела и многих людей свидетельства доводят ее к пытке, что действительно с нею и последует». В проекте указа, откуда взята цитата, сказано еще, что кроме увещевания преступницы священником ей следует показать настоящую пытку над другим преступником. В какой-то момент Екатерина II решилась, как она писала, «поступать с нею, Салтыковой), по законам, но при этом прилежно наблюдать, чтобы напрасного крови пролития учинено не было». Но потом императрица все-таки передумала, сочтя, что преступления Салтычихи очевидны и доказаны, и они даже не требуют признаний изуверки: «Естьли оная Салтыкова, по свидетельству и по повальному обыску довольно обличена по признанию Юстиц-коллегии, а пытка только для того по законам следует, чтоб она призналась в тех смертных убийствах, то, не чиня людям, ни ей пыток, признав за винную оную Салтыкову, приговорить сентенцию» (632-2, 311–312).
Так, пытка при Екатерине не была отменена официально, а весьма глубокая, противоречившая всему средневековому праву мысль императрицы о том, что главной задачей следствия является бесспорное обличение преступника, а не его признание, так и не была закреплена законодательно. По-прежнему, как и в XVII в., в течение всего XVIII в. де-юре и де-факто венцом следственного процесса оставалось личное признание подследственного в совершении преступления, и поэтому пытка, как вернейшее средство достижения этого признания, оставалась в арсенале следствия. Выражение «поступать по законам» или «поступать со всей строгостью законов» в екатерининское время понимали и как угрозу пыткой. Впрочем, в провинции пытали людей без особых угрызений совести. За 1763–1767 гг. в журналах и протоколах Сената сохранилось немало записей о том, что в губерниях «многие пытаны, а некоторые и огнем жжены без всякаго прежде того увещания». Подчас людей пытали без особой необходимости — после признания, при наличии ясности мотивов и всех обстоятельств совершенного ими преступления (228, Прил., 161–162). В 1766 г. в Екатеринбурге было начато дело казака Федора Каменщикова, который «разглашал», что «бывший император (т. е. Петр III. — Е.А.) вживе и неоднократно-де в Троицкую крепость, обще с… губернатором Волковым, приезжали для разведывания о народных обидах в ночное время». Каменщиков так упорно отрицал извет на него, что следователи писали в Сенат, что «по запирательству и по примеченной в его показаниях, [даже] по множайшим увещаниям, точной несправедливости, инаково обойтись истинной правды, яко о самой великой важности доискаться неможно, так принуждено Оренбургская губернская канцелярия к пытке приступить» (368, 389).
Пытка была по-прежнему в ходу еще по двум причинам. Во-первых, добиться признания без пытки мог только высококлассный специалист, знаток человеческих душ, умевший создать такие психологические условия, при которых человек признавался и раскаивался в содеянном. Таким специалистом считался тогда один только С. И. Шешковский. Все же остальные следователи действовали по старинке. Выше упоминалось поручение архангелогородским чиновникам расследовать дело Мациевича и Римского-Корсакова Через две недели бесплодных допросов губернская канцелярия рапортовала Вяземскому, что «все на словах строгости употребляемы были, но никакого успеха не последовало, как из очных ставок увидеть изволите». В этих словах звучит некоторая обида на центр, не давший возможности посечь арестантов для достижения истины: «Все на словах строгости и увещания во изыскании прямой истины не предуспели и какое великое разноречие, то из представленного экстракта усмотреть соизволите» (483, 615, 617–618). Де-факто пытки продолжались везде, где вели расследование. Екатерина была вынуждена это признать в указе 1782 г. о запрещении пыток на флоте, который, естественно, не был местом сосредоточения садистов (587-21, 15313).
Во-вторых, мнение о нерациональности, негуманности пытки разделяла сама Екатерина II, да еще, может быть, пять — десять просвещенных людей из высшего общества. В среде чиновничества, военных, просто власть имущих по-прежнему царило твердое убеждение, что только болью, истязаниями можно заставить человека говорить правду или принести покаяние. Глава из третьего тома «Жизни и приключений Андрея Болотова» примечательна как своим названием: «Истязание воров и успех оттого», так и содержанием. Болотов описывает, как он, обнаружив воровство в своем новом имении, пытался с ним бороться вначале гуманными средствами — уговорами, увещаниями, угрозами, но «скоро увидел, что добром и ласковыми словцами и не только увещаниями и угрозами, но и самыми легкими наказаниями тут ничего не сделаешь, а надобно было неотменно употребить все роды жестокости, буде хотеть достичь тут до своей цели».
И далее Болотов рассказывает, как он пять раз пытал «роспросом с пристрастием» одного из пойманных воров, пытаясь узнать у него имя второго, бежавшего вора. Пять раз вор показывал на разных людей, непричастных к краже, хотя «его спина была уже ловко взъерошена», а люди, которых он оклеветал, также терпели удары палки, но вину и свою причастность к преступлению категорически отрицали. Помещик, доморощенный следователь, был в ярости: «И как… вывел он меня совсем уже из терпения, то боясь, чтоб бездельника сего непомерным сечением не умертвить, вздумал я испытать над ним особое средство. Я велел скрутить ему руки и ноги и, бросив в натопленную жарко баню, накормить его насильно поболее самою соленою рыбою и, приставив к нему караул, не велел давать ему ни для чего пить и морить его до тех пор жаждою, покуда он не скажет истины и сие только в состоянии было его пронять. Он не мог никак перенесть нестерпимой жажды и объявил нам, наконец, истинного вора, бывшего с ним в сотовариществе. И вот с какими удальцами принужден я был иметь дело» (165, 178–182). Как уже знает читатель из этой главы, «особое средство», примененное Болотовым, было пыткой и называлось в просторечье «покормить селедкой».
В 1764 г. после ареста Василия Мировича в Шлиссельбургской крепости Н.И. Панин сообщал императрице, что сенатор И.И. Неплюев через Г.Н. Теплова словесно передал Панину: «Если б он был на моем месте, то бы он, ни мало не мешкав, возмутителя Мировича, взял в Царское Село и в скромном месте пыткою из него выведал о его сообщниках, или ежели бы сей арестант был в его руках, то бы у него в ребрах пощупал с кем он о своем возмущении соглашался, ибо-де нельзя надеяться, чтоб такой малый человек столь важное дело собою одним восприял, а сие-де мучение нужно для того, чтоб те сообщники не скрылися» (658, 302). Разговор этот происходил у Неплюева с Вяземским и, вероятно, Шешковским, рукой которого было написано цитируемое письмо к Панину.
Также, как сенатор Неплюев, думали многие. В ссылке под Архангельском Арсений Мациевич в разговоре с охраной по поводу шлиссельбургских событий сомневался, что Мирович «один, будучи таким маленьким чином вздумал» и что «конечно-де много и больших господ согласников ему было, то в таком случае надлежало его, Мировича, пытать кнутом, то б истинную правду узнали, да и бывших на карауле у него, Ивана Антоновича, офицеров, которые его убили, надлежало казнить смертию за пролитие царской крови» (483, 328). Более того, вопрос о пытке преступника всплыл и во время суда над Мировичем. Барон Черкасов, член суда, подал свое особое мнение. Он писал: «Мне невероятно, чтоб Мирович не имел сообщников в своем злом умысле…» — и поэтому считал применение пытки необходимым «единственно для принуждения его открыть своих сообщников, единомышленников или наустителей, ежели такие имеются. Разумно ли, праведно ли жалеть о таком лютом звере, как о человеке? Скольких бы он людей погубил, ежели б не так тщетно предприятие его кончилось?» (410, 275–277). Однако Черкасов остался на суде в меньшинстве, все судьи знали точку зрения императрицы, которая по каким-то своим соображениям не дала распоряжения «пощупать» в ребрах у Мировича.
К середине XVIII в. изменилось содержание выражения «роспрос с пристрастием». Ранее так называли допрос в застенке перед пыткой, но еще без ее применения. С середины XVIII в. понятие это стало означать облегченный вариант пытки вообще. Кнут как орудие пытки начали заменять более легкими инструментами — батогами (палками), плетью. Впрочем, новое толкование этого понятия известно уже в 1730-х гг. В 1734 г. указом императрицы Анны было предписано «спросить с пристрастием накрепко под битьем батогами» доносчицу на княжну Екатерину Щербатову Авдотью Тюрину (43-1, 35). За два года до этого в указе о матросе Фролове было сказано: «По допросу с пристрастием и при битье кошками» (42-1, 3). Допрос с битьем плетью особенно распространился при Елизавете Петровне (180, 304).
В материалах Следственной комиссии генерала М. Опочинина о бунте работных людей А.А. Гончарова и Н.Н. Демидова в Калужской провинции в 1752–1753 гг. отмечается: «Из ыстинной спрашиван под плетьми и з битья плетей показал…» Такой допрос назывался в бумагах следствия «роспросом под пристрастием» или «под пристрастным роспросом битьем кошками» (463, 86, 306, 343, 106, 125). Вместе с тем «роспрос с пристрастием» не отменял и традиционной пытки на дыбе. Опочинин писал в Сенат «Посланный от меня… указом поведено: теми колодниками, кого в чем надлежит о их злоумышлении и противностях производить крепкие розыски под битьем плетьми или кошками и, кои ис тех колодников, по важности дела, дойдут до пытки, таковых накрепко пытать, выпрашивая у них истинно правды» (463, 106, 125). Что такое «накрепко пытать», читатель смог узнать в подробностях из начала этой главы о пытке.
В екатерининские времена генерал-прокурор Сената князь Вяземский писал о допросе преступника: «Солдату Дмитриеву был пристрастный допрос, но не по-прежнему, не пытка, а битье батоги» (346, 471). П.С. Рунич так описывает приготовления генерала П.С. Потемкина к «роспросу с пристрастием» Пугачева в начале октября 1774 г.: «Наконец, сколь не велико было терпение генерал-майора Потемкина около двух часов слушать на все его вопросы отрицательные его, Пугачева, ответы, но вдруг с грозным видом сказал ему: “Ты скажешь всю правду!”. Постучал в колокольчик и посему позыву вошедшему экзекутору приказал ему ввести в судейскую четырех моих гренадеров и с ними палача, тотчас приказал гренадерам раздеть Пугачева и растянуть его на полу и крепко держать за ноги и руки, а палачу начать его дело…» (629, 151).
И хотя Рунич писал, что Потемкин ограничился угрозами, думаю, что мемуарист забыл или умышленно скрыл факт «облегченной» пытки Пугачева. В официальной записке о допросах Пугачева 2–5 октября 1774 г. сообщается, как после бесплодных допросов главаря мятежников стало ясно, что «злодей… скрывая яд злости на сердце» уходит от прямых ответов. И «для того учинено было ему малое наказание» (282, 39). По-видимому, такое «наказание», т. е. пытка, было действительно малым, несильным, потому что вскоре привезенный в Москву Пугачев был вполне здоров. Совершенно непонятно, откуда историограф Пугачева Р. В. Овчинников взял усеченную устрашающую цитату о том, что сановные следователи пытались сломить волю и мужество Е.И. Пугачева «всеми мучениями, какие только жесткость человеческая выдумать может» (418-3, 406). Правда, в предисловии к публикации «Следствие и суд над Е.И. Пугачевым» автор пишет совершенно иначе: «При допросе эти сановные следователи пытались сломить волю и мужество Е.И. Пугачева, угрожая ему самыми мучительными пытками, “всеми мучениями…”» — и далее по тексту (684-3, 125). Наконец, в издании 1995 г. Овчинников сообщает нам, что Потемкин «буквально вымучивал у Пугачева не соответствующие истине показания… прибегая в ходе пристрастного допроса к грубому психологическому нажиму, к истязаниям, к угрозе применения пытки» (522, 71). Это уже ближе к истине, но опять неточно: Пугачева все-таки слегка «взбодрили» палками, чтобы он начал говорить правду. Это, по-видимому, помогло следствию, тем более что процедура «роспроса с пристрастием» была уже хорошо знакома Пугачеву. В допросе в Яицком городке он рассказал, как в 1773 г. его пытал управитель дворцовых владений в Малыковке. Управитель по доносу местного крестьянина захватил Пугачева и долго его «под пристрастным распросом, дабы признался в том, в чем… крестьянин Филипов доказывал и выспрашивал: не солдат ли, не казак ли, не барской ли я беглой человек, а между тем все-таки секли немилосердно батоги. Но я утверждался на прежнем своем показании» (684, 135).
Вообще же известно, что, в отличие от многих других, второстепенных участников мятежа, подвергавшихся жестокому «роспросу с пристрастием» и просто откровенной пытке, Пугачева берегли как зеницу ока — его следовало доставить на эшафот в Москве целым и невредимым. Как описывает везший его Рунич, достаточно было увидеть, что «злодей» впал в уныние и задумчивость, как начальство дало охране приказ «всеми мерами стараться его, Пугачева, выводить из уныния и задумчивости». Не прошло и нескольких дней после отъезда из Симбирска, как Пугачев уже был весел, общителен и рассказывал конвою эпизоды из своей полной приключений жизни (629, 153).
Не пытали Пугачева и в Москве, хотя он давал не те показания, на которые рассчитывала Екатерина; следователи ограничивались «довольным увещеванием», т. е. уговорами и угрозами. Они помнили предписание императрицы: «Весьма неприятно бы было… есть ли бы кто из важных преступников, а паче злодей Пугачев, от какого изнурения умер и избегнул тем заслуженаго по злым своим делам наказания» (684-7, 108–109).
Такой заботливости к другим «клиентам» члены Секретных комиссий, действовавших в Казани, Оренбурге и Яицком городке, не проявляли. Большей жестокостью, чем другие следователи по делу Пугачева и его сообщников, отличался генерал П.И. Панин, требовавший добывать сведения «под телесными наказаниями», под «всякими ужаснейшими угрожениями и убеждениями», причем П.С. Потемкин, руководитель Следственной комиссии, жаловался императрице как профессионал, который из-за неоправданной жесткости Панина и его подчиненных терял «материал» для следовательской работы: «С ужасом нахожу я, что во всех местах, где бы ни попался важный или сумнительный колодник, не только дерзают сами собою приступать к распросам… но и допрашивают под пристрастием так, что самые важные сведения иногда вместе с преступниками погибают», а невинные возводят на себя «такие дела, которые они никогда не делывали и которые и со здравым разсудком и со обстоятельствами различаются» (418-3, 402–403). Таким образом, нет сомнения, что пытки при расследовании дел пугачевцев применялись. Это были «роспросы с пристрастием» в их новой «редакции», да и старые пытки.
Точно установить, пытали ли людей в Тайной экспедиции, мы не можем. Прямых документальных свидетельств о пытках нет, но слухи о том, что там пытали, точнее — били, ходили в обществе. Однако Екатерина I1 была убеждена, что людей на допросах в ведомстве Шешковского не били. Повторю, что она в 1774 г. писала А.И. Бибикову по поводу ставшего ей известным допроса «под телесным наказанием», примененного в Следственной комиссии о пугачевском бунте: «Пожалуй, прикажи Секретной комиссии осторожно быть в разборе и наказании людей. По моему рассуждению солдаты Айтуган и Сангутов невинно сечены. Также при распросах какая нужда сечь? Двенадцать лет Тайная экспедиция под моими глазами ни одного человека при допросах не секли ничем, а всякое дело начисто разобрано было и всегда более выходило, нежели мы желали знать» (560, 307–308).
К.В. Сивков не сомневался, что в Тайной экспедиции «широко применялись телесные наказания и пытки», но сведений о широком применении пыток ученый не приводит. Он упоминает только один случай, когда в 1762 г. о Петре Хрущове и Семене Гурьеве было сказано: «Для изыскания истины с пристрастием под батожьем распрашиваны» (680, 93, 107). Конечно, уже сама неясность вопроса о пытках в Тайной экспедиции должна рассматриваться как свидетельство в пользу их отсутствия — возможны ли исследовательские сомнения на сей счет в отношении, например, Преображенского приказа князя Ромодановского или Тайной канцелярии Ушакова? Возвращаясь к теме, уже затронутой выше в разделе о Шешковском, отметим, что, скорее всего, в Тайной экспедиции действительно не пытали так, как это было в Тайной канцелярии. Но будем иметь в виду, что в стране, где побои людей, «раздача боли» были печальной нормой жизни миллионов, можно было и не иметь застенка в Тайной экспедиции — сам Государственный страх, угроза применения не запрещенной официально пытки «по закону», т. е. по действовавшему Уложению 1649 г. и другим вполне свирепым нормам средневекового права, делали свое дело с «клиентами» Экспедиции. Сам Шешковский умел заставить говорить и без особых физических мучений (ну, ткнет пару раз тростью в подбородок!), в основном с помощью угроз и запугивания. Их испытали многие узники Тайной экспедиции. Выше уже сказано о Радищеве и других людях, попадавших «в гости» к Шешковскому. Угрожали во время следствия 1775 г. и самозванке «Таракановой». Князь Голицын обещал узнице употребление «крайних мер… крайних способов для узнания самых тайных ея мыслей». Симптомом исполнения этих угроз стало лишение женщины, беременной на последних месяцах, да еще смертельно больной чахоткой, теплой одежды, прислуги, приличной ее положению и привычкам еды (441, 599).
В 1792 г. взятый в сыск по делу Новикова студент Максим Невзоров отказался отвечать на вопросы Шешковского. Он ссылался на привилегии университета, согласно которым власти без куратора университета не могли допрашивать универсанта. Как следует из доклада Шешковского императрице, Невзоров молчал, «хотя ему, Невзорову, неоднократно было говорено, что спрашивается [он] по высочайшему соизволению Ея и.в., но он на то говорил: “Я-де этому не верю!”. Наконец, сказано ему, Невзорову, было, что если он ответствовать не будет, то он, яко ослушник власти, по повелению Ея и.в. будет сечен». Здесь мы видим применение типичной угрозы пыткой. Вероятно, в этом положении многие и начинали давать показания Шешковскому, но Невзоров, сын просвещенной эпохи, приехавший только что из вольного Лейдена, на эту угрозу «с азартом говорил: “Я-де теперь в ваших руках, делайте что хотите, выведите меня на эшафот и публично отрубите голову!”».
Важно, что Невзоров и его товарищ Колокольцев подверглись утрозам и со стороны самой императрицы, которая писала Шешковскому: «Как они ссылаются на привилегии университетския, то можешь им сказать, что давно оне бы выполнены были, ежели упрямством и упорностию своею сами дела своего не остановили и не довели до того, что из монастыря перевезены в крепость (арестантов вначале поместили в Александре-Невском монастыре. — Е.А.)».
И все же пришлось Шешковскому вести неукротимого студента к куратору Московского университета И.И. Шувалову. Тотуговорил Невзорова дать показания в Тайной экспедиции (663-2, 141–142, 224). Упорное сопротивление юноши могущественной власти государства дорого ему обошлось: после испытаний Государственным страхом он тронулся в уме и попал в сумасшедший дом. Можно представить себе, какой огромной оказалась обрушившаяся на него психологическая нагрузка: его, возвращавшегося на родину после нескольких лет учебы в Голландии, внезапно задержали на границе в Риге, долго и без всяких объяснений держали под арестом, отобрали вещи, рукописи и книги, обыскивали, потом заковали в кандалы и под строгим конвоем повезли в столицу. Там посадили в монастырскую келью, потом перевели в страшную тюрьму Алексеевского равелина После этого Шешковский стал задавать им странные вопросы о причинах французской революции и участии в ней масонов, об их русских сообщниках. Все это перемежалось грозными предупреждениями от имени самодержицы и требованиями оставить «упрямство». В такой обстановке только угрозы Шешковского высечь надышавшегося воздуха свободной Европы человека было достаточно, чтобы сломать его психику.
Несомненно, формой пытки являлось уже само содержание арестанта в казематах Петропавловской крепости. Так было с больной самозванкой «Таракановой». Князь А.М. Голицын писал Екатерине II, что «хотя я, по лукавству ея и лже, не надеялся того, дабы она написала что-нибудь похожее на правду, однакож, не теряя вовсе всей надежды, думал иногда по человечеству в таком ее утесненном строгостию и болезнию состоянии найти в ней чистосердечное раскаяние» (435, 104–105). Эта форма пытки была одобрена Екатериной, которая отвечала Голицыну: «Примите в отношении к ней над лежащие меры строгости, чтобы, наконец, ее образумить» (441, 598). В 1762 г. власти Тамбова схватили кричавшего «Слово и дело» купца Д. Немцова, заперли его на два дня без воды и еды в каморке при ратуше. На третий день он признался в ложном кричании «Слова и дела», сказал, что делал это, «избавляясь от постылой жены» (285-3, 80–81).
Впрочем, для пользы дела иного «упрямца» могли и посечь, а потом слегка обмануть гуманную государыню, чтобы не огорчать ее лишний раз. Любопытно, что в полном тексте допроса Потемкиным Пугачева в Симбирске о его «малом наказании» упомянуто глухо и вскользь, в то же время в письме к Екатерине II от 8 октября Потемкин это обстоятельство вообще скрыл: «Не оставя ни единого способа, чем только мог просветить помраченную совесть самозванца, приводил его всеми возможными увещеваниями к чистому раскаянию и, хотя весьма переменился он против прежней чувствительности, но полагаться, чтобы показания его были откровенны, невозможно» (684-5, 118).
С менее важными преступниками процедура, как тогда говорили, «просвещения помраченной совести» была упрощена После упомянутого выше легкого выговора императрицы Бибикову о недопустимости «пристрастного допроса» провинившихся перед законом солдат Айгугана и Сашутова Бибиков писал в Казань члену Следственной комиссии капитану Измайловского полка А.М. Лунину, что получил от государыни письмо, «в котором без гневу и с милостью писать изволит, что мне-де кажется, что солдат Антуган Сангутов (так! — Е.А.) при разспросе сечен напрасно». И далее Бибиков, не углубляясь во второстепенный для него вопрос, сколько тогда было пытанных — один или два, пишет так, как и обычно делали в таком случае русские чиновники: «Пожалуй, справься что это за солдат, я не помню и меня уведомь. Да не пишите вперед в экстрактах пристрастных разпросов: в том нужды нет, а только б каждого состояния дело изъяснено было» (556, 386–387). Вероятно, с тех пор Екатерина была убеждена, что и в Казанской следственной комиссии, как и в других учреждениях, к пугачевцам и пальцем не прикасаются.
Пытка в России была отменена формально только по указу 27 сентября 1801 г. после скандального дела в Казани. Там казнили человека, признавшего под пыткой свою вину. Уже после казни выяснилось, что человек этот был невиновен. Тогда Александр I предписал Сенату «повсеместно по всей империи подтвердить, чтобы нигде, ни под каким видом, ни в высших, ни в низших правительствах и судах никто не дерзал ни делать, ни допущать, ни исполнять никаких истязаний под страхом неминуемого и строгого наказания» и чтобы «наконец, самое название пытки стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной» (587-26, 20022). Однако указ этот остался одним из благих пожеланий либеральной весны царствования Александра. Пока в России существовали телесные наказания, крепостное право, палочная дисциплина в армии, говорить об отмене пыток было невозможно. Лишь только с 1861 г., с началом судебных и иных реформ, применение пытки в политическом сыске стало затруднительным, однако изобретательные следователи жандармских управлений и местных органов власти находили немало способов заменить пытки кнутом, плетью и другими истязаниями.
Что же намеревались следователи услышать на следствии от своего «клиента»? Естественно, в первую очередь, они хотели, чтобы подследственный признал свою вину, дал показания добровольно, чистосердечно, «по повинке». Раскаяние, как уже отмечалось выше, было очень важным положением следственного действа, во многом символичным. Человек, обвиненный в государственном преступлении, но не раскаявшийся в нем, упорством, «упрямством» усугублял свою вину и уже поэтому признавался страшным злодеем. Недостижением раскаяния цели сыска, естественно, не ограничивались. Практика выработала целую систему вопросов к подследственному во время «роспроса» и на пытке. Ко второй пытке Макара Погуляева (он оговорил своего товарища, солдата Вершинина, в оказывании «непристойных слов» об императрице Анне Ивановне и на первой пытке признал свою вину) были приготовлены вопросы: «Определено: означенного Погуляева, по повинке ево и с подлинной правды, розыскивать и спрашивать: подлинно ль он показанных непристойных слов от помянутого Вершинина не слыхал? и подлинно ль те слова показывал он, Погуляев, вымысля собою? и для чего подлинно (придумал. — Е.А.)? и к поношению означенными словами не имел ль он, Погуляев, злобы какой (на императрицу Анну Ивановну. — Е.А.)? и не разглашал ль о том другим кому? И не слыхал ль он, Погуляев, показанных слов от других кого? Или подлинно показанные слова слышал он от того Вершинина, да зговаривает, сожалея того Вершинина по засылке какой от него?» (48, 11 об.).
Здесь в концентрированном виде сформулированы все основные вопросы, которые задавали людям, попавшим в сыскное ведомство. Приведу ответы на подобные же вопросы гренадера Никиты Елизарова, осуждавшего в 1734 г. императрицу Анну и говорившего, что в Петербурге «потехи… а в Руси плачут от подушного окладу»: «Аумыслу и никакого в том намерения и злобы он, Елизаров, не имел, и об оном говорить никто ево, Елизарова, не научал, и согласных в том с ним, Елизаровым, никого не было, и чрез разглашение оных непристойных слов мыслию своею ничему он, Елизаров, быть не надеялся, и другие, кто имянно такие ж, или другие какие непристойные слова говорил ли, того он, Елизаров, не знает и ни от кого не слыхал» (51, 13; см. также: 88, 15 об.).
Практически все допросы в сыске арестованного за «непристойные слова» сводятся к такому набору вопросов:
1. «С какого подлинно умыслу и намерения [это] затевал?»
2. «Не научал ли ево кто о том затевать?»
3. «Не имел ли он с кем в том какого согласия?»
4. «Об оных словах [делах] кому еще разглашал (вариант «Не объявлял ли кому для какого разглашения»)?»
5. «Не слыхал ли он о том от кого других?»
Разумеется, вопросы арестантам — крупным государственным деятелям и «персонам знатным» были посложнее, но все же и они обязательно включали в себя, в той или иной форме, упомянутые выше темы.
Общая же цель расследования, допросов, пыток достаточно полно и афористично обозначена в инструкции императрицы Анны А.И. Ушакову, отправленному в 1734 г. в Смоленск для расследования дела губернатора А.А. Черкасского: «Оное дело подробно изследовать, которым надлежит, несмотря и не щадя никого, розыскивать, дабы всех причастников того злоумышления и изменнического дела сыскать, до самого кореня достигнуть» (247, 34–40). Этот принцип следует признать одним из самых важных для политического сыска. Как перевести сказанное с образного языка Анны Ивановны на язык профессионалов сыска? Эго, прежде всего, поиск сообщников, соучастников, сочувствующих, неизветчиков — словом, всех причастных к преступлению. Поиск приводил порой к масштабным для тогдашнего общества арестам. Так происходило во время Стрелецкого розыска, розыска по делу царевича Алексея в 1718 г., в Тарском розыске 1722 г., при расследовании дела Долгоруких в Березове в 1738 г. В последнем случае внезапные аресты жителей этого заполярного городка были так значительны и устрашающи, что позже сложилась поговорка: «Кто у Долгорукого съел блин, того возили в Тобольск к ответу» (310, 92).
В большом количестве арестовывали людей и в 1740 г., когда началось дело Волынского (304, 156–159). Стоило только кому-либо из подследственных по делу Лопухиных в 1743 г. во время допросов и пыток назвать имя знакомого или родственника, как сразу же за этим человеком отправляли нарочного, который и привозил нового арестанта в крепость (666, 11). В этих и многих других политических делах срабатывал один из принципов, на котором стоял и держался политический сыск, — государственные преступления в одиночку не совершают, нужно обязательно обнаружить скоп и заговор. Этот главный принцип заложен практически в каждом деле, которое расследовали в сыске. Когда в 1731 г. новгородский крестьянин донес на 12 помещиков в «небытии их у присяги» по завещанию императрицы Анны, то каждому из этих арестованных помещиков в Тайной канцелярии задали два вопроса: «Для чего у присяги не был? В небытии у той присяги противности и умысла и согласия с кем какова они (помещики. — Е.А.) не имели ль?» (42, 266).
Вереницу ни в чем не повинных людей утащил за собой в тюрьму, довел до застенка Варлам Левин. Он рассказывал следователям обо всех своих встречах, разговорах, называл имена, и всех упомянутых им людей разыскивали, арестовывали и сажали в тюрьму Тайной канцелярии. Среди них были родственники Левина, соседи, слышавшие его полусумасшедшие откровения о Петре-антихристе, но не донесшие на него «куда следует», священники, знакомые, попутчики. Всего таких людей набралось не менее двух десятков, среди них был даже глава Синода Стефан Яворский. Весной 1722 г. по показаниям Левина арестован целый монастырь — пензенский Предтеченский. В Москву забрали только игумена, всех остальных (28 монахов и бельцов) заточили в их же обители, превращенной в тюрьму. Караул охранял монахов, как чумных больных. Просидев в полной изоляции год, монахи стали погибать от голода. Лишь весной 1723 г. было решено выпустить узников, как непричастных к делу: «Для того, что до них по делу старца Варлаама Левина важности никакой не находилось» (325-1, 81).
Чтобы не упустить возможных сообщников и «согласников», политический сыск арестовывал людей по малейшему намеку, из-за случайной фразы или вопроса. Стоило архимандриту Александру (Алексею Лампадчику), посаженному в 1719 г. под арест в Петропавловскую крепость, спросить у служителя, принесшего к нему в камеру еду: «Не взяты ли за караул в крепость дьяк Иван Климонтов и Никон Волков?» — как оба эти человека были тотчас арестованы и их стали допрашивать о связях с преступником (325-1, 151). Естественно, что пытки арестованных заставляли их оговаривать все новых и новых людей, подчас случайных, вообще не причастных к делу. При этом не исключаю, что подследственные кого-то оговаривали по настоянию или намекам следователей.
Если речь шла о каком-то слухе, «непристойном слове», то «достичь самого кореня» означало выявить всю «цепочку» сплетников, выйти на того «причинного» человека, который пустил слух. В 1732 г. допрашивали упомянутых выше торговок Татьяну Николаеву и Акулину Иванову, которые болтали что-то «непристойное» о связи императрицы Анны и Бирона. В указе о расследовании этого дела в Тайной канцелярии сказано: как только «помянутая вдова Акулина покажет, что она те непристойные слова говорила, слыша от других кого, то и тех велеть сыскать же в самой скорости и роспрашивать, и давать с тою жонкою Акулиною очные ставки и буде… учнут запиратца, то, как оной жонкою Акулиною, так и теми людьми… велеть розыскивать в немедленном времени» (42-1, 114).
Выше упоминалось также трагикомичное дело 1735 г. о псалме В.К. Тредиаковского, в котором встретилось подозрительное слово «Императрикс». Его увидел в рукописной копии псалма пищик Костромской духовной канцелярии Семен Косогоров и в мае 1735 г. донес куда надлежало. Копию составил поп Алексей Васильев, он был тотчас арестован и в допросе сообщил, что псалом он получил от дьякона из Нерехты Ивана Васильева. Васильева сразу же «взяли». На допросе выяснилось, что подлинника стихотворения он также не видел, а имел на руках только его копию. Получил же ее он от свояка Козьмы Никитина из села Воскресенья Костромского уезда. Схваченный нарочным солдатом Козьма показал, что псалом (тоже в копии) он взял у владельца печатного текста Андрея Гаврилова— знакомого дьякона из Ярославля. Так следователи вышли на владельца печатного подлинника. Между тем книга со стихотворением продавалась неподалеку от Тайной канцелярии — в книжной лавке Академии наук на Васильевском острове.
Несомненно, следователи Тайной канцелярии арестовали бы еще немало людей и в конце концов вытащили бы всю цепочку, которая кончалась бы поэтом Василием Кирилловичем Тредиаковским, но их ради собственного спасения опередил умный дьякон Иван Васильев. Как только его взяли «под караул для отсылки в Москву», он тотчас послал в Ярославль к дьякону Гаврилову своего шурина, «чтоб он у онаго дьякона выпросил помянутую песнь печатную». Гаврилов, вероятно, без сожалений, отдал опасную книжку. Шурин Васильева доставил ее в Кострому для приобщения к делу. Московская контора Тайной канцелярии, куда привезли колодников, списалась с Петербургом, генерал А.И. Ушаков потребовал, как сказано выше, объяснений по поводу «Императрикс» от самого Тредиаковского и был ответом вполне удовлетворен. В итоге не прошло и полугода, как в октябре 1735 г. костромские доносчики — любители поэзии даже без порки вышли на свободу (258, 1-10).
Секретарь А.П. Волынского Василий Гладков обвинялся в том, что пересказывал слух о том, будто Бирон на коленях просил Анну Ивановну подвергнуть опале строптивого кабинет-министра. На допросах Гладков сослался на некоего Смирнова, тот показал, что слышал об этом от архитектора Бланка, Бланк сослался на Арландера, но в очной ставке «сговорил» с него вину. Так веревочка оборвалась на Бланке, и это ему обошлось весьма дорого: как и Смирнова, Бланка нещадно били плетьми, а потом с женой и детьми сослали в Тобольск «на вечное житье» (304, 167).
В 1746 г. подьячий Петр Максимов донес на Ивана Анофриева, что тот переписывал некое «салтанское письмо» к австрийскому императору Леопольду. Захваченное у Анофриева письмо было совершенно бессмысленным высокопарным писанием, в котором нельзя было усмотреть и намека на политическое преступление. Но в Тайной канцелярии взялись распутывать цепочку, по которой передавалось письмо, и остановились лишь на седьмом(!) ее «звене» — на ямщике, который сказал, что получил его в Романове от «неведомого человека». Приметы этого человека ямщик указал маловразумительно и был, как и другие подследственные по этому делу, наказан батогами нещадно, «чтоб впредь они таких недельных писем при себе не имели» (322, 164–166).
Вообще же, положение «крайнего» в цепочке сплетников оказывалось самым тяжелым — ведь его подозревали в авторстве «зловредного эха». Объяснения такого человека, что слух этот пришел к нему от случайных, незнакомых людей на базаре, от попутчиков в дороге и т. д., политический сыск обычно не принимал. Драгуна Никиту Симонова пытали дважды «из подлинной правды» и при этом спрашивали «накрепко»: «Непристойные слова (в говорении которых его обвиняли. — Е.А.) подлинно ль он слышал от прохожих дву[х] человек или от других кого, и, слыша оные слова, для чего техлюдей не одержал (т. е. не задержал. — Е.А.) или оные слова вымышленно от себя затеяв, говорил» (42-5, 162). В 1772 г. Екатерина II потребовала от Волконского расследовать беспокоившие ее «враки»: «Прикажите по исследовании от человека к человеку, кто от кого слышал, добраться до выдумщика и того уже, по мере его вины, велите наказать публично» (554, 94).
Движение политического сыска «по цепочке» информаторов напоминало древнюю практику так называемого «свода», когда с вещью, которую считали краденой, ходили от покупателя к продавцу. Так продолжалось до тех пор, пока не добирались до человека, который не мог указать на продавца. Тогда на него падало подозрение в краже этой веши (677, 598). Однако в делах о «непристойных словах» найти конца «цепочки» никогда не удавалось, как и в позднейшее время не удавалось обнаружить авторов антиправительственных анекдотов, это было одним из ярчайших выражений vox populus. Поэтому следователям волей-неволей приходилось обрывать «цепочку сплетников». Иначе они рисковали навечно затянуть дело или арестовать полстраны. Сыск формально удовлетворялся теми объяснениями, которые давали подследственные: «Слышал от прохожего человека, а кто он — не ведаю», или «Слышал от вышеписанных двух человек, а где их сыскать — не знает», или «Слышал от разных неизвестных людей»; «Слышал от проезжих крестьян»; «Слышал он в народной молве», «Слышал в народной молве, а от кого — не знает» (88, 249; 8–1, 146–147, 307 об., 357, 360).
Почти в каждом политическом деле мы найдем объяснения раскаявшимся преступником причин совершенного им преступления. После пыток нераскаявшихся подследственных, как правило, не оставалось. Исключением являлись только те из них, которые умирали во время следствия. Когда же преступник «винился», то объяснения причин преступления в записи сыска были настолько однотипны, клишированны, что это наводит на мысль о большой «редакторской» работе следователей с показаниями подследственных. Отчетливо выделяются семь типов штампов-объяснений, которые давали те люди, кто говорил «непристойные слова» о государе или обвинялся в произнесении ложного «Слова и дела» (см. 8, 42, 44, 53, 66, 88).
Тип 1. «Те слова он затеял, умысля собой», «Затеял слова напрасно, вымысля собою», «Вымысля от себя», «Поклепал напрасно, собою», «Затеял собой, напрасно»; «Затеял, выдумав собою, ложно». Такое объяснение предполагало отсутствие сообщников, позволяло избежать обвинения в «скопе», вопросов о том, «кто его научал и с кем он имел в том согласие?».
Тип 2. «Говорил он собою, спьяна», «Говорил в шумстве», «сказывал во пьянстве», «Сказывал в пьянстве», «Говорил он пьяной», «Говорил он во пьянстве с проста»; «Говорил он собою во пьянстве, с проста»; «Говорил во пьянстве, а не с умыслу», «Затеял собой в пьянстве». В дополнение к этому типу довольно часто пояснялось: «Непристойные бранные слова в том своем пьянстве он… и говорил, токмо у трезвого в мысли у него не было» или «Был пьян и незнаемо к чему говорил», «Говорил за пьянством, не упомнит».
Особенно часты были ссылки на чрезмерность, неумеренность пьянства, ставшего причиной «непристойных слов»: «Говорил (или «затеял». — Е А) с безмерного пьянства», «Говорил в безмерном своем пьянстве и в беспамятстве»; «То все чинил ли того, за безмерным своим пьянством, не упомнит»; «Поклепал напрасно от многова своего пьянства». Каменщик Иван Лябзин в 1732 г. обвинялся в кричании ложного «Слова и дела». На следствии он говорил, что пьет он недели по две-три запоем и «случается с ним страх и безумство», от чего он и «кричал неведомо зачем Слою и дело» (42-1, 116).
Это было одно из самых распространенных объяснений: был пьян, и что говорил — не помню! Установить, что произошло на самом деле, оказывалось практически невозможно. Лишь в одном случае можно утверждать, что ссылка на пьяное состояние была явной отговоркой. Выше упоминалось дело Ивана Павлова, который в 1737 г. добровольно отдался в руки следователей политического сыска, чтобы пострадать «за старую веру». По дороге в Преображенское, иначе говоря — на смерть, его провожали жена Ульяна и брат Василий. После этих, в сущности, похоронных проводов Ульяна пришла к своей родственнице Марфе, все ей рассказала, и обе женщины тогда плакали. На следствии, куда их взяли как свидетельниц, Ульяна и Марфа объясняли эти слезы якобы вовсе не жалостью к шедшему на смерть Ивану, а тем, «что плакали с пьяна». Это, судя по делу, было явной ложью во спасение (710, 717).
Объяснение, которое в 1721 г. дал в Тайной канцелярии Петр Раев («Непотребные слова говорил ли — то не помнит, понеже весьма был шумен, и утверждался в том даже до смерти» — 664, 24), было, возможно, чистой правдой, но никак не могло удовлетворить следствие, так как не было равноценно признанию преступником своей вины. Кроме того, следователи смотрели на пьянство не как на причину преступления, а как отягчающее его обстоятельство. Об этом говорилось в указе 1733 г. о ложных изветчиках; они подлежат наказанию, несмотря на отговорки, «что об оном показывали они простотою и с пьянства» (504,114).
Впрочем, не следует преувеличивать значения этого указа. Это был не первый указ такого рода. В указе 30 января 1727 г. пьяным болтунам обещали «за те их вины, несмотря на такие их отговорки, учинена будет смертная казнь без пощады» (633-63, 75–76). Однако против таких суровых решений о человеке под хмельком восставали традиции русской жизни, и они подчас оказывались сильнее даже ужасов застенка. В конечном счете политический сыск, при всей его суровости, не мог игнорировать пьяное состояние как оправдывающий человека фактор. В Тайной канцелярии понимали, что если поступать жестоко с пьяницами, то можно обезлюдить всю русскую землю — ведь, кажется, не было ни одного застолья, где бы не говорили о политике. К тому же долго сохранялась инерция римского права, в котором пьяное состояние человека не трактовалось как обстоятельство, отягчающее преступление. Авторы Уложения 1649 г. еще лояльно относились к пьянству и рассматривали его как смягчающее вину преступника обстоятельство. О том же свидетельствуют и повальные обыски, которые проводили власти, чтобы убедиться, действительно ли обвиненный в говорении «неспристойных слов», как он показывает, горький пьяница (вспомним дело псковитянина Скунилы).
Тут очень важен один нюанс. Свидетели могли подтвердить, что преступник был или «безмерно пьян» (варианты: «Весьма пьян», «Пьян без памяти», «В безмерном пьянстве, не помнит»), или что он был пьян, «но в силе» (или «хотя и пьян, но в памяти» — 42-5, 18 об.). В первом случае это означало, что пьяница действительно не помнил, что говорил. Под влиянием выпитого он находился в состоянии временного идиотизма и тем самым не нес всей полноты ответственности за сказанное. Поэтому участь его следовало облегчить. Так, в 1722 г. Тайная канцелярия постановила бить батогами новгородского помещика Харламова, который сказал «непристойные слова» в застолье, в пьяном вице. В своем признании написал, что ничего не помнит — был «весьма пьян». Свидетели подтвердили, что Харламов в этот момент был действительно сильно пьян и «в пьянстве бранился и означенные слова говорил». «Того ради, — постановил сыск, — ему оное наказание и учинить, дабы впредь, хотя и в пьянстве, таких непристойных слов не говорил» (32, 7).
Елецкий же однодворец Иван Клыков, на которого в 1729 г. донес отец и назвал четырех свидетелей, пытался объяснить следователям, что своей матерной брани об императоре Петре II не помнит «за пьянством… и в безумстве». Однако отец погубил сына тем, что утверждал на следствии: «В то время как тот ево сын те непристойные слова говорил, был пьян, только в силе и в целом уме и не в безумстве». Свидетели подтвердили показания изветчика. Ивана Клыкова били кнутом и сослали в Сибирь (8–1, 375 об.). В 1728 г. дьячок Алексей Попов сказал непристойность о государе. Потом он сказал, что «говорил ли те слова за пьянством не помнит», однако свидетели показали: «Ив то-де время оной дьячок был пьян, токмо в силе». Итог для Попова печален: кнут, Сибирь (8–1, 342 об.). Словом, страсть, стойкая приверженность Бахусу если и не оправдывала преступника, то смягчала его наказание. В 1728 г. ямской сын Кошелков донес на расстригу Аверкия Федорова, что тот «учил ево, Кошелкова отрицаться от Бога и признавать дьяволов». Федоров чудом спасся от костра тем, что на следствии показал: «Говорил [все это]он в пьянстве обманом, чтоб он ево поил вином, а волшебства он не знал». Объяснение это показалось следствию убедительным (8–1, 137).
Весь набор оговорок, особых штампов, которыми протрезвевший человек пояснял происшедшее, наиболее полно выражен в экстракте по делу сержанта Алексея Ерославова. Этими оговорками пропойца как бы отгораживался от плахи: «А в роспросе, також и в застенке с подъему он, Ерославов, показал, что-де ничего не помнит, что был безмерно пьян и трезвой-де ни от кого о том не слыхал, и злого умыслу никакова за собою и за другими не показал, и об оном ево безмерном в то время пьянстве по свидетельству явилось». Тайная канцелярия дала следующее заключение: «Хотя подлежателен был розыскам, а потом и жестокому наказанию кнутом, но вместо того, за безмерным тогда ево пьянством и что он молод — гонять спиц-рутен и написать в салдаты» (8–2, 36). При этом несчастному пьянице нужно было добиться симпатии следствия простодушным раскаянием, в то время как всякое угрюмое «запирательство», защита неких своих прав только ухудшали его участь.
Тип 3: «Те слова говорил он обмолвясь». Такое объяснение говорило, что «непристойные слова» у человека сорвались случайно, спонтанно, как ругательство при неловком движении на скользкой лестнице. Когда человек их произносил, как бы подразумевалось, что у него, конечно, не было никаких сообщников, как и определенной антигосударственной цели. Пояснял ложный донос человек еще и тем, что «сказал показанные им непристойные слова на того Конева… ослышкою», «Говорил спроста, не вслушався»; «Своим пьянством от косности языка, не выговоря того молвил»; «Говорил… простотою своею, невыразумя от горести своей».
Тип 4. «О том о всем затеял он собою напрасно по злобе»; «Вымысля собою по злобе»; «Затеял напрасно, вымысля собою за злобу»; «Затеял собою по злобе»; «Затеял ложно собою за злобы». Тем самым как бы подчеркивалась «напрасность», заведомая, неосознанная бессмысленность и соответственно — непреднамеренность действий, отсутствие замысла и согласия с кем-либо в антигосударственном поступке. Ссылка на «злобу» как скверную, но врожденную черту характера подкрепляла общее «безсознательное» объяснение причины преступления.
Тип 5. В ходу были и ссылки на неграмотность, незнание законов: «Говорил от незнания»; «Сказывалто, не ведая»; «Говорил простотою своею»; «Говорила с самой простоты своей»; «Затеял собою второпях, в беспамятстве, простотою, от безумия своего, а не из злобы и не к поношению какому», «Говорил он пьяной спроста без всякого умыслу (умыш-ления, мысли)»; «Говорил з глупа и с проста»; «Говорил собой спроста, а не из злобы»; «Говорил спроста, а не для какова разглашения»; «Сказал… с сущей простоты».
Тип 6. Нередки были и ссылки на собственное скудоумие, «головную болезнь», расстроенную психику, сумасшествие: «Говорил в забытии ума своего»; «Говорил не в своем уме»; «Говорил, забыв своего разума в черной немощи»; «В уме забывается»; «Говорил во иступлении ума»; «Затеял о том, будучи в падучей болезни и в беспамятстве»; «А с чего-де в мысль его об оном говорить пришло, о том-де и сам он не ведает»; «Говорил беспамятством и дуростью». Весь «набор» объяснений такого рода мы встречаем в деле крестьянина Никиты Антонова в 1732 г.; «Говорил он спроста, издеваючись, для смеху, з глупа, от недознания» (42-1, 59). Матрос Семен Соколов, обсуждавший жизнь Екатерины I (он сказал: «Матушка наша… чаю-де и она не на сухих досках лежит… как-де поест сладкова и изопьет хмельнова, захочет-де и другова»), утверждал, что говорил все это «з глупа и спроста» (8–1, 309 ов.). Естественно, что напрашивался вывод: «Что же можно спрашивать с дурака? Выпороть его да выпустить!». В приговоре 1776 г. о крестьянине Венедикте Журавлеве, сказавшем «непристойные слова», собственно, так и сказано: «От обыкновенной простой и по состоянию его приличной глупости мыслей, и во истребление их вовсе» — дать плетей и выпустить на волю (809, 173).
Вообще, привычной формой защиты была поза самоуничижения, столь привычная рабу вообще и государеву холопу в частности. Артемий Волынский оправдывался, что говорил и писал свой признанный преступным проект государственных реформ «в горести и в горячности и по ссоре», но более упирал на свою «глупость» и сожалел, что прогневил государыню «высокоумием своим», думал, что «писать горазд» (3, 29 об., 210, 66).
Наконец, одно из самых распространенных объяснений, характерных для кричавших «Слово и дело» людей, относится к Типу 7: «О том о всем затеял собою, избывая розыску»; «Он кричал для того мыслил, чтоб тем криком отбыть розыску, а никто ею кричать не научал»; «Затеял напрасно, убоясь в… воровствах своих розыску»; «Говорил оно, испужався розыску второпях»; «Показал было о том о всем неопамятовався, второпях и убоясь себе истязания»; «Непоказал, боясь себе за означенную свою в словах продерзость наказания»; «Сказывал, нестерпя побои». Другим вариантом было объяснение: «Затеял собою, отбывая наказанья», «А показал-де он то, избывая каторжной работы». Объяснения человека, что страх перед сыскным ведомством с его пытками есть причина оговоров, молчания и т. д., были весьма распространенными. И следователи сыска этому, не без оснований, верили: все подданные действительно страшно боялись их ведомства.
Добиться подтверждения прежних, данных в «роспросе» показаний, получить новые признания подследственного, ввести все это в систему указанных «типов» признаний и составляло главную цель розыска в пыточной камере. Здесь применяли самые разнообразные способы физического воздействия, избежать которых попавшему в застенок человеку было практически невозможно. К 1760-м гг. пытки утратили прежнюю средневековую свирепость, хотя взгляд на физические мучения как на вернейший способ добиться истины (или нужных показаний, что в сыске понимали как синонимы) не стал старомодным, не был признан порочным ни во второй половине XVIII в., ни позже. На смену жутким пыткам огнем пришла обыкновенная порка и другие, часто скрытые, вероятно смехотворные для людей типа Ф.Ю. Ромодановского, методы достижения нужного следственного результата Словом, в том или ином виде пытка сохранялась в русской истории, без нее политический сыск всегда был как без рук.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК