Глава 1. Катастрофа. Кто делал и кто не делал революции
Глава 1. Катастрофа. Кто делал и кто не делал революции
Сбылась бессмысленная мечта террористов.
А. и Б. Стругацкие
Если кто погубит Россию, то это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы.
Ф. М. Достоевский
Как?
К началу 1917 г. революции в России хотят все — чуть ли не члены самой императорской фамилии. Конечно же, не массового смертоубийства и уж тем более не советской власти. но конца царизма — хотят. Армия просто не может оказаться в стороне от событий. И не оказывается.
Волею неисповедимой исторической судьбы основную роль в революциях 1917 г. сыграли матросы Балтийского флота и части Петроградского гарнизона. Потому что накапливались в столице или поблизости? И поэтому тоже, но не только. После Моонзундского сражения 1915 г. Балтфлот почти не участвовали в боевых действиях, стоял грозной защитой Петрограда. Кстати, противник за всю войну ни разу даже не сунулся к Питеру. Видимо, защита все же была и вправду грозная.
Матросы получали не очень плохое довольствие, в увольнительные ходили часто и не в худшие места: городки Прибалтики, Кронштадт, Петербург. Но не воевали. У этих людей был не очень высокий образовательный уровень, но много возможностей читать агитационную литературу любых партий. Особенно много среди них было сторонников анархистов и левых эсеров. Злые языки говаривали, что в анархистах их привлекает идея безвластия, а у эсеров — идея терактов.
Части Петроградского гарнизона, до 120 000 человек, не сменялись по крайней мере год. Что произошло? Набрали крестьянских парней в армию, поставили в теплых казармах с приличным пайком и к тому же в столице. Петербург они видели бы разве в кино да на картинке, а теперь вот могли гулять по улицам Питера довольно часто — отпускали их раз в неделю.
Естественно, солдатики совершенно не намеревались менять эту безопасную, спокойную жизнь на кромешный ад обстрелов и атак на фронте. А проклятые царские сатрапы стали планировать перевести их на фронт! Сразу стало окончательно ясно: Россией управляют враги народа и эксплуататоры, пора делать революцию!
А тут еще наложилось событие такое же «важное»: в булочных возникли перебои со свежими белыми булками. О «нехватках хлеба» как причине февральской революции в СССР писалось очень много. В фильмах производства 1936 г. вообще показано, как жители Петрограда валяются на улицах, умирая от голода: по карточкам дают полфунта хлеба. (то есть двести двадцать пять граммов), потом четверть фунта… осьмушку… Вот и лежат на улицах умирающие.
По сему поводу должен сообщить всем читавшим, учившимся и смотревшим: никакой нехватки хлеба не было. Вообще. Не было даже нехватки белых булок — так называемых французских. Как продавались они в каждой булочной, так и продолжали; как стоили пятак, так и продолжали.
Единственное, что произошло: два дня подряд привозили мало белой муки. Не совсем ее не стало, а меньше прежнего, и притом не навсегда, а временно; чуть меньше обычного — и только. В результате французские булки продавались (о, ужас!) вчерашние, чуть ли не черствые. Серьезная причина для революции.
Нет-нет! Разумеется, причина не во французских булках, даже не в плохом подвозе пшеничной муки. Дело в том, что в стране сложилась революционная ситуация. Вождь мирового пролетариата, Владимир Ульянов, так определял ее: «Когда верхи не могут управлять по-старому, когда низы не желают жить по-старому».{185}
Сказано хорошо, но несколько неопределенно. Действительно: почему верхи вдруг уже не могут управлять по-старому, а низы не желают по-старому жить? Почему именно в этот момент?
Самая распространенная точка зрения: «усиливаются, больше обычного, страдания и лишения широких народных масс».{186} Эта точка зрения была в СССР традиционной; она хорошо объясняла, как правильно и вовремя большевики делали революцию. Однако она принципиально и полностью неверна.
В 1789 г. французские простолюдины были самыми богатыми простолюдинами в Европе. А парижские лавочники — самыми богатыми простолюдинами во Франции. Тем не менее, именно они-то и начали Французскую революцию, которую у меня не достанет душевных сил назвать «великой».
Так же точно в 1917 г. российское простонародье уж по крайней мере не голодало. Подданный Российской империи 1917 г. даже в условиях войны жил лучше, чем в 1907-м, а тем более — в 1897 г. И тем не менее.
В чем же дело?
В том, что у революций есть своя закономерность, свой спусковой крючок. Они происходят там и тогда, когда соблюдается важнейшее психологическое условие: люди живут все лучше и лучше, ждут дальнейшего улучшения — а их ожидания не сбываются. Об этом тоже написано не раз, но — увы! — не для массового читателя.{187}
XIX столетие стало веком сплошных революций потому, что было временем стремительного улучшения жизни. В XVII–XVIII вв. люди обитали в мире, где каждое поколение живло примерно так же, как предки. Люди XIX века привыкли, что год от года, буквально на глазах, жить становится все интереснее, удобнее, приятнее, безопаснее. Если на пути этих непрерывных улучшений возникала остановка — она воспринималась как чудовищная несправедливость, в которой обязательно кто-то персонально виновен.
Российская империя начала XX века изменялась с невероятной скоростью. Мало рукотворных чудес науки и техники: с 1905 г. в стране появился какой-никакой, но парламент — Государственная дума. Все подданные были уравнены — хотя бы формально; крестьяне перестали быть сословием неравноправным. В прессе свободно обсуждалось то, что было под запретом десятилетия и века.
Люди ждали, что дальше будет только лучше: богаче, справедливее, свободнее. А тут война. Естественно, во время войны и материальные условия жизни ухудшаются, и быт солдата в самой комфортабельной казарме хуже, чем дома. Не говоря об ограничениях свободы (еще раз скажу — до чего же прав был Столыпин!).
Конечно, ухудшение условий жизни можно пережить и без бунтов да революций — если видеть в этих ухудшениях смысл и доверять своему правительству. Но правительству в Российской империи давно и никто не доверял, а смысла в войне не видели по крайней мере 70 % населения, в том числе 90 % участвовавших в войне солдат.
Конечно, революции в конце концов грянули и в других странах Европы — но позже, чем в России и чаще всего — под влиянием событий в России. Это произошло потому, что в России слишком долго не проводили необходимых изменений. В России меньше верили правительству. В России революционная пропаганда больше действовала на людей. В России слишком многие жили вне цивилизации.
Стали черствыми французские булки? А чем этот предлог хуже другого?
В декабре 1916-го — январе 1917 гг. бастовали и «протестовали» до 700 000 человек по всей России, особенно в Москве и Петрограде.
23 февраля 1917 г. на улицах Петрограда появляются взволнованные толпы. Выкрикиваются лозунги: «Долой!», «Конец войне!» и «Свергнем царское правительство!». То есть люди выбрасывают политические лозунги, а вовсе не требуют свежих французских булок.
Этим пользуются агитаторы. Родственники (которых, увы, уже нет на этом свете) рассказывали мне, как, несмотря на строгие запреты, бегали «смотреть революцию». Как конные казаки пытались преградить дорогу толпе, прущей к Зимнему дворцу, как агитаторы с красными бантами, присев от напряжения, обеими руками наводили револьверные стволы на казаков. Выстрелы, огонь, страшный крик толпы, скачущие всадники, блеск обнаженных сабель, кровь на мостовой, Любители такого рода зрелищ могут радоваться.
Ситуация выходит из-под контроля стремительно. Население Петрограда не хочет подчиняться правительству — и не подчиняется, хоть ты тресни!
Солдаты гарнизона? Они не мешают восставшим толпам, они сочувственно слушают. Не все они такие уж страшные враги царизма, тем более — не все убежденные эсеры и коммунисты, но ведь на фронт не хочется никому, 27 февраля к восстанию примкнуло до 70 000 солдат Петроградского гарнизона. Они захватывают Арсенал, раздают восставшим рабочим до 40 000 винтовок.
Еще 25 февраля командующий Петроградским военным округом генерал-лейтенант Сергей Семенович Хабалов (1858–1924) получил грозный царский приказ: «Завтра же прекратить в столице беспорядки». 26 февраля он, опираясь на снятые с фронта «надежные» войска, рапортовал: «Сегодня, 26 февраля, с утра в городе спокойно». Вечером того же дня он приказывает стрелять в демонстрантов. Убито больше сорока человек. А 28 февраля Хабалова уже арестовывают — «надежные» войска переходят на сторону восставших, а немногих оставшихся верными правительству разоружают.
Так «произошло то, что обычно называют революцией, но что не было ею. Революция началась после падения монархии, а самодержавие самосильно рассыпалось во прах».{188} Говоря попросту, «…стихийно обрушилась, словно источенный термитами деревянный дом, внешне могучая империя наша…».{189}
Кто «готовил революцию»?
Что характерно: никто не ожидал такого поворота событий. Никто не готовил падения «источенного термитами дома».
— Это что, бунт?! — вскричал Николай II 23 февраля 1917 г.
— Нет, ваше величество, это революция, — почтительно ответили ему.
Придворные хотя бы поняли, что это начало революции. Вот большевики были куда менее проницательны.
Буквально за два месяца до Февральской революции Ленин встречается со швейцарскими социал-демократами. Слова его вроде и оптимистичны, но скорее в отдаленной перспективе: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции».{190}


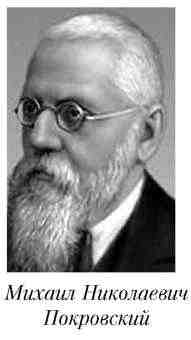
«Накануне революции большевики были в десяти верстах от вооруженного восстания», — полагал историк-большевик Михаил Николаевич Покровский (1868–1932), а уж он-то многое знал и очень обо многом мог судить.
Так же не готовы к событиям и другие партии:
— Что за дурацкий бунт?! Нет и не может быть никакого бунта, — поморщился лидер кадетов Милюков, когда ему доложили о событиях 23 февраля 1917 г.
«Нет и не будет никакой революции, движение в войсках идет на убыль, и надо готовиться к долгому периоду реакции», — говорил другой кадет, Петр Петрович Юренев, 25 февраля 1917 г. (в июле-августе он станет министром путей сообщения во Временном правительстве).
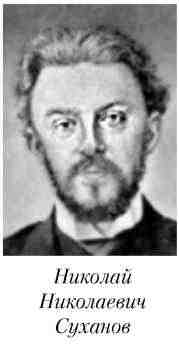

«Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими», — признавался эсер (и писатель) Сергей Дмитриевич Масловский-Мстиславский (1876–1943).
«Революция ударила как гром с неба и застала существующие общественные организации врасплох», — это слова еще одного эсера, Владимира Михайловича Зензинова (1880–1953).
— Не иначе, жиды придумали, — пожимал плечами князь Михаил Осипович Меньшиков (1859–1918), крайний националист и антисемит (действительно — куда же без «жидов» в государстве российском).
В общем, «ни одна партия не готовилась к перевороту… То, что началось в Питере 23 февраля, почти никто не принял за начало революции», — признавался меньшевик, экономист и публицист Николай Николаевич Суханов (настоящая фамилия Гиммер; 1882–1940).
И даже когда стало понятно, что это революция, а не случайный кратковременный бунт, события оставались грозно-непонятными даже для самых активных участников. «На нас несется вал, который, если мы с ним не справимся, — всех нас сметет», — произнес кадет Павел Николаевич Милюков (1859–1943), принимая Министерство иностранных дел в 1917 г.
О революции много говорили все предшествующие годы, но когда она грянула — к ней оказались совершенно не готовы. Никто.
Потом победители в Гражданской войне начнут рассказывать, как они планировали события, как вели агитацию в массах и как у них все получилось. Как «революционная инициатива масс была подхвачена большевиками».{191} Но это будет поздняя и не очень умная попытка привязать себя к уже произошедшему.
Кто был защитником империи
У Февральской революции 1917 г. не было организатора. У начавшего заваливаться строя не оказалось защитников.
27 февраля начались первые забастовки. К 1 марта прошли уже массовые забастовки и демонстрации, участвовало до 128 000 человек. Казаки хранили нейтралитет и не стали разгонять толпу. Взбунтовалась рота лейб-гвардии Волынского полка; части, верные и не верные правительству, вяло перестреливались через Неву.
Ширина Невы между стрелкой Васильевского острова и Троицким мостом — около 900 м. Расстояние убойного выстрела из винтовки — 1700 метров; прицельного — 500–800 м. Значит, стрельба была чисто бутафорская — палили в белый свет, как в копеечку; то ли показывали начальству рвение, то ли просто хотелось пострелять.
Еще многое можно сделать — но тем, кто делает, отчаянно мешают, в том числе члены царской семьи. Вот командир гвардии Преображенского полка полковник (впоследствии — генерал от инфантерии, один из лидеров Белого движения) Александр Павлович Кутепов (1882–1930) с двумя тысячами людей, при двенадцати орудиях и с большим количеством пулеметов занял Зимний. И тогда великий князь Михаил Александрович потребовал немедленно «очистить» дворец — ведь если начнется бой, могут пострадать культурные ценности, Отряд Кутепова перешел в Адмиралтейство, но морской министр — герой-артурец, генерал-адъютант, адмирал Иван Константинович Григорович (1853–1930) — умолял его удалиться, потому что тоже боялся боя и штурма: могла пострадать его квартира. Кутепов хотел утвердиться в Петропавловской крепости, Но военный министр, генерал от инфантерии Михаил Алексеевич Беляев (1863–1918), плача навзрыд, приказал отряду разойтись.
Именно так «пали последние бастионы царизма: Петропавловская крепость, Зимний дворец».{192} Под рыдания царских министров и великих князей.
Конечно, в окрестностях Петрограда еще много войск, в том числе верных правительству! Но «попытка царя организовать карательную экспедицию во главе с генералом Н. И. Ивановым потерпела крах».{193}
Официальный советский справочник не хочет сообщить подробностей. Но у нас нет причин не сделать этого. Генерал-адъютант, генерал от артиллерии Николай Иудович Иванов (1851–1919), очень близкий к семье царя человек (Николай II считал его своим личным другом). 27 февраля император назначил его главнокомандующим войсками Петроградского военного округа с чрезвычайными полномочиями и с подчинением ему всех министров. 28 февраля Иванов с эшелоном Георгиевского батальона выехал из ставки в Могилеве в Царское Село для охраны монаршей семьи: царица сидела у постели заболевших великих княжон и цесаревича. В ночь на 2 марта навстречу Иванову на станцию Вырица прибыл командированный начальником Генерального штаба, генерал-майором Занкевичем, полковник Доманевский, доложивший ему обстановку в Петрограде — прошли слухи, что толпа собирается напасть на дворец. Узнав об этом, Иванов отказался от активных действий и 3 марта отправился назад в Могилёв. Так «друг» царя, генерал Иванов защищал семью своего государя, которому присягал.
В окрестностях Петрограда стояли два учебных пулеметных полка — 20 000 человек, подготовлявших пулеметные команды для действующей армии. Узнав о событиях в столице, генералы повели своих людей не в город, а подальше от него, чтобы «в случае чего» их не бросили на усмирение взбунтовавшихся.



Как объяснить поступки министров и генералов, которые не хотят подавлять революцию — боятся за полотна Сезанна или, того лучше, за сохранность собственной квартиры? Как назвать генерала Иванова? Что это: трусость? зоологический эгоизм? патологическая тупость? Во всяком случае, было так — при первых же сполохах революции, первые лица государства проявили полный паралич воли.
Могу предложить одно объяснение: все эти лица попросту не знали, за что им воевать. Получается, вести военные действия попросту не за что. И не за кого — это сегодня царя и царскую семью начали судорожно любить. Но в начале XX века никто не проявлял особенно верноподданнических чувств. Все знали, что великие князья — никакие не патриоты, что они воры и презирают свой народ да и самих себя (а что — вор и подонок может уважать себя? каким образом?). Все знали, что царскую власть не уважает никто, что даже рьяные монархисты хотели бы на престоле другой династии.
Этот фон делал защиту рушащегося строя очень трудной.

Да и сам царь вел себя поразительно неуверенно. Много лет он категорически настаивал на том, что самодержавная неограниченная власть — это «завет предков» и «Божье предначертание». С упрямством, которого хватило бы на все поголовье ослов Российской империи, он не хотел поступиться даже самой ничтожной толикой власти. Но едва его трон стал валиться всерьез — он даже не попробовал его удержать, не стал бороться за этот самый «завет предков». С «окаменелым нечувствием» подписывал этот человек одно отречение за другим, «сдавал Россию, будто эскадрон сдавал».{194}
Почему? События вышли из-под контроля, и он, слабый человек, пошатнулся? Или в глубине души и он, по обязанности сопротивляясь изо всех сил, не имел ничего простив революции? В конце концов, ведь царей воспитывали на тех же образцах, включая братьев Гракхов и «героев Французской революции».
А тут еще ближайшие к Николаю II генералы, члены его свиты заявляют: надо отречься от престола. Ждут отречения. Особенно сильное впечатление на императора произвел переход его личного конвоя на сторону восставших.
28 февраля Николай II утратил связь со Ставкой, а проехать в Царское село не смог. 1 марта он прибыл во Псков, где находился штаб главнокомандующего армиями Северного фронта генерал-адъютанта, генерала от инфантерии Николая Владимировича Рузского (1854–1919). Полная неопределенность, и все окружение — за отречение.
2 марта около 15 часов он отрекается от престола в пользу сына, при регентстве великого князя Михаила Александровича. К вечеру приезжают делегаты Государственной думы — член Государственного совета Александр Иванович Гучков (1862–1936) и националист и монархист (!) Василий Витальевич Шульгин (1878–1976). При них царь пишет еще одно отречение, за себя и а сына.
Само по себе отречение было совершенно незаконным: император отрекался от престола от своего имени и от имени цесаревича Алексея не в пользу Государственной думы или народа, а в пользу брата Михаила.
Отречение вообще не предусмотрено Законом о престолонаследии. Сперва надо бы изменить закон, а потом уже и отрекаться, Но времени нет!
Согласно законам Российской империи, опекун, а именно таковым государь являлся по отношению к сыну, не мог отказаться за наследника от его прав до достижения им совершеннолетия. Не мог Николай II отречься от имени сына, не попирая законов своего же собственного государства.
Более того. Никакого Манифеста от отречении не было. В мартовских газетах 1917 г. был опубликован Манифест, начинавшийся словами: «Мы, Божией Милостию Николай Второй…». Но это подлог. Николай II написал не Манифест, а телеграмму в Ставку — начальнику штаба, генерал-адъютанту, Генерального штаба генералу от инфантерии Михаилу Васильевичу Алексееву (впоследствии — создатель и Верховный руководитель Добровольческой армии, активный участник Белого движения; 1857–1918).
«Ставка
Начальнику Штаба.
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы и уже близок час, когда доблестная армия Наша совместно со славными Нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли МЫ долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и, в согласии с Государственною думою, признали МЫ за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с СЕБЯ Верховную Власть. Не желая расстаться с любимым Сыном НАШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем Его на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем Брату НАШЕМУ править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед Ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ, вместе с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России.
г. Псков
2-е марта 15 час.____мин. 1917 г.
Николай»
Незаконность отречения очевидна всем, однако оно всех устраивает.
Гучков и Шульгин просят Николая II подписать два последних указа: о назначении князя Георгия Евгеньевича Львова (Рюриковича, кстати, чей род подревнее Романовых будет; 1861–1925), члена Московского комитета партии «прогрессистов» (ранее, с 1905 г., состоял в партии кадетов) председателем Совета министров, а великого князя Николая Николаевича Младшего (1856–1929) — верховным главнокомандующим. Уже бывший (после отречения!) государь подписал указы, датировав 14-ю часами — то есть временем, когда императором еще был.
А 3 марта в Могилева Николай заявляет главе штаба генералу Алексееву:
— Я передумал. Прошу вас послать эту телеграмму в Петроград.
На листке бумаги отчетливым почерком государь собственноручно писал о согласии на вступление на престол сына своего Алексея.

Алексеев унес телеграмму и… не послал. Было слишком поздно: стране и армии объявили уже два манифеста. Телеграмму эту Алексеев, «„чтобы не смущать умы“, никому не показывал, держал в своем бумажнике и передал мне в конце мая, оставляя верховное командование».{195}
Опираясь на первое и единственно известное отречение, 3 марта Михаил Александрович в свою очередь отрекся от престола.
И не нашлось в многочисленном роду Романовых человека, который осмелился бы сказать: «Теперь престол мой». Никто не объявил себя царем, никто не поднял армию, чтобы самому взойти на престол.
Великий князь Кирилл Владимирович лично привел в Таврический дворец гвардейский экипаж императорской яхты «Штандарт», всегда стоявшей у Дворцовой набережной — присягать новому трон.
Присягнули Временному правительству великие князья Александр Михайлович, Борис Владимирович, Сергей Михайлович, Дмитрий Константинович, Николай Константинович, Гавриил Константинович и Игорь Константинович.
Генералы свиты его императорского величества украсили себя красными бантами «изрядной величины».
Может быть, сами великие князья, высшая аристократия Российской империи, не имели ничего против революции?
Все, конец. И «…вроде как глубокий вздох облегчения прошел по стране, когда строй так бесславно покончил с собой».{196}
Но ведь в стране есть армия! Есть же верные правительству гарнизоны! Есть еще силы задавить революцию в зародыше!
Да, есть. Но они придут в действие при условии, что будет для этого воля. Будет уверенность в смысле совершаемых действий. А этого нет ни у кого, Вернее, почти ни у кого.
В Москве жандармский полковник Мартынов предложил командующему войсками Московского военного округа, генералу от артиллерии Иосифу Ивановичу Мрозовскому (1857–1934) «в обстоятельствах, грозящих гибелью государству» взять власть в свои руки, объявить осаду взбунтовавшегося Петроградского гарнизона и присоединившихся к нему врагов Отечества. Он предлагал распустить и разоружить ненадежные части московского гарнизона, а надежных, придав юнкеров, полицию и кадетов, бросить на Петроград.
Генерал выслушал, но совершенно ничего не сделал. Собранные им военные слушали хмуро и, по словам Мартынова, «как-то апатично». Мартынову показалось, что «на деле они спасуют», Он оказался совершенно прав.
В итоге никто не поднял оружия, чтобы защитить историческую Россию. При советской власти Февральская революция как-то всегда оказывалась в тени, виделась только предшественницей для событий 26 октября 1917 г.
Но именно Февральская революция была рубежом: в одночасье рухнул политический строй, развивавшийся с раннего Средневековья. Сейчас трудно даже представить себе, каким колоссальным психологическим шоком оказалось отречение царя для великого множества людей. До сих пор во Франции показывают останки церквей, огаженных и разнесенных вдребезги прихожанами в 1790 г.: если король отрекся от престола, то и Бога нет! Стоит ли удивляться примерно таким же поступкам россиян? Они что, из другого теста?
Не в одном лишь «восстании масс», не в «смене строя» дело — наступила эпоха полного непонимания, что делать дальше. Время совершеннейшей растерянности. «Хай будэ республика — або цар був добрий».
К вопросу о «смене строя» — вот чего не было, того не было.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава 3. Кто делал революцию и зачем?
Глава 3. Кто делал революцию и зачем? Борцы с человечеством за идею. Д. Шидловский ПреамбулаСохранилось довольно много рассказов, в которых революционеры весьма откровенно повествуют, зачем и почему начали борьбу с окружающим миром. Истории довольно однообразные.Начать
«Он никогда не считал себя героем. Он просто честно делал свою работу…»
«Он никогда не считал себя героем. Он просто честно делал свою работу…» Эта книга о моем отце и его соратниках – представителях славной когорты нелегалов 1920–1930-х гг.: разведчиках, диверсантах, настоящих интеллектуалах. По происхождению, образованию, по возрасту и
ЧТО ДЕЛАЛ ПРИМАКОВ В СЕВЕРНОМ ИРАКЕ?
ЧТО ДЕЛАЛ ПРИМАКОВ В СЕВЕРНОМ ИРАКЕ? Многие годы курды были для Москвы борцами за правое дело. Курдские восстания приравнивались к национально-освободительному движению.В 1946 году в Советском Союзе нашел убежище лидер иракских курдов Мустафа Барзани — после того как
А ты что делал во время войны, Жан-Поль?
А ты что делал во время войны, Жан-Поль? Моральные конфликты в оккупированной Франции были находкой для французских писателей, и те из них, кто не утратил политической сознательности, немедленно взялись за перо, чтобы выразить протест нацистам. Группа писателей создала
Катастрофа в Москве и катастрофа при Клушине
Катастрофа в Москве и катастрофа при Клушине После освобождения Москвы от «тушинской» блокады в столице одни за другими шли торжества, пиры и т. д. В. Козляков отмечает, что Шуйский всячески ублажал «немцев», т. е. шведов, тогда как героизм своих считался делом само собой
ЧТО ДЕЛАЛ РОССИЙСКИЙ ЛОВЕЛАС В ПАРИЖЕ?
ЧТО ДЕЛАЛ РОССИЙСКИЙ ЛОВЕЛАС В ПАРИЖЕ? В России разведка была поставлена ничуть не хуже. До 1895 года, когда при генеральном штабе был учрежден Военно-ученый комитет, который вел военно-разведывательную работу против иностранных государств, при штабах существовали
«ДОБРА ДЕЛАЛ ОН МНОГО» Генерал-прокурор ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БЛУДОВ
«ДОБРА ДЕЛАЛ ОН МНОГО» Генерал-прокурор ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БЛУДОВ Граф Дмитрий Николаевич Блудов родился 5 апреля 1785 года в родовом имении Романово Владимирской губернии. Получив прекрасное домашнее образование (с ним занимались профессора Московского университета) и
Что делал в Литве Андрис Эйве?
Что делал в Литве Андрис Эйве? Как только ослабла государственная власть, тут же начал главенствовать приоритет местных законов над союзными. И сейчас же на национальных окраинах поднял голову сепаратизм, В Литве взлет активности «Саюдиса» странным образом совпал с
Евросоюз в Вильнюсе делал все, чтобы перекроить континент, как в Мюнхене 1933 года
Евросоюз в Вильнюсе делал все, чтобы перекроить континент, как в Мюнхене 1933 года В Вильнюсе на саммите Восточного партнерства ЕС разыгрывались драматичные события. Евросоюз при поддержке США делал там все, чтобы перекроить континент. В этом смысле Вильнюс 13-го мог стать
Сталин делал наступательные танки
Сталин делал наступательные танки Наконец, если Сталин оборонялся, почему же оружие, которое он делал, было наступательным? Вот, с легкой руки Виктора Суворова, есть прекрасный пример. Это пример танка ВТ, который, собственно, был танком на самом деле американского
Что делал Мардоний, оставшись в Греции
Что делал Мардоний, оставшись в Греции Оставшись в Греции, Мардоний отвел свои триста тысяч войска зимовать в Фессалию. Только хлебородная Фессалия могла прокормить этот люд. Брошенные греческими союзниками, фессалийцы принимали и кормили персов не за страх, а за
Что он делал в США?
Что он делал в США? Особенно таинственным выглядит его пребывание в США. Кому там был нужен молодой человек в потертых штанах из села Яновка? Оказалось, что нужен и очень могущественным людям. Как в свое время немецкие банкиры увидели в Гитлере того, кто сможет спасти их от
Сталин знал, что делал
Сталин знал, что делал До сих пор многие гадают, по какой причине Сталин уничтожил элиту Красной армии, когда мировая война была уже на носу, и он не мог не понимать, что эти репрессии сильно подрывают ее боеспособность. Однако перед лицом позорного разоблачения, как
Глава 5. Смерть. «Надеюсь, вы не будете меня затенять так, как это делал Столыпин»
Глава 5. Смерть. «Надеюсь, вы не будете меня затенять так, как это делал Столыпин» По разным данным, на жизнь Петра Аркадиевича Столыпина было совершено от 11 до 18 покушений, наиболее известное из которых произошло 12 августа 1906 года на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге.