Поэты и писатели
Поэты и писатели
Традиционно евреи играли заметную роль в русской культуре.
В 1891 году в Варшаве, в еврейской семье родился один из крупнейших поэтов серебряного века Осип Эмильевич Мандельштам. Отец Мандельштама, Эмилий Вениаминович, был мастером перчаточного дела, состоял в купцах первой гильдии. Это давало ему право жить вне черты оседлости. Мать, Флора Овсеевна Вербловская, была музыкантом. В 1897 году семья Мандельштамов переехала в Петербург. Осип получил образование в Тенишевском училище. К 1911 году дела семьи пошатнулись. Для того чтобы обойти квоту на иудеев при поступлении в Петербургский университет, Мандельштам крестится.
С детских лет Мандельштам увлекался поэзией. Начал печататься с 1910 года, а в 1913 году вышла первая книга его стихотворений «Камень». С этих пор Мандельштам прочно вошел в число лучших поэтов своего времени. Влияние его творчества было так велико, что в то время даже родился нелицеприятный термин, обозначавший неизбежное в подобных ситуациях эпигонство: «Мандельштамп».
После революции Мандельштам бедствовал, стихи дохода не приносили, жить было негде, скитался по друзьям и знакомым. У них же занимал деньги, без всякой надежды на возврат. В конце 1920-х годов с помощью Горького он сумел получить комнату в знаменитом ДИСКе – Доме Искусств для писателей на набережной Мойки. По сути, это было обыкновенное огромное общежитие, метко названное Ольгой Форш «Сумасшедшим кораблем». Жить было непросто. Тем более человеку с таким сложным, независимым и гордым характером, как у Мандельштама.
По утверждению многих биографов поэта, он был «одиноким скитальцем», «блуждающим светилом», мало подходящим для совместного проживания с людьми. Его ценили за вклад в литературу и иронизировали над его внешностью. Он был маленького роста и его называли «Птицей божьей» или «Мраморной мухой». Судя по мемуарной литературе, необычный облик Мандельштама становился притчей во языцех всех, кто с ним так или иначе соприкасался. Его имя произносили по поводу и без повода. Например, поэт Ходасевич, вспоминая жизнь в ДИСКе, пишет о комнате Мандельштама: «Обиталище Осипа Мандельштама представляло собою нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам». О нем говорили: «Он даже чечевичную кашу ел так, будто вкушал божественный нектар». А по остроумному замечанию Максимилиана Волошина, «Мандельштам был нелеп, как настоящий поэт».
В литературной среде была известна поговорка о нем: «Голову забросив, шествует Иосиф». Это его родовое отличие вошло в воспоминания и письма многих современников, сохранилось в стихах, воспоминаниях и в мемуарной литературе. Вот, например, что писала Марина Цветаева, обращаясь к Мандельштаму, с которым дружила:
Ты запрокидываешь голову —
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!
Вдова Мандельштама Надежда Яковлевна вспоминает, как во время эвакуации, в Ташкенте, она встретила Валентина Катаева, хорошо знавшего Мандельштама. Катаев рассказывал, как, подъезжая к Аральску, он увидел верблюда и сразу вспомнил Мандельштама: «Как он держит голову – совсем как Осип Эмильевич». Некоторым казалось, что так неестественно держать голову можно только благодаря твердым высоким воротничкам, которые любил носить Мандельштам, и только потом выяснилось, что привычка «с аристократическим высокомерием задирать голову» была наследственной и досталась ему от предков.
Ко всему сказанному надо добавить, что Мандельштам с детства страдал зубами и, когда улыбался или разговаривал, то обнажал три или четыре золотые коронки. Одним из его прозвищ было: «Золотозубый». В то время у молодых поэтов, среди которых вращался Мандельштам, это было редкостью. Некоторые его товарищи по перу называли так Мандельштама даже в стихах, обращенных к нему. Но вкладывали в это далеко не однозначный смысл. У одних его вставные зубы вызывали насмешку и иронию, у других зависть и ненависть и только у некоторых – понимание и сочувствие. Вот, например, отрывок из парижского, 1925 года, стихотворения Владислава Ходасевича «Звезды»:
На авансцене, в полумраке,
Раскрыв золотозубый рот,
Румяный хахаль в шапокляке
О звездах песенку поет.
Характер Мандельштама был сложным. Обидчивый и капризный, гордый и высокомерный, с обостренным чувством независимости и свободы, он был абсолютно уверен в своем предназначении и искренне считал себя уж если не гением, то, без сомнения, великим поэтом, отмеченным Богом. Известно, что летом к Волошину в Коктебель съезжались многие поэты, бывал у него в гостях и Мандельштам. Но, как вспоминает одна из участниц этих многолюдных сборов, Мандельштам был особенно заметен. Может быть, потому что и там проявлялся его неуживчивый характер. Однажды он обиделся на невинные четыре строчки озорного коктебельского гимна:
Она явилась в «Бубны»,
Сидят там люди умны,
Но ей и там
Попался Мандельштам.
И хотя в «Крокодиле», как назывался этот гимн, пародировали абсолютно всех гостей хлебосольного Волошина, строки о Мандельштаме во избежание скандала пришлось заменить.

Осип Эмильевич Мандельштам
Самовлюбленность и обидчивость Мандельштама часто доводили даже самую ничтожную ситуацию до скандала. Однажды на вечеринке в Камерном театре из-за какой-то мелкой ссоры он неожиданно дал пощечину поэту Шершеневичу и сразу же вызвал его на дуэль. Трудно сказать, чем мог закончиться поединок, если бы не выдержка Шершеневича и не вмешательство друзей.
Благодаря сложному характеру Мандельштама, если верить фольклору, произошел и его первый арест. Однажды писатель С. П. Бородин, будучи у Мандельштамов, устроил скандал и ударил жену поэта. Мандельштам тут же обратился в товарищеский суд писателей, председателем которого был Алексей Толстой. Суд решил примирить своих коллег и постановил, что «виноваты обе стороны». Однако это решительно не понравилось Мандельштаму, и он ударил Толстого по щеке, заявив при этом, что «наказал палача, выдавшего ордер на избиение его жены». Толстой взорвался и начал кричать, что «закроет перед Мандельштамом все издательства, не даст ему печататься и вышлет его из Москвы». В то время Мандельштамы жили то в Петрограде, то в Москве. Слова Толстого не были пустой угрозой, связанной с эмоциональным всплеском. Он тут же выехал в Москву жаловаться Горькому. И Горький, если верить фольклору, поддержал Толстого: «Мы ему покажем, как бить русских писателей», – будто бы сказал он. Это якобы и послужило причиной первого ареста Мандельштама. На этот раз все обошлось простой ссылкой. К такому «гуманному» роду репрессий против интеллигенции все уже давно привыкли.
Впрочем, и в Северной столице «скандалиста» Мандельштама не жаловали. Рассказывали, что поэт Тихонов, возглавлявший ленинградских писателей, будто бы не раз вслух высказывался: «В Ленинграде Мандельштам жить не будет. Комнаты мы ему не дадим».
Здесь будет уместно ненадолго отвлечься и сказать об отношении Мандельштама к своему еврейскому происхождению. В 1909 году Мандельштама не приняли в университет из-за процентной нормы. В 1911 году, как мы уже говорили, он крестился, может быть, поэтому. С детства крещеной была и жена Мандельштама, Надежда Яковлевна, в девичестве Хазина. Ее отец был сыном кантониста, принявшего православие. Однако все это не помешало Мандельштаму в автобиографической книге «Шум времени» сказать: «Как крошка мускуса наполняет весь дом, так малейшее влияние иудаизма переполняет всю жизнь». Этот «мускусный» запах преследовал его всю жизнь. Он остро чувствуется во многих стихах Мандельштама. Их переполняет гордость поэта за свое еврейское происхождение. Еврейская тема – одна из сквозных в его поэзии. Порой она звучит явно, порой – вполголоса, шепотом, причудливо смешиваясь с другими темами, но она всегда присутствует.
Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.
И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть…
Но вернемся к последовательности нашего повествования. Место ссылки, Воронеж, Мандельштам выбрал сам. Тогда это было еще можно. В Воронеже поэт в очередной раз пытается примириться с действительностью. Первый раз это случилось, когда его по командировке Союза писателей направили на строительство Беломоро-Балтийского канала. По возвращении он написал стихи, которых потом стыдился. Стыдился по двум причинам. Во-первых, потому что написал не то, что думал, а во-вторых, вспомнил, как сам издевался над писателем М. А. Зенкевичем, прилюдно назвав его «Зенкевичем-Канальским» за то, что тот посетил строительство канала и «написал похвальный стишок преобразователям природы». Теперь наступила его очередь заверить Сталина в собственной благожелательности. Мандельштам пишет верноподданническое стихотворение, которое заканчивается патетической строфой:
И промелькнет пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой – Ленин,
Но на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь – Сталин.
Существует литературная легенда, что вместо слова «будить» у Мандельштама было первоначально другое слово – «губить», которое переворачивало весь смысл стихотворения:
Будет губить разум и жизнь – Сталин.
К сожалению, это только легенда. Трудно сказать, как отнесся сам Сталин к этому стихотворению. Доказать лояльность поэту так и не удалось. А вскоре сами собой пришли другие стихи, за которые поэту пришлось жестоко поплатиться:
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.
Как утверждает Надежда Яковлевна Мандельштам, стихи о Сталине слышали не более полутора – двух десятков человек, те, кто бывал в доме Мандельштамов и у кого бывал он. Среди них был и Борис Пастернак, который будто бы сказал Мандельштаму: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому». Но даже среди этих немногих близких людей оказался предатель, а может быть, даже и не один. Стихи сразу распространились и стали известны Ягоде, а от него – Сталину. «Изолировать, но сохранить», – коротко изрек вождь и тем самым решил судьбу поэта. На эзоповом языке советских инквизиторов это означало лагерь и каторгу. Как «десять лет без права переписки» на том же большевистском языке означало расстрел.
Дело Мандельштама вел следователь ВЧК – ОГПУ – НКВД Николай Христофорович Шиваров, отчество которого для многих литераторов было символическим. Напомним, что шефа жандармов Бенкендорфа, которому император Николай I поручил следить за жизнью, передвижением и творчеством Пушкина, звали Александром Христофоровичем. Ассоциации были более чем красноречивы и последовательны. Все шло к гибели.
Подлинные обстоятельства смерти Мандельштама неизвестны. По официальным данным, он умер от паралича сердца 27 декабря 1938 года в одном из пересыльных лагерей Дальнего Востока. Сохранилось множество легенд о последних днях поэта. По одной из них, Мандельштама видели в партии заключенных, отправлявшихся на Колыму. Но на пути туда он будто бы умер, и тело его было брошено в океан. По другой легенде, его расстреляли при попытке к бегству, по третьей – забили насмерть уголовники за то, что он украл кусок хлеба, по четвертой – он повесился, «испугавшись письма Жданова, которое каким-то образом дошло до лагерей». О каком именно письме Жданова идет речь, неизвестно. Еще по одной легенде, Мандельштам вообще не был отправлен на каторгу. Он так и остался жить в Воронеже, пока туда не пришли немцы. Они-то будто бы и расстреляли поэта. Кому было удобно свалить вину за гибель поэта на немцев, остается только догадываться.
Но существуют легенды, которые отрицают насильственную смерть поэта. Согласно этим легендам, он или отбывал новый срок в режимном лагере за уголовное преступление, или «жил с новой женой на Севере».
Надо сказать, что сквозь все лагерные легенды о Мандельштаме красной нитью проходит один знаменательный сюжет. Все они рассказывают о нем как о «семидесятилетнем безумном старике с котелком для каши, когда-то писавшем стихи, и потому прозванном Поэтом». В год трагической гибели поэту Мандельштаму было всего 47 лет.
На 8-й линии Васильевского острова в шестиэтажном доме № 31, построенном в 1910–1911 годах по проекту архитектора В. И. Ван дер Гюхта, в 1920–1930-х годах жил брат Осипа Мандельштама – Александр, у которого «в каморке над черной лестницей» поэт неоднократно останавливался, приезжая в Ленинград. Здесь он написал одно из лучших своих стихотворений, посвященное своему любимому городу. Измученный, издерганный и загнанный в угол, предчувствуя скорый конец, он признается в любви к единственной своей родине Петербургу – Петрограду – Ленинграду.
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! Я еще не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
В 1991 году на фасаде дома была установлена мемориальная доска с памятным текстом: «В этом доме в декабре 1930 года поэт Осип Мандельштам написал „Я вернулся в мой город, знакомый до слез…“»
Через два года после трагической смерти Иосифа Мандельштама, 24 мая 1940 года, в Ленинграде, в еврейской семье родился другой великий Иосиф – Иосиф Бродский. Его отец, Александр Иванович Бродский, был военным фотокорреспондентом, после войны работал фотографом и журналистом в нескольких ленинградских газетах. Мать, Мария Моисеевна Вольперт, работала бухгалтером. Стихи начал писать сравнительно поздно, но, если верить одной из семейных легенд, однажды, увидев галерею портретов лауреатов Нобелевской премии, будущий поэт будто бы воскликнул: «Я тоже буду в их числе».
В ранней юности характер Бродского отличался возрастной строптивостью, максимализмом и неуживчивостью. Дело осложнялось непростыми отношениями с родителями, особенно с отцом. Возможно, сын не мог простить отцу того, что был назван Иосифом в честь Сталина. Отец был преданным коммунистом, верным ленинцем и непримиримым борцом с вражеской идеологией. Так, например, когда Иосиф бросил школу, Александр Иванович, «желая предостеречь сына от еще более безрассудных поступков», отнес его личный дневник в Большой дом. Будто бы с этого момента мальчик был взят на заметку органами.
Бродский был исключительно категоричен не только по отношению к творчеству своих коллег по поэтическому цеху, но и в оценках их внутренних качеств. Чаще всего эти оценки были нелицеприятными и далеко не лестными. Сергей Довлатов в «Записных книжках» рассказывает, как однажды в Америке навестил Бродского в госпитале. «Вы тут болеете, а зря. Евтушенко между тем выступает против колхозов». Бродский еле слышно ответил: «Если он против, я – за».
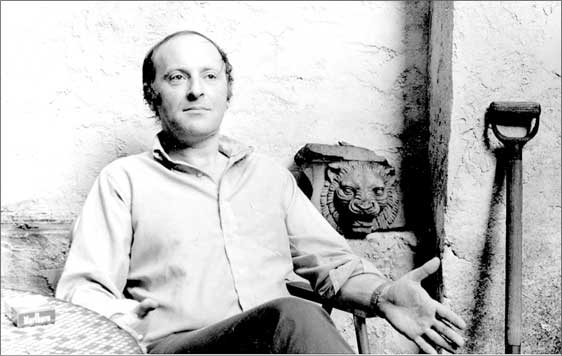
Иосиф Александрович Бродский
Тут надо сделать необходимое отступление. Бродский, несомненно, ценил творчество раннего Евтушенко, но был нетерпим к наиболее отвратительным человеческим чертам, буквально выпиравшим из всех пор модного в шестидесятых годах поэта. Евтушенко был жаден до славы и завистлив к коллегам по творчеству. Отсюда, как утверждает городской фольклор, произрастают корни взаимной неприязни двух поэтов. Евтушенко не мог не чувствовать за своей спиной дыхание соперника. Говорят, однажды его вызвали в ЦК КПСС и напрямую спросили, талантлив ли Бродский, на что Евтушенко будто бы ответил: «Талантлив, но к русской поэзии стихи Бродского отношения не имеют».
И выдворение Бродского из страны, если верить фольклору, прошло не без участия Евгения Евтушенко. Будто бы накануне принятия окончательного решения в беседе с председателем КГБ Ю. В. Андроповым Евтушенко сказал, что для Советского союза было бы лучше не преследовать Бродского как диссидента, что может негативным образом отразиться на репутации страны в глазах Запада, а выслать его на этот самый Запад. И это якобы стало решающим аргументом в пользу высылки. Потом уже Евтушенко пытался оправдаться в глазах общественного мнения тем, что намекнуть «куда следует» о предпочтительном для него выезде за границу будто бы просил его сам Бродский. Впрочем, эту версию Бродский категорически отрицал.
«Бродский тоже не сахар», – любили говаривать его товарищи по перу. Напомним, что этот колкий каламбур, якобы придуманный художником Вагригом Бахчаняном, на самом деле имеет давнюю фольклорную предысторию. Фамилию Бродский в начале XX века носил хорошо известный в России поставщик сахара. После Февральской революции махровые антисемиты при случае любили напомнить непосвященным, что кому принадлежит в этом мире: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого». Эту поговорку мы уже упоминали. Был ли в родстве герой нашего очерка с тем давним сахарозаводчиком, мы не знаем, но соблазн воспользоваться сходством фамилий оказался настолько велик, что фольклор не мог себе в этом отказать.
Бродский, или Рыжий Ося, как его звали в молодежных поэтических кругах Ленинграда, входил в группу поэтов, среди которых были Анатолий Найман, Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев. Привеченные Анной Андреевной Ахматовой, они часто навещали ее в дачном домике в поселке Комарово. Об этом все в Ленинграде знали. За ними даже закрепилось коллективное прозвище: «Ахматовские сироты», особенно распространившееся в литературной среде после кончины Анны Андреевны. Правда, теперь уже молодые поэты ездили в другой ленинградский пригород – в город Пушкин, в литературное объединение, которым руководила Татьяна Григорьевна Гнедич, и их прозвище было откорректировано. Они стали «Царскосельскими сиротами».
В контексте нашего повествования следует сказать несколько слов о ленинградском поэте Евгении Борисовиче Рейне. Рейн родился в 1935 году в Ленинграде, в еврейской семье архитектора Бориса Григорьевича Рейна и преподавателя немецкого языка и литературы Марии Исааковны Зисканд. Его еврейское происхождение подчеркнуто в прозвище, присвоенном ему собратьями по перу: «ЕвРейн».
Еще в самом начале его знакомства с Иосифом Бродским Рейн высоко оценил поэзию будущего лауреата Нобелевской премии и стал почти маниакальным его почитателем и другом. «Мне скучно без Бродского и Довлатова», – не раз говорил он после вынужденной эмиграции того и другого. Впрочем, Иосиф Бродский отвечал ему тем же. Он всегда называл Евгения Рейна не только своим другом, но и учителем.
Когда стало возможно, Рейн немедленно отправился в Америку навестить своего друга. Это событие подвигло ленинградского поэта Михаила Дудина написать короткую эпиграмму, искрящуюся каскадом блестящих каламбуров:
Поэту русскому еврею
Большой в Америке почет.
И Бродский бродит по Бродвею,
И Рейн в Америку плывет.
Но вернемся к Бродскому. Как теперь хорошо известно, в 1960–1970-х годах в больницах Ленинграда по распоряжению обкома партии резервировались специальные койки для осужденных на принудительное лечение интеллигентов. По одной из легенд, в больнице для умалишенных на 15-й линии Васильевского острова такая койка передавалась по наследству. Так, художнику и музыканту Алексею Хвостенко она будто бы досталась от будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского, чем Хвостенко впоследствии гордился.
Впрочем, несмотря на излишнюю безапелляционность в оценках коллег по профессии, сам Бродский в глазах его товарищей имел безупречную творческую репутацию. Его без тени иронии называли «Генералиссимусом русской поэзии». О нем говорили: «Бродский не первый. Он, к сожалению, единственный». Между тем в Советском союзе Бродского не издавали. Его стихи распространялись в списках. В ленинградских литературных альманахах были напечатаны всего четыре стихотворения Бродского, а первые его книги на русском языке были изданы в Нью-Йорке.
В 1972 году Иосифа Бродского, отбывшего назначенное судом наказание в виде ссылки в Архангельской области, выслали из Советского Союза и тем самым, может быть, не ведая того, избавили от судьбы другого Иосифа – Мандельштама.
Страной изгнания Бродский выбрал Америку. Встрепенулись русские антисемиты. Их явно раздражало, если не сказать бесило, что какие-то два отщепенца, два инородца, два Иосифа посмели поднять голос на их кумира, пусть тоже Иосифа, но какого Иосифа! Самого Иосифа Сталина. «С бродским приветом обратились евреи Советского союза к евреям Америки», – удовлетворенно острили они на желтых страницах комсомольских газет.
Среди стихов Бродского есть строчки, которые долгие годы многим казались провидческими:
Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать.
Умереть в Ленинграде, в Литейной части, где он жил до изгнания, или на любимом им Васильевском острове Бродскому не пришлось. Он умер в Америке, вдали от родины, которую так ни разу и не посетил после высылки. Смерть свою, похоже, предчувствовал. Бродский много курил. Знал, что курить ему нельзя, что курение его убьет. Каждый раз, прикуривая очередную сигарету, приговаривал: «Это мой Дантес». А когда врачи в категоричной форме запретили ему курить, мрачно пошутил: «Выпить утром чашку кофе и не закурить?! Тогда и просыпаться незачем!»
Но о Ленинграде Бродский, живя в Америке, никогда не забывал. С городом на Неве его связывали мистические обстоятельства, о которых он сам рассказал в очерке «Полторы комнаты». На лужайке, за окном его американского дома в Сауд-Хедли, рассказывает Бродский, поселились две вороны. Одна из них появилась сразу после смерти матери, другая – ровно через год, когда умер отец поэта.
Родственники Бродского отказали России в ее просьбе похоронить прах поэта на родине. Правда, и Америка не удостоилась чести стать местом последнего упокоения лауреата Нобелевской премии. Похоронен Бродский, согласно воле его близких, в Венеции. А в Петербурге собираются установить ему памятник. Создан экспертный совет. Будто бы уже начали поступать заявки. Первым откликнулся и предложил свой вариант памятника Зураб Церетели. Это дало повод москвичам позлорадствовать: «Не все же нам терпеть».
В ноябре 2005 года во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского университета по проекту скульптора Константина Симуна был открыт первый в России памятник Иосифу Бродскому. А 1 декабря 2011 года во дворе дома № 19 по улице Стахановцев в Санкт-Петербурге был установлен памятный знак Иосифу Бродскому в виде огромного валуна, на котором высечены строки из стихотворения «От окраины к центру»: «Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок».
Своеобразная память о Бродском сохранилась и в петербургской фольклорной микротопонимике, странным образом отразившись в судьбе Михайловской улицы. Это характерный пример того, как рождается городской фольклор и как мы становимся очевидцами его зарождения, в самой что ни на есть начальной, едва ли не эмбриональной стадии. Судите сами.
Как известно, Михайловская улица ведет свою историю от короткого проезда, проложенного в первой четверти XIX века от Невского проспекта к строившемуся в то время Михайловскому дворцу. В 1844 году проезд назвали улицей и присвоили соответствующее имя – Михайловская. Затем Михайловский дворец был отдан для размещения в нем коллекций русского искусства. Ныне в здании дворца расположен знаменитый на весь мир Русский музей. Казалось бы, топонимическая связь улицы с бывшим Михайловским дворцом утратилась. О священной памяти места в то время никто не думал, и в 1918 году Михайловскую улицу переименовали в улицу Лассаля, в честь организатора и руководителя Всеобщего германского рабочего союза Фердинанда Лассаля. В 1940 году ее вновь переименовали. На этот раз ей присвоили имя известного советского художника Исаака Бродского, который с 1924 года жил, работал и в 1939 году умер вблизи этой улицы, в бывшем доме Голенищева-Кутузова на площади Искусств, 3. В 1940 году на фасаде дома установлена мемориальная доска по проекту архитектора Н. Ф. Демкова.
Исаак Израилевич Бродский был крупнейшим представителем так называемого соцреализма в живописи. Он родился в селе Софиевка вблизи города Бердянска в еврейской семье торговца и землевладельца, окончил Одесское художественное училище и Петербургскую Академию художеств. Творческую деятельность начал в 1905 году, опубликовав в столичных сатирических журналах ряд острых карикатур, направленных против самодержавия. Затем обратился сначала к портретной, а потом и к жанровой живописи. После революции стал одним из виднейших советских художников. С 1934 года и вплоть до своей кончины Бродский возглавлял Всероссийскую Академию художеств.
Официальная оценка творчества Исаака Бродского в Советском Союзе была однозначно восторженной. Как писали буквально все справочники и энциклопедии, «он был активным поборником идейного реалистического искусства». Один список весьма характерных названий его художественных произведений убедительно говорит в пользу этого утверждения: «В. И. Ленин в Смольном», «Торжественное открытие II конгресса Коминтерна», «Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода», «Ударник Днепростроя», «Демонстрация», «Выступление В. И. Ленина перед частями Красной армии, отправляющимися на польский фронт» и так далее и тому подобное. Причем для создания этих шедевров соцреализма художнику было достаточно обыкновенных фотографий. Так, «на основании фотодокументов», как об этом сообщали средства массовой информации, Бродский выполнил ряд портретов Ленина. Неслучайно такой метод художественного творчества стали называть «фотореализмом». Среди ленинградских художников появился и другой довольно выразительный термин. Отдавая дань усилиям, которые прикладывал Бродский, пропагандируя советское искусство, порочный метод, которым он пользовался, стали называть «бродскизмом».
От любого зодиака
До мыса Чукотского
Знает всякий Исаака,
Исаака Бродского.
Между тем, как утверждают современники художника, в начале творческого пути Бродского его живопись обладала весьма привлекательными достоинствами, а сам он не был лишен известного художественного вкуса. Подтверждением тому служит великолепная коллекция произведений искусства, собранная им в квартире, в доме на площади Искусств, где в последние годы жизни проживал Бродский, а после его кончины был открыт музей.
В октябре 1991 года Михайловской улице вернули ее историческое название.

Дом Мурузи. Улица Пестеля, 27 / Литейный проспект, 24
И тогда началось мифотворчество. А что если когда-нибудь петербуржцы вспомнят, что поэт Иосиф Бродский, в «бурной молодости своей отдал дань» ресторанам «Крыша» и «Восточный» при гостинице «Европейская»? И ста – нут утверждать, что вот, мол, оказывается, почему улица в свое время называлась улицей Бродского, и что было бы совсем неплохо вернуть ей это замечательное имя. Понятно, что все расчеты должны строиться на предположении, что к тому времени имя художника Бродского, писавшего почти исключительно на революционные, партийные и советские темы, будет окончательно вычеркнуто из памяти петербуржцев.
А теперь продолжим рассказ о поэте Иосифе Бродском. В Ленинграде Бродский жил в знаменитом «Доме Мурузи» на Литейном проспекте, 24. В конце 1940-х годов здесь получил комнату его отец Александр Иванович Бродский.

Памятная доска на доме 27 по улице Пестеля
«Дом Мурузи» – один из признанных культовых адресов литературного Петербурга – Петрограда – Ленинграда». В середине XVIII века участок, на котором стоит этот дом, принадлежал артиллерийскому ведомству и долгое время не застраивался. Только в конце века его приобрел действительный камергер, сенатор граф Николай Петрович Резанов, который построил здесь собственный особняк. Резанов был женат на дочери основателя Российско-Американской компании купца Григория Шелехова. На собственные деньги Шелехов снарядил первую русскую морскую кругосветную экспедицию, которую Резанов возглавил. Широкую известность эта история приобрела благодаря рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» на стихи Андрея Вознесенского в постановке Марка Захарова на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола.
С 1848 года владельцем дома стал сын министра внутренних дел в правительстве Александра I Василий Кочубей. В 1874 году участок приобрел внук молдавского господаря князь Александр Дмитриевич Мурузи. И в 1874–1876 годах по проекту архитекторов А. К. Серебрякова и П. И. Шестова на месте разобранного деревянного дома Кочубея строится многоэтажный доходный дом в необычной для Петербурга того времени восточной манере. «Торт в мавританском стиле», – говорил о нем один из самых знаменитых его обитателей, поэт Иосиф Бродский.
Уже в первые годы своего существования «Дом Мурузи» был окружен романтическими, или, точнее, авантюрными легендами. И благодаря не только экзотическому мавританскому стилю, в котором он был исполнен, но и необычной фамилии его владельца. Одни утверждали, что Мурузи – это богатый турок, живущий в центре Петербурга со своим многочисленным гаремом, охраняемым евнухами. Другие говорили, что владелец дома – богатый торговец чаем, сокровища которого замурованы в стенах мавританского особняка.
Архитектурный облик экзотических фасадов дома каким-то невероятным образом ассоциативно переплетался с продукцией знаменитого в Петербурге торговца русскими пряниками Николая Абрамова, магазин которого находился на первом этаже. Прилавки магазина ломились от столь же диковинных, как и сам дом, вяземских, московских, тверских, калужских и других сортов расписных пряников. Здесь можно было приобрести и другие необычные лакомства: киевский мармелад, одесскую халву. В Петербурге магазин Абрамова славился и необычной для того времени рекламой, которую, говорят, сочинял сам хозяин:
Как вкусна, дешева и мила
Абрикосовая пастила!
А впрочем, и прочее.
Убедитесь воочию!
Или еще:
От Питера самого
До Уральских гор
Пряники Абрамова
Имеют фурор!
В наше время «Дом Мурузи» широко известен другими особенностями. У него богатое литературное прошлое. Даже деловая попытка установить торговые связи с Северо-Американскими Соединенными Штатами, предпринятая некогда графом Резановым, сегодня ассоциируется с поэзией Андрея Вознесенского, пропевшего гимн трагической любви русского мореплавателя и юной калифорнийской красавицы. В особняк на Литейном Резанов так и не вернулся, скончавшись на обратном пути из Америки. Его наследники жить в доме на Литейном отказались и продали его.
Между тем литературная биография дома продолжилась. Через несколько десятилетий сюда, на этот участок, Достоевский поместил доходный дом одного из героев романа «Идиот» – генерала Епанчина. Еще через какое-то время здесь, по предположениям некоторых исследователей творчества Куприна, произошла история, положенная в основу повести «Гранатовый браслет». И это еще далеко не все. В «Доме Мурузи» снимал квартиру старший сын Александра Сергеевича Пушкина, генерал-майор А. А. Пушкин. В разное время в здесь жили известные поэты и писатели: Николай Лесков, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Владимир Пяст, Даниил Гранин. Здесь в 1919 году чуть ли не в квартире того самого кондитера Абрамова находилась литературная студия «Цех поэтов», основанная и руководимая Николаем Гумилевым.
В советское время «Дом Мурузи» превратился в обыкновенный многонаселенный жилой дом с тесными коммунальными квартирами, с комнатами, разделенными дощатыми перегородками, с общими кухнями и санузлами, сварливыми хозяйками и прочими прелестями социалистического быта.
В настоящее время литературная общественность Петербурга борется за создание в комнатах, где жил поэт, музея. Экспонаты будущего музея временно хранятся в экспозиции музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Ровесником Иосифа Бродского был ленинградский писатель Сергей Довлатов. Довлатов родился в 1941 году, в эвакуации, в Уфе, в семье театрального режиссера. В жилах Сергея бурлила гремучая смесь из еврейской крови отца – Доната Исааковича Мечика – и армянской матери – Норы Сергеевны Довлатовой. Не желая отдавать предпочтения ни той, ни другой половине своего происхождения, в паспорте Сергей Донатович записался Довлатовым-Мечиком. Он был «евреем армянского разлива», как говорили о нем друзья.
А еще говорили: «Родился в эвакуации, умер в эмиграции». Довлатов жил в Ленинграде до 1978 года. Затем был изгнан из Советского союза как диссидент, творчество и общественное поведение которого не устраивало партийных руководителей Ленинграда.
Основные произведения Довлатова были написаны и впервые изданы за рубежом. Тогда же он приобрел широкую известность, в том числе и на Родине, в Ленинграде. Но ленинградцы шестидесятых его хорошо знали. Он был человеком видным, большим и красивым. Рассказывают, что, когда Довлатов выходил на улицу, за ним сразу устремлялись толпы женщин, а когда появлялся на Невском проспекте, перед ним будто бы неслась молва: «Довлатов идет! Довлатов идет!» Он был «своим человеком» в любимом им легендарном кафе «Сайгон» при ресторане «Москва» на углу Невского и Владимирского проспектов и в других заведениях подобного рода.
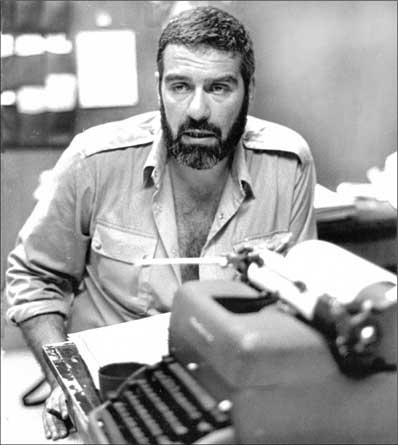
Сергей Донатович Довлатов
В петербургский городской фольклор Довлатов попал не столько из-за фольклора о нем самом, сколько благодаря анекдотам, автором которых он был. В скобках добавим, что фольклор далеко не всегда может похвастаться знанием авторства той или иной легенды, частушки, того или иного анекдота. Чаще всего их авторство анонимно. Но бывают редкие исключения. Одним из таких счастливых исключений и был Довлатов. Многие анекдоты, придуманные им, были опубликованы в его «Записных книжках» и других произведениях. Вот только некоторые из них.
Однажды Довлатова пригласили на заседание комиссии по работе с молодыми авторами Ленинградского отделения союза писателей. Спросили: «Чем можно вам помочь?» – «Ничем». – «Ну, а все-таки? Что нужно сделать в первую очередь?» И он не выдержал. Ответил с картавинкой, по-ленински: «В первую очередь? В первую очередь нужно захватить мосты. Затем оцепить вокзалы. Блокировать почту и телеграф…»

Памятная доска на доме 23 по улице Рубинштейна
После того как Иосиф Бродский написал стихотворение, в котором были известные строчки: «На Васильевский остров / Я приду умирать», Довлатов рассказывал придуманный им анекдот: «Не знаешь, где живет Иосиф Бродский?» – «Где живет, не знаю, но умирать ходит на Васильевский остров».
Сам Довлатов с 1944 по 1975 год жил в доме № 23 по улице Рубинштейна. В 2006 году на фасаде этого дома появилась мемориальная доска.
Одновременно с Довлатовым в Петербурге плодотворно работал известный драматург Александр Моисеевич Володин. Сведения о месте рождения Володина разнятся. По одним сведениям, он родился в Москве, по другим – в Минске, в еврейской семье служащих.
Его настоящая фамилия Лифшиц. Мальчик рано остался без родителей и с пяти лет жил в Москве у своего дяди. Детство было безрадостным, дядя часто выгонял его из дома. Тогда же начались сложные взаимоотношения с окружающим миром. В 6-м классе его исключили из пионеров за то, что в лагере над кроватью он повесил фотографию своего любимого артиста Качалова. Вожатый возмутился: «Это что еще за личность в широкополой шляпе с кольцом на руке? Повесил бы Буденного или Ворошилова!» Над ним устроили суд, на линейке сняли галстук. Начальник лагеря грозно кричал: «Мы таких в 19-м году расстреливали!» Затем его выгнали из комсомола. Бдительные товарищи засекли любовь подростка к Есенину, стихи которого он читал вслух.
С детства Александр увлекался театром, но после окончания средней школы поступил в Московский авиационный институт. Через полгода он его бросил и поступил на Серпуховские учительские курсы, по окончании которых преподавал русский язык и литературу в школе в деревне Вешки Московской области.
Интерес к сочинительству появился рано. Вместе с интересом проявились и литературные способности. Рассказывают, как при поступлении в институт кинематографии он писал сочинение. На экзамене почувствовал тошноту и сидел, «тупо уставившись в доску». Преподаватель, показывая на него, обратился к аудитории: «Вот вы все сразу схватились за ручку, а он, молодец, не спешит, сначала обдумывает». А он, еле-еле написав страничку, сдал ее и торопливо вышел из аудитории. А через несколько дней услышал: «Какой-то солдатик по фамилии Лифшиц написал потрясающий рассказ, всего на одной страничке».
О том, как у него появился псевдоним, Володин рассказал сам. Как-то он написал детский рассказ и понес его в редакцию альманаха «Молодой Ленинград». Пришел с сыном. Редактор прочитал рассказ, задумчиво посмотрел на подпись «Лифшиц» и сказал: «А вы не хотите опубликовать его под псевдонимом?» – «Нет у меня псевдонима. Не думал я об этом». – «А что тут думать? У вас прелестный сын. Мальчик, как тебя зовут?» – «Володя». – «Значит, папа твой – Володин, верно? И звучит хорошо». Так появился писатель Александр Володин.
В 1939 году Володин поступил на театроведческий факультет ГИТИСа, но через два месяца получил повестку в армию. В годы войны был связистом и сапером, участвовал в боях, дважды был ранен, награжден орденом и медалями. После демобилизации Володин не вернулся в ГИТИС, а поступил на сценарный факультет ВГИКа, который окончил в 1949 году. Это было время так называемой борьбы с космополитизмом, и Володин оказался без работы. Это побудило его переехать в Ленинград. Здесь он нашел работу редактора, а затем и сценариста на киностудии «Леннаучфильм».
В Ленинграде Володин бедствовал, ютился с женой и сыном в семиметровой комнате коммуналки в полуподвале. Как-то к нему зашел Назым Хикмет, только что вырвавшийся из турецкой тюрьмы. Огляделся и сказал: «У меня в Турции камера была лучше». Тогда же Володин заболел традиционной болезнью творческой интеллигенции начал регулярно выпивать. Однажды на день рождения жена принесла ему чекушку водки. «От такого подарка у меня появился ком в горле, – вспоминал Александр Моисеевич. – Во как пожалела меня?! А у нас в комнате и рюмок не было. И я стал пить из горла».
Оправдывался войной. Говорил, что корни этой неизлечимой болезни на фронте. Об этом его стихи:
Убитые остались там,
А мы, пока еще живые,
Все допиваем фронтовые,
Навек законные сто грамм.
С утра он шел в «свою рюмочную»: «Девушка, налейте мне сто грамм и улыбнитесь». Потом рассказывал, что «там работают разливальщицы, которых я всех люблю, каждую по-своему. Я называю этих девочек завлекалочками, потому что они завлекают хотя бы с ними пообщаться». Когда он впервые там появился, одна разливальщица спросила: «А закуска?» И Володин ответил: «Ваша улыбка». И она ему улыбнулась. Старался выпивать либо в одиночестве, либо с хорошим человеком. Говорил: «Не могу напиться с неприятными людьми».
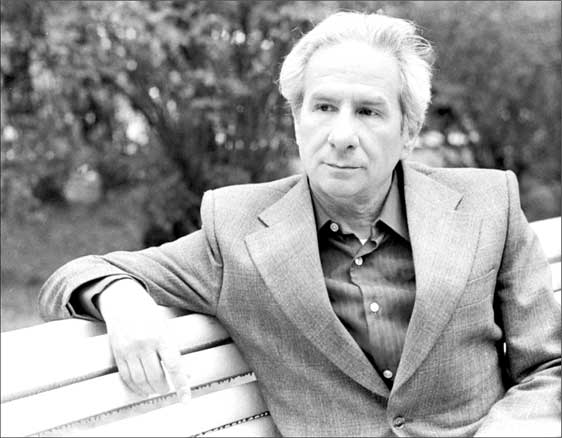
Александр Моисеевич Володин
В этом весь Володин. Он был человеком добрым, открытым и доверчивым, совестливым и деликатным. Любил людей, и люди отвечали ему тем же. Работая над рукописями молодых писателей, говорил, что «лучше ошибиться в положительную сторону, чем кого-либо обидеть». Мог, увидев на почте немолодую женщину редкостной красоты, вручить ей бланк, на котором было написано: «Справка дана такой-то в том, что она очень красивая и обаятельная женщина и, кажется, с чувством юмора». И подпись: «Союз Кинематографистов, Союз Писателей, Союз Театральных Деятелей». Даже о своих родственниках, в доме которых ему приходилось бедствовать, он старался говорить мягко и беззлобно: «Они были хорошие люди, но время от времени выгоняли меня из дома. Я жил у них не совсем полноправным человеком».
И еще отличала Володина необыкновенная скромность в быту, в поведении, в манере одеваться. «Я не хочу быть человеком из лимузина. Я хочу быть, как будто меня из трамвая только что выкинули», – говорил он извиняющимся голосом. Неслучайно в Петербурге его называли «последним человеком стыда».
Сын Александра Володина, подаривший ему фамилию, уехал на постоянное жительство в США, звал туда и отца. Тот долго отказывался, но когда это стало возможным, поехал навестить Володю. Утром позвонили в дверь – пришла уборщица-мексиканка. Увидев в доме незнакомого мужчину, обратилась к нему: «Не правда ли, сегодня прекрасная погода?» Александр Моисеевич ничего не ответил, а его сын пояснил: «Это мой отец. Он не говорит ни по-английски, ни по-испански». – «Он что, немой?» – недоумевая, произнесла уборщица». – «Спасибо за приглашение, – сказал отец, услышав перевод вопроса. – Но я не хочу быть в Америке немым. Лучше я доживу свой век в моей России».

Памятная доска на доме 44 по Большой Пушкарской улице
Володин был драматургом поколения шестидесятников и в своих пьесах «противостоял тенденциям драматургии сталинской эпохи, в которой положительный герой всегда отстаивал коллективные интересы, вступать же в конфликт с коллективом мог только отрицательный персонаж». Его первая значительная пьеса «Фабричная девчонка» появилась в 1956 году. Пьесу взял Товстоногов, и тут же их с Володиным вызвали на ковер в обком партии. «Почему у вас женщина одинокая? Да, к тому же поет какую-то непонятную песню: „Миленький ты мой, возьми меня с собой”. Это что – социалистический реализм? У нас такого быть не может». С тех пор все последующие пьесы Володина выходили с оговорками: «только для Товстоногова в БДТ», «только для Ефремова в “Современнике”». В то время Олег Ефремов говорил Володину: «Если посадят меня – ты будешь носить передачи; если тебя – носить буду я». В те времена эти два театра пользовались некоторым, хотя и строго дозированным правом критиковать социалистический строй.
Александр Володин – автор многочисленных пьес и киносценариев, среди которых такие широко известные, как «Пять вечеров», «Назначение», «Дульсинея Тобосская», «Осенний марафон», «Прошлым летом», «Звонят, откройте дверь». Многие реплики его героев разошлись на цитаты, стали пословицами и поговорками. Некоторые из них вполне можно считать программными как для их автора, так и для нас, читателей: «Стыдно быть несчастливым», «С любимыми не расставайтесь», «Никогда не толпиться в толпе».
Умер Александр Моисеевич Володин 17 декабря 2001 года. Похоронен на Комаровском кладбище.
На стене дома по адресу Большая Пушкарская улица, 44, в котором жил Володин, в 2004 году открыта мемориальная доска, созданная по проекту скульптора Григория Ястребенецкого и архитектора Татьяны Милорадович. Обсуждается вопрос об установке памятника А. М. Володину в Матвеевском сквере. Ежегодно в Петербурге проводится театральный фестиваль «Пять вечеров», посвященный памяти А. М. Володина.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.