Лайонел Ротшильд
Лайонел Ротшильд
Человек, который финансировал империю
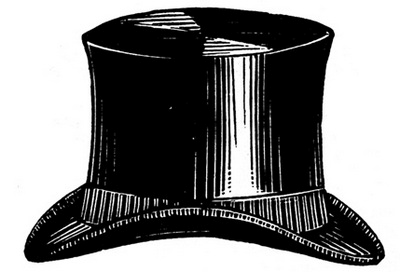
Хорошо известно и подтверждено статистикой, что езда на велосипеде в Лондоне безопасна и становится все безопаснее. Но даже самые опытные велосипедисты не станут отрицать, что есть парочка участков, где мысленно крестишься и надеешься, что водители будут повнимательнее.
Требуется определенное хладнокровие, чтобы прорваться через тоннели Мэрилебон-роуд; а потом начинается гонка по юго-восточному краю Гайд-парка. Я говорю не только о том участке на вершине Конститьюшн-хилл, где приходится вклиниться в односторонний поток автобусов и такси; по-настоящему напряженный момент наступает, когда, задыхаясь, поднимешься от квартала Найтсбридж до Пиккадилли и стоишь на светофоре с «бумерами» и «мазератти»; а когда загорится зеленый и ты уже рванул вперед — то как черт жмешь на педали, уж поверьте, потому что видишь, какая армада машин собралась слева в начале Парк-лейн. Это все равно что проходить перед строем кавалерии Неистового Коня или маршала Нея, когда их кони — эти жуткие монстры — бьют копытами землю, готовясь к атаке. И пока лавируешь по относительно безопасной Пиккадилли прямо перед этой лавиной металла, задаешь себе вопрос, как это случилось, что в Лондоне появилась городская автострада, проходящая через Парк-лейн, которая когда-то славилась как чудный и пасторальный район.
За это надо сказать спасибо бывшему министру транспорта правительства консерваторов по имени Эрнст Марплз. Помимо всего прочего, этот фантазер решил, что Лондону необходимо одностороннее круговое движение вокруг Мраморной арки (Marble Arch, называемой Marple Arch в честь Марплза, который проталкивал эту стройку) и Гайд-Парк-корнер.
В 1962 году он превратил это милое место в зону разрухи, усеянную ямами каждая размером с вулканический кратер, отчего моему отцу пришла в голову мысль захоронить в одной из них наш старенький потрепанный «остин-хили», от которого он хотел избавиться. В ходе строительства пятиполосной кольцевой вокруг Арки Веллингтона Эрнст Марплз разрушил ряд домов в конце улицы Пиккадилли.
И то были вовсе не старые дома. По крайней мере один из них, № 148 на Пиккадилли, слегка обшарпанный под конец своего существования, принадлежал Обществу автопроизводителей и автотрейдеров. Но построен-то он был по образцу лондонского клуба и, конечно, по-прежнему оставался памятником отечественного великолепия. Здесь были винные погреба, похожие на пещеры, и комнаты для слуг, и большие кухни с новомодными газовыми печами, и широкие мраморные лестницы, ведущие в просторные залы, полные шедевров фламандской живописи и французской перегородчатой эмали, и окна с видами на парк.
В этом месте было заключено одно из самых знаменитых соглашений между банком и правительством Британии. На этом месте, где теперь с ревом проносится поток автомобилей, стоял дом Лайонела де Ротшильда, и именно здесь он встречался со своим другом Бенджамином Дизраэли — премьер-министром.
Шел 1875 год, и Британия переживала расцвет своего могущества, а Лондон был большим промышленным центром. В Ист-Энде, в нижней части долины Ли, в районе, ныне отведенном под олимпийскую реконструкцию, располагалось множество фабрик и заводов, поражающих воображение и шибающих в нос.
И конечно же именно поэтому их и разместили в Ист-Энде, чтобы преобладающие ветры уносили чад и смрад подальше от чувствительных носов обитателей особняков Пиккадилли. Там были фабрики, производившие джут и компост, резину и удобрения, и они наполняли воздух характерным запахом вываренной гнилой рыбы. Там были предприятия, которые ввозили сахар и апельсины из колоний и вывозили их с огромной наценкой в виде мармелада Кейллера. Они ввозили гудрон, а вывозили креозот, керосин, деготь, антрацен, дезинфицирующие средства, инсектициды и анилиновые красители. Лондон брал шерсть, чай, кофе, сахар, красящие вещества, все что угодно, а затем лондонские фирмы все это перерабатывали, фасовали и отправляли по всему миру Они ввозили хлопок из Индии и отправляли его обратно, чтобы одевать самих индусов, а потом стали говорить, что равнины Индостана побелели от костей индийских ткачей.
В то время Дизраэли, который к империи и ее императрице относился со смесью романтизма и прагматизма, увидел возможность еще более укрепить мировое лидерство своей страны. К 1871 году руководимый французами консорциум ввел в действие Суэцкий канал, связывающий Средиземное и Красное моря, стратегический потенциал которого был очевиден. Канал сократил путь в Индию, потому что кораблям больше не приходилось тащиться вокруг мыса Доброй Надежды. Суэцкий канал просто открыл всю Восточную Африку для торговли и колонизации — и тут появилась возможность купить его и наложить лапу британского льва на это коммерчески важное горло.
Османская империя была банкротом, хедив Египта был банкротом, компания, которая прорыла канал, обнаружила, как это часто и бывает, что отдача от этого нового инфраструктурного объекта не соответствует ожиданиям. Египтяне хотели четыре миллиона фунтов — по тем временам это была сногсшибательная сумма — примерно 8,3 % всего бюджета Соединенного Королевства. Но Дизраэли знал, куда идти за деньгами.
Лайонел Ротшильд был главным представителем в Британии панъевропейской банковской династии. В 1870 году он был изображен на обложке журнала The Period как «король» денег и облигаций, огромный и бородатый, к которому шли на поклон правители всего мира: император Китая, турецкий султан, Наполеон III, папа римский, кайзер Вильгельм I и королева Виктория. У него и его семьи был значительный опыт финансирования больших транспортных проектов — они помогали создать сеть европейских железных дорог. А еще он был близким другом Дизраэли и жены Дизраэли.
Как только премьер-министр заручился согласием кабинета на сумму четыре миллиона фунтов, секретарь кабинета министров, Монтегю Корри, был срочно отправлен в штаб-квартиру компании N. М. Rothschild в Нью-Корт на улице Сент-Суизинс-лейн, где она находится и сегодня. Там, в кабинете, отделанном дубовыми панелями, он нашел 67-летнего финансиста в умиротворенном душевном состоянии. «Премьер-министру нужно четыре миллиона на завтра», — сказал Корри.
Ротшильд взял мускатную виноградинку, съел ее, выбросил кожицу и неторопливо спросил: «Кто ваш гарант?» — «Правительство Великобритании». — «Вы получите их».
Это была хитроумная сделка во всех отношениях. Французы пришли в полное замешательство, увидев, как выросло британское влияние. Либеральная оппозиция во главе с Уильямом Гладстоном не смогла возразить ничего вразумительного. «А не вызовет ли это каких-нибудь международных осложнений или вопросов? — писал довольно невнятно Гранвиль Гладстону — Брать такую ответственность без консультаций с парламентом?» — хныкал он.
Патриотически настроенная британская общественность пришла в восторг — еще бы, завладеть главной артерией Ближнего Востока! — и воодушевленный Дизраэли писал ее величеству, чтобы сообщить благую весть: «Дело сделано — канал Ваш, мадам. Мы обскакали французов. Они слишком суетились, предлагали займы по завышенной цене, да еще на таких условиях, которые фактически отдавали правительство Египта им в руки.
Хедив от отчаяния и злости предложил правительству Вашего величества купить его пакет акций целиком и сразу — о чем он раньше и слышать не хотел. Четыре миллиона стерлингов! И почти сразу.
Только одна фирма могла пойти на это — Ротшильда. Эти люди повели себя восхитительно, предоставили деньги под низкий процент — и теперь все акции хедива в Ваших руках, мадам».
Ротшильды и сами не прогадали — что и неудивительно. Кое-кто говорил, что старый пожиратель винограда снял три шкуры с британского правительства. Кто-то считал, что 150 000 фунтов за заем в четыре миллиона на три месяца — это слишком круто. Это 15 % годовых — такие проценты по кредиту можно выставлять египтянам, но не англичанам, говорил книготорговец Уильям Генри Смит, который был также секретарем казначейства. Другие считали, что Лайонел и его семья провернули классическую инсайдерскую операцию — скупили в огромном количестве египетские акции, заранее зная, что по завершении сделки цена на них поднимется.
Лайонел не обращал внимания на эту критику. Когда биржевой брокер Артур Рэгг высказался в том смысле, что деньги правительству надо было занять бесплатно, то вызвал резкую отповедь любителя мускатного винограда: «Артур Рэгг, вы еще молодой человек и потом все поймете. Я заработал на сделке 100 000 фунтов, а хотел — 200 000».
Смелое решение британского правительства купить египетский канал оказалось неожиданно удачной сделкой для налогоплательщиков. К январю следующего года акции на канал подскочили на 50 %. К 1898 году правительственная доля акций стоила двадцать четыре миллиона фунтов — в шесть раз больше, чем Дизраэли заплатил за нее при покупке; к 1935 году ее цена составляла девяносто три миллиона фунтов. Годовые дивиденды по этим акциям подскочили с двухсот тысяч фунтов в 1875 году до восьмисот восьмидесяти тысяч фунтов в 1901 году.
Дизраэли не просто защитил британские интересы, обеспечив самый короткий путь в Индию, — он заключил очень прибыльную сделку. Суэцкий канал оставался в зоне британских интересов до 1956 года, почти до того самого времени, когда родился автор этих строк — не так и долго вообще-то.
Как заметил Дизраэли Виктории, именно Британия, а не кто-либо другой оказалась обладателем такой банковской системы, которая позволила предложить Египту подходящую сделку; но этого не случилось бы, если бы не Лайонел Ротшильд.
Когда в 2012 году мы будем праздновать шестидесятилетие правления ее величества королевы Елизаветы II, мы, современные елизаветинцы, поймем, что нам есть чем гордиться. Очень выросло качество жизни людей, Лондон по-прежнему может претендовать на право называться одним из величайших городов мира. Реальные доходы по сравнению с 1952 годом значительно выросли, у нас есть интернет, iPod и батончик-мороженое Snickers.
При этом кто-нибудь обязательно попытается добавить ложку дегтя в бочку меда и вспомнит, когда еще британский монарх пребывал на троне шестьдесят лет. Эпоху Елизаветы II неизбежно сравнят с Викторианской эпохой — и я вовсе не уверен, что это сравнение будет в нашу пользу.
Никто не станет спорить, что жители Викторианской эпохи превосходят все предыдущие поколения британцев своей смелостью, энергией и талантом. Но, если уж на то пошло, положа руку на сердце придется признать, что нас они тоже превосходят.
Иногда мне кажется, что эта книга похожа на гигантского головастика и до сих пор мы скользили вдоль длинного хвоста истории, как вдруг, приступив к описанию последних ста пятидесяти лет, неожиданно добрались до головы: огромного выпуклого купола — вместилища багажа Викторианской эпохи, ее интеллекта, ее великих людей, которые сделали Лондон caput mundi — столицей мира, современным Римом. Невозможно отдать должное всей этой огромной плеяде великих личностей всех сфер деятельности, хотя некоторые авторы — такие как Эндрю Норман Уилсон — прекрасно поработали в этом направлении.
Возможно, потому, что тень смерти нависала над ними куда более явственно, их жажда жизни была сильнее, чем у нас сегодня. Они раньше вставали, они больше ходили пешком и готовили более сложные блюда. Они писали более длинные романы, вели более подробные и откровенные дневники и отращивали более длинные бороды и усы, чем любое из предшествующих поколений. Они были более щепетильны в вопросах чести и более лицемерными, и поэтому (хоть это и спорно) их больше волновал секс и у них было больше детей. Они писали больше картин акварелью и больше играли на фортепьяно и в целом больше совали нос в чужие дела — особенно в дела менее успешных людей, — чем представители среднего класса современной Британии.
Может, оттого, что они были более религиозны, хоть и поверхностно, чем все предыдущие поколения лондонцев, викторианцы свято верили, что вершат волю Божью; и, как и римские империалисты, на которых они сознательно равнялись, все свои успехи считали знаком милости Божьей. Они завоевали огромные территории земного шара потому, что так было угодно Богу, они господствовали над Индией и Африкой потому, что — они всерьез так считали — такова Его воля.
Если сравнить с нашим временем — то была эпоха сверхчеловеческой самоуверенности. Вот типичный пример: в 1854 году Изамбард Кингдом Брюнель построил «Грейт Истерн» — это был не просто корабль принципиально новой конструкции, это было судно, способное загрузить в трюмы столько угля, чтобы хватило на переход из Англии в Австралию и обратно. С водоизмещением 19 000 тонн, это был самый большой корабль, построенный когда-либо раньше, — в четыре раза больше любого другого, но главное, что еще сорок лет после этого никто не построит такого корабля. Правда, у него прорвало главную прокладку во время первого рейса, но это не важно: за старание Брюнель все равно получил десять баллов из десяти.
Под тевтонским оком принца Альберта викторианские праздные классы дали миру самых мощных интеллектуалов. И не случайно теорию эволюции — наверное, главное научное открытие за последние двести лет — сформулировал один из бородатых мудрецов, которые собирались в Викторианскую эпоху в лондонском районе Брумли. Если у вас будет возможность попасть в Брумли, поближе познакомиться с его жителями и оценить их физические и интеллектуальные достоинства — вы поймете, как Чарльз Дарвин пришел к идее естественного отбора и выживания сильнейшего.
Это викторианцы изобрели почти все виды спорта и спортивные игры и придумали их правила. Именно вкус, воображение и инженерный талант викторианцев создал этот город таким, каким мы его видим сегодня. Я помню, как, будучи еще студентом, в период бума на пике восьмидесятых, вступил в спор с одним видным американским профессором. Я хотел доказать, что Британия и Лондон снова возрождаются. «Бросьте! — сказал он снисходительно. — Вы, ребята, и сегодня еще проедаете капиталы, сколоченные викторианцами». И по большому счету он был прав.
Взгляните на богатейшую лондонскую архитектуру, начиная с Королевского суда Лондона на Стрэнд до Мемориала принца Альберта или Музея естественной истории. Допустим, вам нужно найти символ Лондона — картинку для открытки, чтобы каждому, в любой точке мира сразу стало ясно, что речь идет о Британии. Вы конечно же выбираете шедевры Бэрри и Пьюджина — то есть здание палаты общин; и, когда вы смотрите на викторианскую архитектуру, с ее цветом, изысканностью и теплотой, вас не удивляет, что людям она нравится и сегодня она стоит все дороже.
Посмотрите на роскошную позолоченную панельную обшивку палаты лордов, оцените изящество и торжественность любой викторианской ратуши, а потом посмотрите на невыразительную серую сталь и бетон яйцевидной конструкции, в которой располагается штаб-квартира нынешней администрации Большого Лондона. Смотрите на нее — и рыдайте.
Все хотят жить в викторианском доме, типичном таунхаусе, в таком же, как мистер Путер, над которым все потешались, — со скребком для обуви у входа, классическим фронтоном и дверным проемом и аккуратненьким маленьким садиком на заднем дворе. Мы ежедневно сбрасываем продукты жизнедеятельности в огромный канализационный коллектор, проложенный под Лондоном гением Джозефа Базалджетта. Мы спускаемся на станции метро, построенного викторианцами, которое стало первой в мире железной дорогой под землей, и поезд уносит нас в тоннели, которые пробурили они. Прибывая на станцию главной линии лондонского метро, мы (практически всегда) видим частицу викторианской промышленной археологии.
Про один город в Америке говорят, что он построен на рок-н-ролле. Современный Лондон был построен на кирпиче и рельсе — и именно на викторианском кирпиче и рельсе. Но было еще нечто — еще один ресурс, который и позволил викторианцам козырять такими сооружениями. Еще одно изобретение, которое позволило инженерам перебросить виадуки через Холборн и прорыть тоннели под рекой.
Эта выдумка была поважнее, чем паровой двигатель или электричество. Это была возможность занимать деньги под разумный процент при уверенности, что вложения вернутся с прибылью и все сопутствующие навыки, которые сопровождают управление деньгами и рисками. В Лондоне были знающие люди, которые покупали долги, продавали долги, и тогда, как и сейчас, были люди, которые зарабатывали деньги, делая ставку на то, будет ли долг возвращен.
Величие викторианского Лондона зиждилось на превосходстве Сити над всеми конкурентами в сфере банковского дела. Уолтер Бейджгот в своей книге «Ломбард-стрит» заявил в 1873 году, что великая заслуга Сити перед всем миром заключается в идее привлечь частные средства в банковскую систему «Английские капиталы постоянно и неизбежно текут туда, где они наиболее востребованы и эффективны, как вода течет в сообщающихся сосудах». Благодаря лондонским коммерческим банкам и кредитным конторам сбережения производителей сидра из Сомерсета или линкольнширских старушек можно было использовать для строительства железной дороги в Америке или Пруссии, что и делалось.
Лондонские банки предоставляли гарантии, которые смазывали колеса мировой торговли. В 1858 году специальному парламентскому комитету доложили: «Бостонский коммерсант не сможет купить партию чая в Кантоне, не получив кредит от господ Мэтисонов или господ Барингов». Лондон стал центром международных финансовых услуг не только потому, что был сердцем растущей мировой империи, или потому, что был самым большим городом на Земле, или потому, что имел хорошую связь с другими столицами по кабелям, проложенным по дну моря — отчасти усилиями того самого, хоть уже и несколько потрепанного, корабля «Грейт Истерн». Все это очень важно, но главное не это. А главное в банковском деле — это то, что вы можете обнаружить и прочитать на каждой банкноте.
Главное — это гарантия, обещание заплатить. А обещанию требуется доверие, а доверять легче, когда все спокойно. И самой привлекательной чертой Лондона как средоточия международных банкиров было то, что он был столицей острова, который не подвергался внешним угрозам, был мирным и стабильным — по сравнению с Европой конечно же. Во многих отношениях наш остров был замечательным местом, где можно жить, пользуясь такой свободой слова и собраний, которую больше нигде не найдешь.
Со времен Средневековья банковское дело было профессией пришлых — в частности евреев; потрясения наполеоновской эпохи увеличили поток талантливых иммигрантов. Прибыв в Лондон, они обнаруживали здесь Барингов, которые всегда настаивали, что, несмотря на смутно-немецкую фамилию, они — о нет! — вовсе не евреи, а потомки лютеранского пастора, осевшего когда-то в Эксетере.
Им нравилось быть первыми во всем и всегда, с тех пор как Джон Баринг приехал в Лондон в 1763 году, и к началу XIX века в его семье было не менее пяти пэров, были замки, угодья для охоты на куропаток (аристократический атрибут), беговые лошади, элегантные жены и эксклюзивные связи в правительстве, которые не прерывались до 1995 года, когда банк Barings был эффектно уничтожен в Сингапуре мошенником-трейдером по имени Ник Лисон.
А еще были евреи-сефарды, которые бежали из Амстердама, когда его завоевали французы в 1795 году, а еще были евреи и неевреи из различных городов Германии, покоренных наполеоновской армией: Шредеры, Брандты, Хуты, Фрюлинги, Гошены. Были и греческие банкиры, бежавшие в Лондон от турецкого гнета. Гамбросы прибыли из Германии и Дании в 1840-м, Бишоффсхаймы и Гольдсмиты приехали в 1846-м, Кляйнворты — в 1855-м. Были и американцы, такие как Пибоди и Дж. С. Морган, отец Дж. П. Моргана; и были Ротшильды.
Ротшильды были не просто семьей; они были совместным предприятием, связанным друг с другом религией и ДНК. Они были империей, которая в каждой европейской столице держала по Ротшильду. Нет ничего удивительного, что появилось антисемитское сравнение с гигантским спрутом, охватившим своими щупальцами весь земной шар (метафора, которую недавно подхватили для характеристики Голдмана Сакса, хотя сегодня, в атмосфере всеобщих нападок на банки, спрут превратился в кровопийцу-кальмара, обвивающего лицо человечества).
Благодаря упорной работе и умению быстро считать в уме, Ротшильды стали богатейшими людьми в мире. По некоторым подсчетам, они заткнули Мидаса и Креза за пояс: они стали самыми богатыми из всех когда-либо живших людей. Они заработали свой первый миллион на сейсмических потрясениях наполеоновской эпохи.
«Война — отец всего сущего», — сказал Гераклит, и правда, это война породила международный рынок ценных бумаг. Если Наполеон и Веллингтон умели мобилизовать войска, то Ротшильды блистательно мобилизовали деньги. Говоря словами одного их восторженного современника, они были Finanzbonaparten — финансовыми Бонапартами, а Лондон был их главной столицей.
Все началось в 1577 году, когда во Франкфурте на Юденгассе — в Еврейском переулке — жил человек по имени Исаак Эльханан Ротшильд. В то время евреев очень ограничивали в выборе вида деятельности. Они не могли торговать оружием, пряностями, вином или зерном. Они должны были оставаться в гетто по воскресеньям и в христианские праздники. Они могли менять монету и давать деньги в долг — это да, но какого богатства они могли добиться — тут всегда существовал определенный предел.
Но французская революция 1789 года освободила франкфуртских евреев от этих оков — и некий господин по имени Мейер Амшель Ротшильд получил свой шанс. Мейер Амшель разбогател, действуя в основном как управляющий фондами изгнанного Наполеоном ландграфа Гессе-Касселя — осторожно, но эффективно собирая проценты с его активов.
Мейер был матерый хищник и сыновьям своим надавал кучу полезных советов — например, «Лучше иметь дело с правительством, у которого проблемы, чем с тем, у которого все хорошо» или «Если не можешь добиться, чтобы тебя любили, сделай так, чтобы тебя боялись» и самый страшный: «Если высокопоставленный чиновник вступает в (финансовое) партнерство с евреем, то начинает принадлежать еврею».
Один из сыновей особенно хорошо усвоил эти уроки. Это был Натан Мейер, которого сперва послали в Манчестер импортировать текстиль, а потом — в 1804 году — он переехал в Лондон, где основал банк N. М. Rothschild. Вскоре он уже помогал финансировать военную кампанию Британии против Наполеона. Когда испанские и португальские поставщики продовольствия перестали принимать бумажные деньги за снабжение армии Веллингтона в Пиренейской войне, Натан стал контрабандой переправлять через Ла-Манш слитки золота. К 1815 году счет N. М. Rothschild британскому правительству составлял приблизительно десять миллионов фунтов стерлингов — и лорд Ливерпул стал говорить о нем как об «очень полезном друге».
Он уже был признан гигантом биржи, и анонимный автор описывает, как он, бывало, стоял неподвижно, молча, облокотившись на знаменитую «колонну Ротшильда» и засунув тяжелые руки в карманы, и источал неподвижное, бессловесное и безжалостное коварство».
В том же духе продолжается этот дурно пахнущий отчет и дальше. «Глаза обычно называют зеркалом души. Нов случае с Ротшильдом можно заключить, что либо зеркало мутное, либо души нет» — и так далее. Натан, по версии данного автора, первым узнал о победе Веллингтона. Один из его курьеров чудом успел вскочить на корабль, отчаливший из Остенде. Натан пробежал глазами первый абзац — и пошел рассказывать правительству о том, что произошло.
Увы, ему не поверили, потому что правительство в Лондоне только что узнало о поражении англичан в Катр-Бра. Тогда он пошел на биржу. Кто-нибудь другой, как говорят в таких случаях, стал бы скупать по низкой цене правительственные облигации — консоли, — которые точно вырастут в цене, когда наконец-то придет добрая весть. Кто-нибудь другой, но не Натан. Он был не так прост.
Он облокотился на свою колонну с непроницаемым выражением свинцовых глаз. Вместо того чтобы скупать консоли — правительственные облигации, — он их продавал. Он обвалил их. Он продавал их так быстро и много, что на бирже началась паника. «Натан Ротшильд что-то знает! — заключили трейдеры. — Он, должно быть, узнал от своих агентов, что Ватерлоо проиграно».
«Ватерлоо проиграно!» — пробежал слушок. Натан продолжал продавать. Цена консолей упала — и, промедли он еще хоть секунду, покупать было бы поздно. Но он успел купить вовремя. Он скупил огромное количество британских консолей за бесценок — как Эдди Мерфи и Дэн Эйкройд в кульминации фильма «Поменяться местами», когда они скупали подчистую весь замороженный апельсиновый сок и монополизировали рынок.
И вдруг — буквально через несколько мгновений — пришло известие о великой победе Веллингтона, и консоли вновь взлетели в цене. Все эти ценовые скачки на бирже принесли их организатору от 20 до 135 миллионов фунтов стерлингов. «Мы и представить себе не можем, сколько надежд и сколько состояний поглотила эта искусственно организованная паника», — повествует дурно пахнущая «История семьи Ротшильдов», изданная в 1960 году. Вы не удивитесь, что именно эту версию в 1940 году педалировал Йозеф Геббельс, при этом он добавлял одну интересную деталь — этот скользкий Ротшильд, мол, подкупил французского генерала, чтобы тот проиграл сражение.
На самом деле же все было немного иначе. Подобно Эсхилу, пирующему на объедках гомеровского праздника, я беру за основу замечательную буффонаду Нейла Фергюссона длиною в тысячу страниц — «Дом Ротшильдов». Ватерлоо едва не стало катастрофой для Ротшильдов, пишет он, потому что они запаслись огромным количеством драгоценных слитков в расчете на то, что война продлится намного дольше. Да, действительно, разведка Ротшильда первой принесла сенсационную новость о Ватерлоо, но то, когда именно они получили это известие, не имело значения. Для них это была плохая новость.
Армии теперь будут распущены. Войска теперь не нужно будет снабжать. Цена на золото упадет — им предстоят катастрофические потери. Тогда Натану Мейеру Ротшильду пришла в голову другая мысль — и вовсе не такая непатриотичная (а он был гражданином Великобритании), как утверждал Геббельс, но почти такая же хитроумная. Он решил, что весть об окончании войны будет в общем-то хорошей новостью для британского правительства, так как его долг уменьшится. И потому, решил он, акции британского правительства вырастут в цене.
И он стал скупать эти консоли еще и еще и продолжал покупать их еще очень долго — и после того как его конкуренты решили, что эти акции больше не будут расти в цене, а братья испугались и просили его быть поосторожнее. Он продолжал скупать их весь год, пока цена не выросла на 40 % по сравнению со стартовой, а тогда — вот тогда-то он их и продал и действительно получил колоссальную прибыль — около 600 миллионов фунтов стерлингов.
Барингам оставалось только смотреть с изумлением и уважением. «Деньги — это Бог нашего времени, — сказал немецкий поэт еврейского происхождения Генрих Гейне, — а Ротшильд — пророк его». Когда в 1836 году Натан Мейер Ротшильд умер, его семья была в фокусе европейской политики. Ему благосклонно внимали все правители и премьер-министры континента, а его мнение в мире финансов имело такое значение, что, как говорят, и войну невозможно было начать, не посоветовавшись с Ротшильдом. Его личное состояние составляло 0,62 % ВВП Британии.
Лайонелу и его семье не хватало только одного. Если вспомнить клевету и злословие, которые сопутствовали его удаче после Ватерлоо, нетрудно догадаться, чего именно ему не хватало. Ему не хватало признания. Бытовым хамством, антисемитским презрением успешного еврейского банкира не удивишь. Но была и институциональная дискриминация — закрепленная законодательно. Третье поколение Ротшильдов твердо решило покончить с ней.
Сын Натана Мейера Лайонел провел тогда десятилетнюю кампанию за права евреев, в первую очередь за свои права, добиваясь допуска в лучший клуб Лондона — палату общин. В соответствии с древней традицией и практикой вновь избранный парламентарий должен был принести присягу, составленную в чисто христианском духе. Это, естественно, было недопустимо для ортодоксального еврея. Пользуясь поддержкой либеральной партии и прессы, Лайонел решил выступить против этого.
Летом 1847 года он выдвинул свою кандидатуру от лондонского Сити. Редактор The Times Джон Тадеус Делан поддержал его и написал его предвыборное обращение. The Economist также оказал ему поддержку. А вот такой мракобес, как Томас Карлайл, заявил, что Лайонел предложил ему щедрое вознаграждение, чтобы он написал статью в защиту еврейской эмансипации, а он отказался. «Еврей — это уже плохо, что уж говорить про обманщика-еврея, шарлатана-еврея? И как может настоящий еврей вообще пытаться стать сенатором или хотя бы просто гражданином любой страны, кроме своей собственной несчастной Палестины, куда направлены все его мысли, шаги и усилия?»
Злоба Карлайла была совершенно беспочвенной. Лайонел применил обычный способ решения проблемы — он выделил серьезные суммы на подкуп электората, ведь электорат подкупали всегда еще со времен Джона Уилкса, — и гордо вошел в парламент, заняв третье место в многомандатном избирательном округе. Как сказал его брат Нат, это был «потрясающий триумф семьи, равно как и полезнейший пример для бедных евреев в Германии и во всем мире».
Но вот ведь незадача: чтобы занять место в парламенте, он все-таки должен был принести присягу, основанную «на вере христианской». Недостаточно было избраться, будучи евреем. Надо было убедить парламент изменить порядок принесения присяги. Тут за дело взялся Дизраэли — взялся с огромным энтузиазмом.
Этот пейсатый романист и политический авантюрист был выкрест — его крестили, когда ему было двенадцать лет, — но он был стопроцентным евреем по происхождению и по предпочтениям. Ему нравился Лайонел Ротшильд. В романе «Танкред» у него даже есть отрывок, в котором он восхищается империей Ротшильда. Ева спрашивает Танкреда: «Какой город самый большой в Европе?» — «Без сомнения, столица моей страны — Лондон…» — «Каким же богатым должен быть здесь самый уважаемый человек… Скажи мне, он христианин?» — «Я думаю, что он принадлежит к той же расе и вере, что и вы». — «А в Париже — кто самый богатый в Париже?» — «Я полагаю, брат самого богатого человека в Лондоне». — «Ну тогда про Вену я уже все знаю», — сказала леди, улыбаясь. «Цезарь назначает моих соотечественников наместниками в разных частях империи — и правильно: если б не они, она бы распалась на части за неделю».
Лайонел помогал Дизраэли спекулировать акциями французских железных дорог, а в описываемый период одолжил Дизраэли большую сумму, чтобы тот мог платить за любую недвижимость и жить той жизнью, которой он — по собственному мнению — достоин. Жена Лайонела — очаровательная брюнетка по имени Шарлотта — была дружна с женой Дизраэли, Мэри Энн. Надо сказать, бездетная Мэри Энн испытывала несколько странную привязанность к пяти «прелестным» деткам Лайонела и Шарлотты.
От имени своего спонсора и евреев вообще Дизраэли ввязался в драку с парламентом и выдвинул абсолютно безнадежный аргумент: что якобы евреи, убив Христа, выполнили Божий промысел. Они «выполнили благое намерение» Господа и «спасли род человеческий», — заявил он ошарашенным парламентариям. Христианство стало завершающей фазой иудаизма, утверждал Дизраэли, пользуясь случаем, чтобы объяснить публике свою собственную сложную идентичность.
Либералам его слова понравились. А однопартийцы-консерваторы были в шоке. 138 человек, а может, и больше взбунтовались против руководства партии. Август Стаффорд вопрошал: «И что же, по-вашему, я должен соглашаться, когда Дизраэли утверждает, что нет разницы между теми, кто распял Христа, и теми, кто преклоняет колени перед распятым Христом?» Тори обнажили свои первобытные инстинкты. Они вновь предстали перед публикой как партия лозунга «Ни папства, ни евреев!». Их лидер Бентинк в отчаянии покинул свой пост — от стыда за реакционный дух, исходящий от однопартийцев.
Несмотря на протесты тори, закон прошел через палату общин. Нов палате лордов вопросу еврейской эмансипации предстояла пытка пострашнее. В день, когда состоялось обсуждение, в мае 1848 года, жена Лайонела Шарлотта сидела, ожидая возвращения мужа из Вестминстера. Они вернулись в 3.30 утра. Лайонел все еще улыбался — «он всегда был тверд и сдержан», — но другие Ротшильды и их сторонники были вне себя от ярости и возмущения. Ей запретили читать газетные отчеты о дебатах — это был просто стыд и срам!
«Я уснула в пять и опять встала в шесть; мне снилось, что огромный вампир жадно сосет мою кровь… Как выяснилось, когда огласили результаты голосования, рукоплескания и крики одобрения раздались… по всей палате лордов! Ну чем мы заслужили такую ненависть?! В пятницу я весь день рыдала и плакала от обиды, не в силах успокоиться».
Совет епископов выступил против закона, особенно Уилберфорс, который пошел еще дальше — он стал отрицать теорию эволюции и выступил полным идиотом. Герцог Камберленд, дядя королевы, сказал, что это «ужасно» — допускать в палату общин людей, которые отрицают существование нашего Спасителя.
В конце концов Лайонел пошел на рискованный (хоть и предсказуемый) шаг. Он просто подкупил членов палаты лордов. «Не плати им, пока закон не утвердят, — советовал ему его брат Нат. — Ты так доверяешь им, когда речь идет об этом законе. Потом происходит голосование, а кто как голосовал — ты ничего об этом не знаешь». Он даже было начал операцию по подкупу принца Альберта, потому что супруг королевы, как говорили, имел влияние на лордов.
В июле 1850 года, за несколько дней до того, как Лайонел сделал еще одну попытку занять свое место в парламенте, произнеся модифицированную версию присяги, он внес 50000 фунтов стерлингов в фонд финансирования любимого проекта принца Альберта — грандиозной выставки, гордостью которой был Хрустальный дворец в Гайд-парке. Когда вы смотрите сегодня на великолепное наследие Альбертополиса, Всемирной выставки 1851 года с ее музеями, Альберт-Холлом — вспомните Лайонела Ротшильда, борьбу за еврейскую эмансипацию и тонкое искусство подкупа королевской особы.
В 1857 году, после десяти лет упорной борьбы с британским истеблишментом, Лайонелу наконец-то позволили занять его место в парламенте. По предложению графа Лукана (еще не остывшего от кровавой бойни в Крыму, которую он учинил) палата общин согласилась изменить процедуру, и евреям разрешили приносить клятву верности, пропуская слова «с истинной верой христианской».
Это была полная и окончательная победа Лайонела, его семьи и их несгибаемой воли. И дело не в том, что он стал постоянно заседать в палате общин и регулярно выступать с речами и все такое, — нет, это просто было делом принципа. Лондонские Ротшильды оказали огромные услуги своей приемной родине. Они финансировали войну с Наполеоном и тем самым, как теперь говорят, «спасли континент от тирании».
Они помогли превратить Лондон в международный рынок ценных бумаг и тем самым укрепили его статус финансовой столицы мира. Они показали, как частные инвестиции позволяют осуществлять большие инфраструктурные проекты, особенно строительство железных дорог, которые так важны для стабильности и конкурентоспособности. Они помогли Британии заполучить в собственность Суэцкий канал, что принесло империи неизмеримые преимущества.
Благодаря упорству Лайонела они добились чего-то еще посерьезнее. В то время когда другие города Европы после 1848 года захлестнула волна антисемитизма, Лайонел помог провести пусть небольшие, но давно назревшие изменения законодательства во имя гуманизма и здравого смысла. Ротшильды немало сделали для открытости, терпимости и плюрализма. А эти жизненно важные черты и теперь, вот уже 150 лет, обеспечивают привлекательность Лондона и так трагически контрастируют с тем, что произошло в Германии — на родине Натана Мейера Ротшильда, в стране, которая потом стала главным экономическим конкурентом Британии.
Следует отметить, что Ротшильды XX столетия не смогли повторить успехов своих предков. В какой-то момент семья упустила возможность прорыва в Америке, и, наверное, в своей борьбе за интеграцию в общество они зашли слишком далеко. Они не только подражали Барингам, вылезая из кожи вон в борьбе за пэрство, они поддались пороку всех успешных торговцев нашей страны и практически переродились в натуральных аристократов-феодалов, разодетых в твидовые костюмы и стреляющих куропаток.
Семья понастроила кучу огромных стилизованных замков и дворцов по всей Британии и континенту — сорок один, по последним подсчетам — от Ганнерсбери-парка до Уоддесдона, от Ферьера-ан-Бри до Кап-Ферре. Такие вещи требуют времени и ухода. Нужно дрессировать лошадей, нужно лелеять дендрарии, нужны слуги, к которым нужно относиться деликатно. Все это распыляет финансовую мощь. Натан Мейер этого не одобрил бы.
Сегодня на глянцевых обложках и в заголовках иногда мелькает какой-нибудь молодой Ротшильд, устроивший сногсшибательную вечеринку на яхте у побережья бывшей Югославии. Но никто не станет с ним советоваться, если потребуется начать войну. Ганнерсбери-парк, загородную «дачу» Натана, превратили в музей. Уоддесдон продали семье Гетти, а Пиккадилли, № 148, просто испарился.
Но если кто любит исторические реликвии — им будет приятно узнать, что N. М. Rothschild все там же, где была при Дизраэли, и эта фирма продолжает давать дельные советы по вопросам финансирования и транспортной инфраструктуры. Именно к ее услугам прибегли при создании государственной службы «Транспорт Лондона», когда окончательно решили закрыть безобразную «Службу частно-государственного партнерства» и создали более совершенный план модернизации метро.
Когда я размышляю о варварском сносе Пиккадилли, № 148, и утраченном спокойствии Парк-лейн, я вспоминаю о другом потенциально важном элементе транспортной инфраструктуры. Где-то в анналах департамента транспорта пылится блестящий план, позволяющий совместить скорость и практичность городского шоссе Эрнста Марплза и при этом превратить Парк-лейн и западную часть Пиккадилли в нарядный и изысканный цветочный бульвар, какими они когда-то и были. Можно поместить Парк-лейн в тоннель, а деньги на это привлечь за счет продажи дорогущей недвижимости, которую построят на западной стороне улицы — там, где Марплз крушил дома своей шар-бабой.
Конечно, обойдется все это недешево и придется обратиться в банк за финансовой помощью под разумный процент. Лайонел Ротшильд точно знал, как это делается, но и сейчас в Лондоне есть множество банков, которые хорошо усвоили его уроки.
В тот год, когда проходила выставка, которую финансировал Лайонел Ротшильд, сотни тысяч, если не миллионы лондонцев жили в бедности, в хибарах, заваленных кучами мусора, которые смердели так, что эта вонь — по словам Чарльза Диккенса — могла свалить и быка.
Самые бедные едва ли могли позволить себе купить входные билеты, и карикатуры того времени изображали бедняков с вытаращенными глазами, прижавшихся лицом к окну. Их слабо утешало, что они жили в самом передовом городе мира, которому небесами предначертано повелевать морями и собирать богатства планеты на алтарь Мамоны, построенный принцем Альбертом в Кенсингтоне.
На современный вкус, эта Всемирная выставка является апофеозом самых неприемлемых взглядов — ничем не обузданного капитализма, расизма, колониализма, империализма, а также сексуального и культурного неравенства.
Поэтому не следует забывать, что викторианский капитализм дал возможность настолько поднять уровень жизни и бытовых удобств, что это привело к величайшей социальной революции с начала книгопечатания: я имею в виду эмансипацию женщин. К концу столетия на улицах появились суфражистки, требующие избирательного права для женщин. Задолго до этого в Лондон приехали две женщины, которые бросили мужчинам вызов — они не согласились с отказом в удовлетворении своих требований. И одна из них принадлежала к этническому меньшинству.
Деньги — это Бог нашего времени, а Ротшильд — пророк его.
Генрих Гейне. S?mtliche Schriften, Vol. V
ПИНГ-ПОНГ
Из всего, что дали миру викторианцы, самым вездесущим, конечно, является спорт. Помню, весь мир был в шоке, когда президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что футбол изобрели в Китае, — кто-кто, а уж он-то точно знает, что правила этой игры, объединившей человечество, написаны в Лондоне в 1863 году. Может, цуцзюй и интересная игра — игра III века до н. э., в которой какую-то кожаную штуковину надо протолкнуть ногами через дырку в шелковом полотне, — но это не футбол.
Корни современных Олимпийских игр уходят в Мач-Венлок в Шропшире, где в 1850 году местный врач по имени Уильям Пенни Брукс учредил Венлокские игры — мероприятие, где проходили всякие силовые состязания, включая гонки на тачках и соревнования по пению. Затея оказалась такой удачной, что он засыпал письмами короля Греции, премьер-министра Греции и греческого посла в Лондоне, и в каждом письме был пылкий призыв возродить Олимпийские игры у себя дома, в Афинах, к немалому изумлению греков. Его идею со временем подхватил англофил и фанат спорта барон де Кубертен.
И пошло — на протяжении всего XIX века один вид спорта за другим получал свой свод правил, и писались они в Британии — обычно в Лондоне. В 1866 году в Вест-Бромптоне был основан Атлетический клуб, позже — Любительская атлетическая ассоциация, которая и разработала правила и стандарты для всех современных видов легкой атлетики. Во все времена мужчины били друг друга по голове, и бокс упоминается даже в «Илиаде». Но именно в Лондоне в 1867 году маркиз Куинсберри дал свое имя современному своду правил с подробным описанием требований к перчаткам, правильного удержания и т. д. В 1871 году компания из тридцати двух крепких викторианцев встретилась в ресторане Pall Mall на Кокспер-стрит и основала союз регбистов. В 1882 году гребцы организовали Ассоциацию любительской гребли, чтобы поставить в рамки правил бешеные гонки, которые устраивались на Темзе. Вы можете наткнуться на древнегреческие барельефы, определенно изображающие игру в хоккей, но правила современной игры были написаны только в 1886 году с основанием хоккейной ассоциации.
Современный большой теннис изобрела эксцентричная личность по имени майор Уолтер Клоптон Уингфилд, и игра изначально называлась sphairistike, или «липкий». В 1888 году изменили форму корта — вместо «песочных часов», т. е. двух треугольников, которые предпочитал Уингфилд, корту придали форму прямоугольника, и так появилась Ассоциация большого тенниса. Ракеткой первыми стали играть узники долговых тюрем Лондона. Первый в мире корт для сквоша появился в Хэрроу. Международный дом крикета находится в Мэрилебоне. Первые в мире организованные соревнования по плаванию состоялись, кажется, на озере Серпентайн в 1837 году.
И во всех случаях видим одно и то же: викторианцы берут какую-нибудь древнюю забаву, забавляются до одурения, а потом формулируют ее правила — частично потому, что без правил невозможно воспитать у школьников понятие о «честной игре», а частично потому, что без правил непонятно, кто в конечном итоге выиграл пари.
Но есть одна игра, которая, похоже, всегда была чисто британской, целиком и полностью — не только правила, но и сама идея. Викторианцы были людьми настолько энергичными, что в 1880 году придумали себе новое послеобеденное развлечение. Они освободили стол и установили посередине книги в ряд торцом кверху, и получился барьер. Потом сделали мячик-снаряд из обрезанной пробки от шампанского, или шнура, или еще чего-нибудь, что было под рукой, и книжкой или крышкой от сигарной коробки стали бить по этому мячику, посылая его туда-сюда через стол.
В 1890 году появилась первая запатентованная версия игры, в которой использовался 30-миллиметровый резиновый шарик, покрытый тканью, ракетки со струнами и низенький деревянный бортик по периметру стола. Через год лондонская компания по созданию игр John Jaques представила публике игру под названием «госсима», где был 50-миллиметровый мячик из пробки, сетка высотой 30,5 см, ракетки из пергамента — отсюда название «пинг-понг» (такой звук издавала ракетка при ударе по мячу).
Вскоре на рынке появились и другие варианты, под названиями типа «виф-ваф», «пом-пом», «пим-пам», «нетто», «салонный теннис» и «настольный теннис». Прошло немного времени, и все они исчезли, кроме двух, — выжили пинг-понг и настольный теннис, но, поскольку у них были разные правила, в 1903 году их создатели решили покончить с путаницей и создали Ассоциацию настольного тенниса.
Интересно, почему это чудо родилось именно на английских обеденных столах. Может, это как-то связано с паникой, которую испытывает англичанин перед необходимостью поддерживать послеобеденную беседу. Может, это объясняется безразличием к еде, а может, дождем, который всегда мешал играть на улице. А может быть, причина в том, что викторианцы были богаче всех на свете и у них была куча свободного времени, чтобы лупить друг в друга пробкой от шампанского.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
ГЛАВА II На чьи деньги Герцен бил в свой «Колокол», или Зачем барон Ротшильд шантажировал русского царя
ГЛАВА II На чьи деньги Герцен бил в свой «Колокол», или Зачем барон Ротшильд шантажировал русского царя Россия налегла, как вампир, на судьбы Европы. А. И. Герцен Если мы хотим чем–то помочь какому–нибудь делу, оно должно сперва стать нашим собственным, эгоистическим
Глава 1 НЕПОТОПЛЯЕМОЕ СУДНО, ИЛИ ИСТОРИЯ СЕМЬИ РОТШИЛЬД
Глава 1 НЕПОТОПЛЯЕМОЕ СУДНО, ИЛИ ИСТОРИЯ СЕМЬИ РОТШИЛЬД Процессия в
Лайонел и его братья
Лайонел и его братья В Англии завоевывать ярмарку тщеславия пришлось долго и сложными путями. И это не было сиюминутным делом. Натан умер так внезапно и так рано, что его лондонским наследникам пришлось много поработать, чтобы подтвердить свое право на место в деловом
Дамы семейства Ротшильд
Дамы семейства Ротшильд
МЕИР РОТШИЛЬД
МЕИР РОТШИЛЬД (1744—1812)В Юденгассе (Еврейском переулке) в гетто немецкого города Франкфурт-на-Майне номерным знакам домов предшествовали цветные знаки, обозначавшие фамилии семей и занятия. Фамилия «Ротшильд», или «Красный щит», была образована от такого знака.Хотя и нет
Олигарх и барон Виктор Ротшильд – спонсор «кембриджской пятерки»
Олигарх и барон Виктор Ротшильд – спонсор «кембриджской пятерки» Созданная советской разведкой перед Второй мировой войной агентурная сеть Англии, известная во всем мире как «кембриджская пятерка», на самом деле включала в себя гораздо больше источников информации,
Ротшильд в Париже
Ротшильд в Париже Обращает на себя внимание систематическое использование Ротшильдом мест своего проживания в служебных целях. Так, после освобождения в августе 1944 года Парижа Ротшильд расквартировал свое антисаботажное подразделение в собственном особняке, где до
Так был ли Ротшильд агентом?
Так был ли Ротшильд агентом? Чтобы быть завербованным, нужно попасть в поле зрения резидентуры иностранной разведки и оказаться в окружении агентуры, которая способна оценить разведывательные возможности кандидата, создать условия для предложения о сотрудничестве и
МАЙЕР АМШЕЛЬ РОТШИЛЬД – ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ ФИНАНСОВЫХ МАГНАТОВ
МАЙЕР АМШЕЛЬ РОТШИЛЬД – ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ ФИНАНСОВЫХ МАГНАТОВ Свободный город Франкфурт-на-Майне с периода раннего средневековья привлекал к себе евреев своим расположением в центре оживленной торговли. В течение последнего тысячелетия здесь успешно велись