15. Открытки туземцев
15. Открытки туземцев
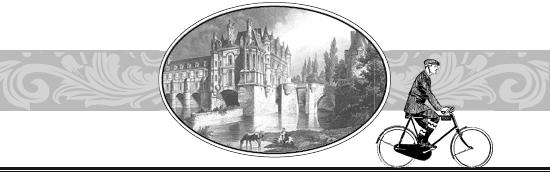
Через полтора века после экспедиции Виндхема в ледники Савойи, когда велосипедисты преодолевали Пиренеи и первые автомобили, пыхтя, катились по пыльным дорогам Франции, было трудно поверить, что осталось еще что-то неисследованное. Однако самый большой в Европе каньон каким-то образом оставался незамеченным до 1896 года, хотя находился всего в 20 милях от столицы департамента, и это позволяет предположить, что страна была вовсе не так хорошо изучена, как казалось. В 1869 году в ежедневной газете было напечатано, что скоро станет возможно объехать вокруг земного шара за 80 дней, пользуясь туннелем Мон-Сенис и Суэцким каналом. Жюль Верн прочитал эти статьи и использовал заголовок в названии своего романа «Вокруг света за восемьдесят дней» (1873), в котором Филеас Фогг посвящает проезду через Францию всего четыре строчки своего дневника:
«Отъезд из Лондона – среда, 2 октября, 8.45 вечера.
Прибытие в Париж – четверг, 3 октября, 7.20 утра.
Отъезд из Парижа – четверг, 8.40 утра.
Прибытие в Турин через туннель Мон-Сенис – 4 октября, 6.35 утра».
Благодаря железным дорогам пересечение Франции занимало чуть больше дня при условии, что путь начинался и кончался в крупных городах. В 1860-х годах, по словам сотрудника Дюма Жозефа Мери, Париж находился на расстоянии «всего тридцати трех сигар» от Марселя. Писатель Амеде Ашар с нетерпением ждал открытия железнодорожной ветки, которая приблизит курорт Трувиль на побережье Нормандии к Итальянскому бульвару «на расстояние четырех сигар». Это значит, что пассажир, выкуривая одну сигару, успевал проехать 15 миль в поезде, который двигался со скоростью максимум 38 миль в час. Рабочие-мигранты измеряли расстояние не сигарами, а съеденным хлебом и изношенными башмаками, но и они начали пользоваться поездами, когда поняли, что несколько часов езды в вагоне третьего класса обходятся дешевле, чем пять дней пути по дорогам.
Автор, который опубликовал дневник своего анахронического путешествия в восстановленной старинной карете «От Парижа до Ниццы за восемьдесят дней» (1889), считал себя первооткрывателем прошлого, проводником, который указывает читателям путь во времена, когда люди отправлялись в поездку, а не просто «перемещались из одной точки в другую». Он знал, что удовольствие и открытия находятся в обратном отношении к скорости: чем быстрее транспортное средство, тем меньше видит из него человек и тем более долгим кажется время в пути. Раньше, в трясущихся дилижансах, люди пели песни и рассказывали истории; в поездах они научились ненавидеть своих собратьев-пассажиров. Героический настрой спутников, которые вместе терпят неудобства, уступил место капризному нетерпению современного путешественника. В 1882 году Генри Джеймс после «шести недель непрерывной езды по железным дорогам Франции» втискивал свое тело в вагон экспресса, направлявшегося на север из Марселя и «нагруженного немцами, которые овладели окнами и удерживали их так же стойко, как – это нам известно – они раньше удерживали другие стратегические позиции». И тут он мысленно задал себе вопрос: а стоило ли ему вообще терпеть все это беспокойство – «убийственный зал ожидания, невыносимые задержки из-за багажа, платформы без носильщиков, поезд, переполненный малообразованными и нетерпимыми к чужому мнению людьми». Самое лучшее, на что мог надеяться современный путешественник, – забвение. «К счастью, поездка по железной дороге очень похожа на плавание по морю: пережитые во время ее несчастья стираются из ума, как только вы прибываете на место».
Никогда до этого человек не мог, пересекая страну, узнать так мало. Уже в 1850-х годах большие дороги из Парижа обезлюдели: поток пассажиров стал течь по железнодорожным линиям. Путешественник, ехавший на восток через равнины провинции Бри, был так же одинок, как был бы перед Французской революцией. Принятый в 1879 году план Фрейсине, согласно которому миллиарды франков были вложены в систему железных дорог, чтобы подхлестнуть развитие экономики, оставил без работы кузнецов, возчиков, хозяев гостиниц и крестьян, которые зарабатывали себе на жизнь, поставляя еду для голодных путешественников и корм для их лошадей. Коровы и цыплята снова завладели серединами дорог. Полосы вдоль дорог, которые описывали путеводители, стали еще уже, чем раньше. В эпоху пара мир словно сжимался до невидимо малого размера и исчезал.
Виктор Гюго заметил это во время поездки в Бордо, когда ехал в дилижансе. Теперь это сжатие пространства стало заметно даже на реках. Жан Ожье в своем путеводителе для тех, кто путешествует по железным дорогам и рекам от Лиона до Авиньона (1854), задумывался над тем, чем туристам заняться, когда их транспорт наберет скорость и начнет пересекать пространство между городами. Когда пароход «Город Авиньон» или «Миссури» отплывал из Лиона, пассажиры могли разглядеть табачную фабрику, тюрьму, ипподром и бойню, но потом какие-либо подробности делаются недоступны глазу: скорость парохода становится такой, что города, деревни, фермы, замки, равнины, горы, долины и овраги проносятся мимо нас, исчезая через мгновение и сливаясь все вместе в одном взгляде. Мы увидим много, но узнаем очень мало.
Прогрессивные политики того времени были бы в восторге от современных рассказов о Франции XIX века – стране, где панорамы состоят из прямых линий и поезда мчатся через сливающиеся в расплывчатое пятно пейзажи. Им казалось, что цифры – количество миль, которые проезжают пассажиры, и длительность поездок – отмечают путь прогресса, как освещенные километровые столбы в туннеле Мон-Сенис. Но большинство людей, ставших свидетелями развития железных дорог, видели нечто совсем иное.
Человек, после долгого отсутствия вернувшийся в родной край в 1860-х или 1870-х годах, за первые несколько минут сделал бы больше открытий, чем турист за восемь дней поездки по Франции. Он мог прийти по железной дороге – не приехать в вагоне, а именно прийти по путям, потому что ровная, хорошо осушенная железнодорожная насыпь часто была лучшей дорогой в краю, а поезда на местных ветках двигались так медленно, что люди, жившие вдоль дороги, запоминали лица в окнах вагонов.
Эту картину легко себе представить. По обеим сторонам дороги поля стали больше по размеру и однообразнее; они тянутся к горизонту, а не лепятся к городу. Некоторые из них выглядят менее ухоженными, чем раньше: участки, когда-то занятые злаками, были отданы под пастбища для скота, который шел в пищу железнодорожным рабочим. Рабочие ушли, но оставили в памяти людей шрам, такой же глубокий, как их туннели и выемки, – воспоминания об их буйстве в дни зарплаты, смеси разных диалектов, ругани и невероятной грубости. Вися на веревочных лестницах, они закладывали взрывчатку в скалы, а потом отталкивались ногами и, как правило, оказывались достаточно далеко, чтобы уцелеть при взрыве. Землекопы, среди них были и мужчины и женщины, стали грубыми миссионерами нового мира, где время измерялось минутами, а ценность человеческой жизни деньгами.
Даже на расстоянии были заметны признаки нового богатства – блеск стеклянных окон и железных крыш, ряд труб на горизонте над печами для обжига извести и бетонная колокольня церкви. Место на краю городка, куда женщины приходили брать воду, опустело, потому что местный житель, разбогатевший в Париже на торговле углем, оплатил постройку безопасного водопровода, а заодно и фонтана в память о своей щедрости. Старых городских ворот больше нет, и кто угодно может войти в город после наступления темноты. В самом городе в западную стену церкви встроен циферблат размером с витражное окно. Часы на ратуше, которая стоит напротив церкви, по другую сторону площади, показывают не то время, что на церковных часах, а другое – приблизительно среднее по звону колоколов всех соседних деревень. Дело в том, что деревенские колокола отбивают один и тот же час друг за другом, и это продолжается полчаса, а иногда и дольше. Третьи часы, на станции, не согласны ни с часами ратуши, ни с церковными. Железная дорога принесла сюда на циферблатах часов машинистов парижское время. Официальное время шагает по линиям долготы, не обращая внимания на движение солнца. Парижское время на двадцать минут отстает от времени Ниццы, но на двадцать семь минут опережает время Бреста, где люди постоянно, приходя на станцию, узнают, что их поезд давно ушел. Переносные солнечные и водяные часы скоро станут редкостью и сохранятся лишь у коллекционеров. Людей раздражает стандартное время – они считают, что его навязывают чиновники. Так же было и с десятичной системой, без которой многие обходятся и теперь, через сто лет после того, как ее ввели. В селении Бертувиль, в Нормандии, звонарь менял летнее время на зимнее в течение дня, нарушая этим распорядок жизни животных и людей.
Новый дорожный знак и официальные извещения перед входом в город указывают, что даже имя у города теперь новое – перевод прежнего имени на французский. В департаменте Приморские Альпы городок, который на альпийском диалекте гаво назывался Сан-Сальвадор, был переименован в Сен-Совёр – оба названия означают одно и то же – «Святой Спаситель». Потом его назвали Сен-Совёр-на-Тине (Saint-Sauveur-sur-Tin?e), чтобы отличить его от тридцати девяти других Сен-Со вёров, с которыми он теперь находится в одной и той же стране. Этого потребовали администраторы почтового ведомства, чтобы не было путаницы. По иронии судьбы названия некоторых старых краев – «пеи» были увековечены для удобства администрации: появились такие названия, как Вашер-ан-Кен, Рошфор-ан-Вальден, Обри-ан-Эксм, Конш-ан-Уш[59] и т. д. В других городах и деревнях жители, которые вдруг почувствовали, что на них смотрит вся страна, стали стесняться названия своего населенного пункта и попросили дать ему другое имя. Жители селения Трамблевиф («трамбле» по-французски «дрожать»), в болотистой Солони, опасаясь, что это название станет напоминать людям из других мест о болотной лихорадке и сильной дрожи, которую та вызывала, сменили его на Сен-Виатр (на самом деле «Трамблевиф» происходит от латинских слов, означавших «осина» и «деревня». – Авт.). В 1865 году Мердонь, чье название было похоже на слово «дерьмо», получает более славное имя Жергови в честь города Герговия, возле которого галлы одержали великую победу над Юлием Цезарем.
Мужчины обсуждают эти и другие вмешательства в местную жизнь по воскресеньям на площади, пока женщины находятся в церкви. Мужчины по-прежнему говорят на своем диалекте, но в их речи много новомодных французских слов, которые выглядят как джентльмены в цилиндрах на сельской ярмарке: agriculture, d?mocratie, ?conomie, salaires[60]. Появилась новая тема – политика, ее принесли сюда призывники и мигранты, почтальоны и железнодорожные инженеры, проповедники социализма, которых послал из Парижа Центральный комитет их партии, и странствующие торговцы, которые продавали манифесты вместо магических заклинаний. В городском кафе изображения Наполеона и Девы Марии, прилепленные к стене дрожжами, уступили место фотографии политических лидеров. Некоторые из этих снимков потом срывает жандарм по приказу из Парижа. Кое-кто из местных граждан голосовал на выборах в местный совет в 1831 году, но таких было мало. Гораздо больше людей голосовали в 1849 году, после Февральской революции, а потом за Наполеона III на плебисците 1852 года. Кто-то сделал это ради бесплатной выпивки, которую предложил владелец местной фабрики, или веря, что Наполеон III – новое воплощение своего дяди: многие считали, что Наполеон Бонапарт имел сверхъестественные способности.
Когда в декабре 1851 года новый Наполеон устроил свой переворот, жители многих городов и деревень, особенно на юго-востоке, восстали против диктатора. Зверская жестокость, с которой были подавлены эти восстания, и мания преследования, охватившая полицейское государство, которое посылало шпионов ездить в поездах и записывать «антиправительственные высказывания» пьяных крестьян, придают этим столкновениям местного масштаба внешнее сходство с современной политикой. Но для вернувшегося домой местного уроженца было очевидно, что жизнь идет по-старому, несмотря на социалистические слоганы и имперскую пропаганду. Придя в ратушу, чтобы зарегистрировать свое пребывание в родной коммуне, он видит сидящего в побеленной известью комнате, между фотографией императора и шкафом с муниципальными архивами, чиновника – старшего из сыновей самого богатого местного фермера. Демократия или видимость демократии создала свои правящие династии. Некоторые мэры занимали свои посты больше тридцати лет. Жозеф Пик, который тридцать шесть лет (1884 – 1919) управлял пиренейским селением Одрессен и чья гидравлическая молотилка до сих пор остается там главной достопримечательностью, был фермером, столяром-краснодеревщиком, владельцем фабрики и скотоводом. При таких обстоятельствах трудно отличить коррупцию от племенной чести. Драматург Эжен Лабиш, известный своими водевилями, говорил, что «мэр – это тот житель коммуны, дом которого окружают самые ухоженные дороги». А поскольку Лабиш сам одиннадцать лет был мэром Сувиньи-ан-Солонь и владел в тех местах 2200 акрами земли – пятой частью коммуны, его слова были основаны на личном опыте.
В провинциях политика тогда еще не была «бессердечной наукой» идеологов и карьеристов. Право голоса рассматривалось как право нанести удар давнему врагу – чужакам, которые лезут не в свои дела, семьям, разбогатевшим во время революции, жителям соседней деревни, каго и евреям, а иногда даже нечистой силе. В департаменте Коррез одного врача считали добрым волшебником. Крестьяне отрезали щепки от его кареты и от скамей в его приемной и использовали их как талисманы. Местные жители верили, что его сын унаследовал от отца дар целителя, и потому сын, разумеется, был выбран в местный Генеральный совет (орган самоуправления департамента). Для избирателей политические партии не всегда то, чем они кажутся, когда читаешь историю Франции. В Ниме, например, католики были верны одним политикам, протестанты другим, и в некоторых случаях эту традицию верности можно было проследить до времен Реформации. На западе Франции давнее деление жителей на «синих» республиканцев и «белых» роялистов сохранялось еще долго после начала XIX века.
Несмотря на признаки возрождения родины, вернувшийся местный уроженец вряд ли останется жить здесь. Несколько его земляков работают на станции, движением на переезде, где шоссе пересекает железную дорогу, управляет местная женщина, другая местная женщина заведует почтовым отделением. Но молодежь уходит в города, где можно найти работу получше и улицы по ночам освещены. По всей Франции население малых городов и деревень уменьшалось; оно стало снова увеличиваться только в 1960-х годах. В конце XIX века уже два из каждых десяти граждан Франции не жили в своих родных департаментах. И даже те, кто остался в родном краю, начали чувствовать себя иностранцами на собственной родине.
По этой стране мчалась в поездах целая армия путешественников-буржуа. Их часы были установлены по часам железнодорожной станции. С точки зрения этих людей, жители провинциальной Франции были осколками прошлого, а не гражданами нового мира.
Подавляющее большинство этого слоя общества составляли парижане, и его культура была по преимуществу парижской, даже у тех буржуа, кто был родом не из Парижа. Многое из того, что стало считаться французским, первоначально было характерно для Парижа или было подражанием чему-то парижскому. Простой анализ списка мест рождения и смерти 520 художников, архитекторов, писателей и композиторов, живших с конца XVII века по начало ХХ, показывает, что эти создатели «французской» культуры, как правило, не только работали в Париже и проводили там большую часть своей жизни (а в конце ее часто удалялись на отдых в те места, куда жители столицы ездили отдыхать, – на побережье Нормандии или на Лазурный Берег), но и чаще всего были парижанами по рождению (больше трети из них родились в Париже)[61]. Те, кто приехал из провинций, оставили там лишь свои серые тени в виде статуй, установленных местными советами.
Во многих провинциальных городах развернулась книгоиздательская деятельность (в библиографию этой книги входят сочинения, опубликованные в семидесяти шести городах Франции). Однако очень мало выдающихся писателей публиковали что-либо за пределами столицы. В карьере любого человека важнейшим шагом было стать парижанином или приобрести связи в Париже. Это чувствовал даже поэт Артюр Рембо, называвший себя «крестьянином»: он приехал в Париж сразу после своего семнадцатого дня рождения и упорно избавлялся от северного акцента. Эмиль Золя уехал из города Экс-ан-Прованс в 18 лет и сбросил с себя кожу провинциала, как только ступил ногой на парижскую мостовую. В своих первых письмах к другу детства Полю Сезанну он уже парижанин: снисходительно смотрит сверху вниз на «страну буайеса и айоли» (соус, похожий на майонез), разрекламированный почтовыми открытками край «сосен, которые колышутся на морском ветру» и «выжженных солнцем ущелий». С высоты Парижа Экс-ан-Прованс выглядел «маленьким, однообразным и жалким».
В оживленных городах, таких как Анжер, Нант, Нанси, Страсбург, Дижон, Лион, Тулуза, Монпелье и Марсель, у горожан росла гражданская гордость и одновременно возникало ощущение собственной неполноценности. Возможно, поэтому очень многие сочинения провинциальных литераторов были посвящены утверждению высокой ценности провинций, что подрывало авторитет Парижа.
Вследствие политики правительства лучшие картины и памятники материальной культуры прошлого попадали в Лувр, а в провинциальных музеях оставались портреты выдающихся местных жителей и изъеденные жучком шкафы с образцами местных искусств и ремесел. Наполеон обобрал Италию по праву завоевателя; его преемники грабили провинции своей страны. Провинциальная литература была представлена в столице сборниками фольклора, в которых народные песни и легенды были приведены в опрятный вид и приукрашены для парижского рынка писателями, забывшими, как выглядит жизнь за внешними бульварами столицы. Поэт-бреонец Огюст Бризё, возвращаясь из Парижа в «страну гранита и дубов», которую покинул еще в детстве, купил специальный «фольклорный костюм», чтобы приспособиться к образу жизни своих земляков. Жорж Санд помогала деньгами нескольким молодым поэтам из провинций, но, чтобы они выглядели провинциальными, должна была очистить их стихи от напыщенности, причудливых образов и в одном случае изменить написание правильно написанного слова. Провинции (кстати, в 1880 году они занимали 99,9 процента территории страны и жило в них 94 процента ее населения)[62] стали отождествляться с «домашними» добродетелями: простотой, скромностью и естественностью, в то время как в литературе выше всего ценились сложность, высокомерие и сознательная искусственность.
Поскольку такая огромная часть того, что писали о Франции, издавалась в Париже и была предназначена для парижан или городских буржуа, для которых Париж был примером, гражданская война между двумя культурами Франции никогда не проявлялась в книгах так сильно, как в повседневной жизни. Велосипедист, отдыхавший в Вандее в 1892 году, заметил, что несколько нелюбезных замечаний о парижанах обеспечивали ему сотрудничество и вежливое обращение местных крестьян, которые чувствовали «инстинктивную антипатию» к столице. Во многих частях Франции слово «парижанин» до сих пор используют как оскорбление, и любой приезжий, который может сказать что-нибудь пренебрежительное о Париже, всегда будет дружелюбно принят даже чиновниками.
Поля боя, на которых сталкивались одна с другой эти две культуры, больше не выглядят как места социальных сражений. Теперь большинство водолечебниц и приморских курортов – места, где так приятно побывать. Вспоминая, сколько историков и антропологов почувствовали при виде их вдохновение и написали о них, удивляешься, почему таких авторов не было больше.
Города с целебными источниками чаще всего бывали особенно спокойны, живописны и полны величественными, похожими на музеи гостиницами, чей стиль смягчала заброшенность. Цены там обычно были не слишком высокими благодаря постоянному покровительству системы здравоохранения, где высоко ценили лечебное действие минеральных источников. В меньших по размеру курортах это действие мгновенно становилось очевидным. В Ламалу-ле-Бен, курорте, который специализируется на лечении травм, жертвы автокатастроф, опираясь на костыли, ловко уклоняются от автомобилей. В Эжени-ле-Бен сезонное население, состоящее из крепышей, бросает вызов надписи на табличках, которые, явно с ироническим намеком, размещены по одной в каждом конце главной улицы. Надпись сообщает, что этот поселок – «лучший во Франции курорт для похудения».
В прошлом специализация каждого курорта была еще заметнее. Когда железная дорога связала Овернь и Пиренеи с Парижем и другими европейскими столицами, маленькие городки, куда еще со времен Римской империи приезжал лечиться небольшой поток больных, внезапно были затоплены волной людей, которые все болели одним и тем же недугом. Бареж, который был известен во всей Европе как место, где лечились больные с травмами, особенно рук и ног, находится на высоте 4 тысячи футов в унылом ущелье под перевалом Турмале, «в котором одна лишь надежда вернуть себе здоровье помогала человеку продержаться больше чем час или два». Искалеченные солдаты сидели вокруг бассейна в зале, который находился ниже уровня поверхности, окутанные сернистыми испарениями, и курили свои трубки, а в это время местные женщины обрабатывали их раны.
Расположенный ниже Баньер-де-Бигор выглядел как лазарет, основанный шутником-садистом: половина пациентов были меланхолики, склонные к самоубийству, а другая половина ипохондрики. Еще был Олю-ле-Бен – тупик в долине танцующих медведей, куда приезжали лечиться «инвалиды любви», то есть «молодые мужчины, больные постыдными болезнями». Началось с того, что в 1822 году один больной сифилисом лейтенант почувствовал себя немного лучше после лечения красноватой водой местного источника. (Видимо, она ослабляла действие ртути, которую тогда прописывали сифилитикам.) Однополчане лейтенанта рассказали об этом, и к 1849 году в Олю были три гостиницы, новый мост и проспект, обсаженный акациями. Курорт в Олю выжил, когда было найдено лекарство против сифилиса, и теперь его рекламируют как «антихолестериновый».
При Наполеоне III было достроено головокружительное горное шоссе, которое называется Термальная дорога (Route Thermale). Она, извиваясь, пересекает Пиренеи с запада на восток, объединяя курорты, которые сделала модными императрица Евгения, жена Наполеона III, посещавшая их во время поездок в родную Испанию. Несколько пиренейских городков пережили что-то вроде золотой лихорадки, только в малом размере. Однако ни одна минеральная вода не оказалась золотой жилой. Как правило, события в городке у минеральных источников, если им управлял честолюбивый мэр, разворачивались так: после того как Термальная дорога или железная дорога соединяла городок с внешним миром, жители городка придумывали историю о том, как популярен он был еще во времена римлян, и направляли просьбу добавить к его названию слово «les Bains» («ванны», в данном случае – «минеральные воды»). Один из местных врачей добивался, чтобы его назначили официальным инспектором местной воды, и издавал подозрительную своей восторженностью брошюру, в которой доказывал, что воды этого источника, происхождение которого окутано туманом прошлого, являются единственным надежным лечением против именно того увечья или болезни, на лечении которых этот врач случайно специализируется.
В тот день, когда вода официально провозглашается полезной для здоровья, становится величайшим днем в истории городка. На площади устанавливают новый каменный фонтан – памятник прогрессу и будущему процветанию. Вместо какого-нибудь бодрого изречения на латыни или французском на фонтане вырезают результаты химического анализа, который был проведен в муниципальной лаборатории. «Вода обладает выдающимися органолептическими свойствами. Она свежа, легка и практически не содержит органических веществ и бактерий… Тест на наличие болезнетворных микробов: отрицательный… Утверждено министром здравоохранения».
Перед тем как городок начинает принимать первых больных и умирающих, волки и медведи застрелены или посажены в зверинец, поставлена ограда, не допускающая свиней и овец на главную улицу, безобразные нищие и сумасшедшие отправлены в муниципальную богадельню. Старая гостиница, где останавливались пассажиры дилижансов, отремонтирована и имеет более новый вид, в спешке построены несколько новых домов – дополнительные помещения для приезжих. Если удается найти предпринимателя, который взялся бы за устройство парка, возникает маленький парк с деревьями и скамейками. Какую-нибудь местную женщину, немного говорящую по-французски, одевают в белую униформу и сажают в будку собирать плату с посетителей. Сами купальни – образец соблюдения общественной иерархии. Титулованные особы и крупные промышленники, чьи имена появляются в новых изданиях брошюры местного врача, выпивают свои стаканчики воды и принимают «шотландский душ» (чередование горячего и холодного душа. – Авт.) в мраморном зале. Ниже по склону холма мелкие буржуа и солдаты на государственной пенсии купаются в воде, которая уже омыла богачей.
Вскоре кареты уже доставляли калек с железнодорожной станции в гостиницу, и вереница безмолвных пациентов каждое утро идет к мраморному залу. Большеглазые туберкулезные больные выглядывают из кресел-носилок, которые несут носильщики-горцы. Те, кому не удается получить консультацию у курортного врача, – он при случае дает и консультации – вынуждены ждать своей очереди. Вскоре вдоль дорожек, проложенных вокруг города, возникают надгробия над могилами слишком поздно приехавших лечиться курортников и местных жителей, помогавших строить дорогу. Почти во всех курортных городках население увеличивалось с каждым годом. Курорт О-Бон, который называли «парижская улица в пиренейском ущелье», в 1830 году принял 300 больных, а в 1856-м уже 6400. Другой курорт, Котре, стоящий на дороге к югу от Лурда, принял 16 тысяч посетителей – почти 200 человек на каждого местного жителя.
За Пиренеями новые курортные города с театрами и бульварами возникали почти за одну ночь, словно города и крепости, которые, по преданию, строила за один день фея Мелюзина. Население Виши увеличивалось почти так же быстро, как население Парижа. Экс-ле-Бенна берегу озера Бурже в 1784 году принял 260 иностранных посетителей, а в 1884-м почти 10 тысяч, в том числе 3 тысячи британцев и 2 тысячи американцев. Оркестры гостиниц играли «Боже, спаси королеву», а 4 июля стало праздничным днем. Ключом к успеху Экс-ле-Бен было казино, в котором местным жителям разрешалось работать, но запрещалось играть. Некоторые врачи с тревогой смотрели на эти новшества. Их беспокоило, что люди стали лечиться минеральными водами не потому, что были больны, а потому, что им нравился курорт и развлечения в курортном городке. Но врач, писавший под именем доктор Спелеус, сражался за уже проигранное дело, когда предупреждал этих здоровых инвалидов о вредных последствиях отказа от душей и минеральной воды ради головокружительной светской жизни.
«Это постоянные переодевания, траты денег, безумства, тщеславие, суета, самодовольство, мошенничество и ложь. Каждый хочет превзойти соседа и затмить его телом или умом, знатностью рождения или богатством; и на этом пути каждый роет себе могилу, в которой находит разочарование, разорение и сожаление».
Такая же эпидемия легкомыслия началась и вдоль морских берегов Франции. Если верить свидетельствам путешественников, то получится, что до начала XIX века море было бурным и губительным, а потом вдруг выглянуло солнце и выяснилось, что морской воздух имеет лечебные свойства. Морское побережье стало цивилизованным убежищем от зол цивилизации. Дьеп, который с 1824 года имел регулярное сообщение с Брайтоном через Ла-Манш, стал первым приморским курортом, который привлек большое количество посетителей. Затем возникли курорты в Булони, Трувиле и других, менее модных местах, где британские первопроходцы показывали, как приятно и полезно купаться в море. Многие сцены на побережье Нормандии, запечатленные на картинах импрессионистов, были такими же современными, как написанные ими же виды фабрик и железнодорожных станций. Новыми явлениями были зонты от солнца и полосатые тенты на берегу, хорошо одетые семьи, которые, сидя на соломенных стульях, играют с рыболовными сетями, флаг казино, который развевается на морском ветру, и белые дома, фасады которых, в отличие от прежних жилищ, обращены к морю и богато украшены, словно пирожные в кондитерской.
Влияние всего этого на местных жителей легко вообразить, но трудно описать словами. Появление массового туризма в местности, не изуродованной грабительским предпринимательством или лишь немного изуродованной мелкой коммерцией, несомненно, было тяжелой травмой. В ставших курортами городах на побережье Ла-Манша землю экспроприировали у прежних владельцев, людей выселяли с привычных мест, и все дорожало. Строительные рабочие создавали для себя особые временные поселки и имели собственные запасы еды. Иногда единственными работами для местных жителей на строительстве курорта были уборка мусора и чистка уборных. Как в старые времена, местные жители дрались с приезжими рабочими, которые презирали крестьян и «грязных бретонцев». Как вдоль побережья и железных дорог начали расти цветы и иные растения из других частей Франции, так и проституция распространила сифилис вдоль туристских дорог.
Некоторые города оставались строительными площадками почти весь XIX век и были еще совсем молодыми, когда Вторая мировая война снова сровняла их с землей. Кабур-ле-Бен, основанный в 1855 году, несколько лет был пустыней из бетона и асфальта, прежде чем возникли его расположенные полумесяцем элегантные особняки и освещенный газовыми фонарями бульвар. Новые города, в том числе Берк, Берневаль, Довиль и Лё-Туке-Пари-Плаж, были спроектированы спекулянтами, разрекламированы журналистами, имевшими акции курортов, и построены так, словно в них собирались эвакуировать массы беженцев, рассортировав их по общественному положению. В путеводителе Конти по побережью Нормандии (1889) аккуратно указано, для какого рода клиентов предназначен каждый курорт – во избежание путаницы. Мер был «неофициальным водным курортом» для мелких буржуа и их семей; Агон-Кутенвиль был предназначен для состоятельных владельцев магазинов и торговцев (участок побережья возле этого курорта прозвали «берег книготорговцев»: считалось, что туда «продавцы книг приезжают забыть, что они продавцы книг»); Ландемер-Гревиль был для «артистов», а Этрета – для «знаменитых артистов». Ульгат был курортом для «аристократических семей», поскольку «его мягкий мелкий песок» был «достоин самых изящных и нежных ног»; Арроманш, наоборот, был рекомендован «купальщикам, которые любят жить в патриархальной простоте» (то есть у которых мало денег). Несколько курортов, которые не были в моде и потому не упомянуты в путеводителе, принимали на лечение детей из нищих семей, которых направляла в санатории дирекция государственных больничных учреждений.
Событий такого масштаба на побережье Нормандии не было со времени вторжений викингов и Столетней войны. Из всех мест, которые упомянуты в предыдущем абзаце, полный путеводитель Мюррея, изданный в 1854 году, упоминает лишь одно – Этрета, как «рыбацкую деревню» с каменистой дорогой и дешевой маленькой гостиницей.
Когда строительные бригады ушли, местное население оказалось в новом мире, полном странных сюрпризов. Буржуазные семьи без приглашения заходили в хижины местных жителей и заглядывали под перевернутые лодки, потому что думали, будто рыбаки живут в лодках круглый год. Туристы, относившиеся к часовне как к этнологическому музею, рассматривали как любопытные диковины те модели кораблей и грубо нарисованные картины, которые местные жители вешали в часовнях в знак благодарности Пресвятой Деве.
От Бретани до Прованса люди, которые видели, как их край становится современным и в нем вырастают города, работали на консервных заводах и понимали, как приливы и отливы волны спроса на далеко расположенных рынках влияют на их отрасль промышленности, вдруг услышали просьбы сыграть роль примитивных туземцев. Ни одна поездка на море не считалась полной без рассказа очевидца о том, как береговые разбойники привязывали фонари к рогам быков и водили их по берегу, изображая огни кораблей, заманивали суда на риф, а потом снимали у утопленников кольца с пальцев. Самые отважные путешественники посещали плавучие тюрьмы в Бресте и Рошфоре и смотрели, как порют заключенных. Более приличные семьи удовлетворялись рассказами об ужасных несчастьях. Гюстав Флобер, путешествуя пешком по Бретани в 1847 году, попал в Карнаке на похороны утонувшего рыбака и всматривался в освещенное свечой лицо вдовы. «Ее рот был сжат, как у слабоумной, губы дрожали от отчаяния, и все ее бедное лицо плакало, как небо в грозу». Существует десятки таких рассказов о живописных страданиях. В 1837 году на берегах Аркашонской бухты, которая является единственным укрытием для судов на прямом и ровном, как лезвие бритвы, атлантическом побережье, член городского совета, отдыхая в выходной, обнаружил, что недавно случившееся в этих местах кораблекрушение может стать источником вдохновения и нравоучений.
«Мы расспрашивали уцелевших жертв этой катастрофы – доблестных страдальцев, которые одели эти уединенные берега в траур и принесли горе в соседние деревни. Они указывали на огромный залив, который недавно поглотил семьдесят восемь их несчастных товарищей… Нам хотелось остаться с ними, изучить их обычаи и услышать рассказы об их опасных приключениях. Это стало бы хорошим завершающим штрихом в картине наших переживаний этого дня».
Аркашонская трагедия произошла в открытом море, возле клочка песчаной земли, который называется Кап-Ферре, где рыбаки забрасывали свои сети, следя, не начинается ли буря, а потом быстро отходили на веслах назад, в бухту, держа курс на высокую дюну Пила. Большинство судов, идущих ко дну, были видны с берега. Известно, что отдыхающие смотрели с берега на это «любопытное и захватывающее» зрелище. В Остенде в 1845 году публика, собравшаяся на танцы в водолечебнице, наблюдала за тем, как в гавани тонут два корабля. Курортники в бальных нарядах стояли перед зданием лечебницы и пытались расслышать в шуме ветра полные отчаяния крики.
В 1906 году была опубликована карикатура: супружеская пара из среднего класса разговаривает с женщиной-бретонкой на холме; внизу на берегу моря стоит лачуга – дом их собеседницы. И вот что они говорят: «Значит, вы потеряли мужа и двоих сыновей в кораблекрушении? Как интересно!.. Непременно расскажите нам об этом». В это время наглое заглядывание в чужую жизнь уже выходило из моды, но насмешки и издевки над местными жителями по-прежнему были популярны среди отдыхающих и на морском побережье, и у минеральных вод. Отдыхающие, которым было не по плечу жить в главной гостинице городка, чувствовали себя очень современными людьми с тонким вкусом по сравнению с местным населением. Путеводитель Конти предлагал большой выбор смешных паломничеств и развлечений, а также советовал побывать на берегу в Лё-Трепоре, где мускулистые рыбачки канатами втягивают траулеры на берег. «Только представьте себе, какое зрелище вы увидите, если канат разорвется!» В конце 1880-х годов, когда появились первые почтовые открытки с фотографиями, фотографы из больших городов стали приезжать в сельские местности и уговаривать коренных жителей изобразить «типичные» занятия местного населения. Женщинам предлагали пошарить в сундуках и надеть старинные костюмы своих бабушек. Мужчины с лукавыми лицами и устрашающе грязными волосами должны были сесть вокруг бутылки и притвориться пьяными. В Оверни крестьяне, позируя, застывали, как каменные, в позах на самом деле быстрого танца бурре. Большинство этих картин выглядели так неправдоподобно потому, что изображали уже давно умерший мир.
Никто точно не знает, чем стало это снисходительное вмешательство чужих людей для тех, кто изображен на снимках. Назойливые туристы, вероятно, меньше раздражали их, чем старания местных советов приучить «чернь» к гигиене, чтобы она не отпугивала своим видом туристов. В Дьепе женщинам и детям было приказано ходить при людях обутыми. В Аркашоне, после того как железная дорога превратила его в любимый курорт жителей Бордо, мужчинам дали указание носить «широкие штаны», а женщинам прикрывать ноги «просторным платьем длиной до пяток», в котором, по-видимому, было почти невозможно собирать ракушки. Дети должны были перестать купаться «в неприличном виде» «там, где все время ходят респектабельные люди». Берег должен был выглядеть естественно, то есть быть очищен от всех следов работы, от водорослей, дохлых рыб, хижин и местных людей.
Не все эти меры были приятны для туристов. Разглядывать голые тела, причем иногда в телескопы, установленные в наиболее удобных точках над берегом, было главным развлечением на приморских курортах. Некоторые мужчины приезжали на отдых не для того, чтобы осмотреть новую часть страны, а чтобы увидеть скрытые раньше части женского тела. Биарриц, расположенный тоже на побережье, но южнее, у самой испанской границы, был рыбацким поселком с красными крышами домов и зелеными ставнями на окнах.
Местные жители-баски спускались на берег, чтобы искупаться в океане и встретиться с любимыми в пещере, которая называлась «Комната любви». Для туристов-мужчин самыми яркими моментами отдыха в Биаррице были поездка в Байонны, во время которой турист сидел рядом с баскской девушкой (всегда красивой) в хитроумном приспособлении, которое называлось cacolet – два соединенных вместе плетенных из ивы сиденья, одно на одном боку коня, второе на другом, и продавщицы из байоннских магазинов, которые плескались в воде возле берега почти голыми. Одним из самых счастливых дней в жизни Виктора Гюго был тот, который он провел в Биаррице, любуясь короткими юбками и изорванными в лохмотья блузками.
«Я боюсь лишь одного: что Биарриц станет модным… На его холмах посадят тополя, на дюнах установят перила, на утесах лестницы, на скалах киоски, в пещерах скамейки, а на купальщиц наденут трусы».
Страстные взгляды считались вполне допустимыми, но не каждому мужчине было достаточно эстетического любования красотой. Любители сексуального туризма искали себе добычу на курортах еще задолго до появления дешевых авиарейсов на Филиппины. Француз, постоянно покупавший молоко и сметану у девушек из долины Шамони, чтобы иметь возможность «прикоснуться своим несколько увядшим ртом к сочным губкам этих юных альпийских нимф», нам уже не кажется просто веселым прожигателем жизни, как казался своим спутникам. В 1889 году два отдыхающих парижанина во время пешей прогулки по окрестностям пиренейского курорта Верне-ле-Бен пришли в восторг от черных глаз и «изящной улыбки» одной цыганской девушки и были очень разочарованы, когда ее родители отказались продать им дочь как живой сувенир. Рыбаки и крестьяне не оставили письменных свидетельств о том времени и потому выглядят покорными жертвами. Однако есть свидетельства того, что коренные жители курортных мест умели защищать свою честь. В городке Понт-Авен, маленьком порту для муки и сидра на юге Бретани, который уже был известен, когда Поль Гоген в 1886 году приехал туда искать «примитивность», местные жители избили одного англичанина за отказ снять шляпу во время религиозной процессии. В Булонь-сюр-Мер другой англичанин, когда рыбачка несла его с корабля на берег, решил проверить крепость ее бедер. В результате он был сброшен в море и упал на спину, «что очень позабавило всех».
Местные жители тоже любили делать этнологические открытия. Когда электрический свет залил столовую кабурского Гранд-отеля, то рыбаки, торговцы, их жены и дети прижали свои носы к стеклу, чтобы заглянуть внутрь и полюбоваться этим роскошным зрелищем. Сидевшему внутри Марселю Прусту стало не по себе: он почувствовал себя экзотическим животным в «огромном заколдованном аквариуме». Однако смешные иностранцы были не только приятным развлечением для местных жителей – благодаря им появлялись новые рабочие места: служители при ваннах, лифтеры, горничные, продавцы, официантки и повара. Мужчины и женщины, которые раньше зависели от изменчивого моря, теперь могли сдавать внаем лодки и рыболовные принадлежности, складные стулья и ослов. Кроме того, они могли изготавливать предметы деревенской старины и продавать якобы местные картины, которые получали от оптового торговца из Парижа. Древняя профессия нищих еще никогда не была такой прибыльной. Туристов, направлявшихся в Пиренеи, осаждали толпы девушек и девочек, которые продавали туристам букеты цветов, подавали букет через окно кареты и сразу отдергивали руку с цветами обратно, а потом продавали этот же букет следующей группе. В долине Оссо Ипполит Тэн страдал от нищих больше, чем от блох.
«Крошечные девочки, едва умеющие ходить, сидят на порогах своих домов и едят яблоки. Когда вы увидите их, они ковыляют к вам на слабых ножках и протягивают руку… Если вы сидите на холме, с ясного неба вдруг спускаются два или три ребенка с камнями, бабочками, необычными растениями и ростками цветов. Если вы подходите к хлеву, его владелец выходит вам навстречу с миской молока и пытается продать ее вам. Однажды, когда я посмотрел на бычка, пастух попытался продать его мне».
Некоторым туристам это могло показаться глубочайшим вырождением гордого древнего народа, но для самого пастуха это была возможность совершить сделку. Многие его земляки уехали из родных мест, некоторые деревни исчезали. Крестьянин, которому повезло жить на туристской тропе, имел больше возможностей остаться там, где родился.
Другая, более мрачная, сторона этой встречи двух миров была более заметна в лабораториях и офисах, чем на курортах. Некоторые антропологи, введенные в заблуждение фотографами-открыточниками, которые выискивали местную экзотику, заметили у жителей Пикардии и побережья Бретани сходство с неандертальцами – приплюснутые лбы, толстые губы, смуглую кожу и «зловещее выражение лица». Эти черты были необычными в обеих местностях, но, по мнению автора статьи, опубликованной в журнале Парижского антропологического общества, это лишь доказывало, что люди с такой внешностью принадлежали к древней, почти вымершей расе. Возможно, такими были обитатели Европы четвертичного периода? «Если так, это будет одним из великих открытий нашего времени. Необходимо провести всеобъемлющие исследования этого крайне редко и нерегулярно встречающегося типа».
Некоторые из этих ранних антропологов были такими же бессердечными, как туристы, врывавшиеся без разрешения в чужие дома. Шестьдесят черепов, ко торые они в 1870-х годах увезли с одного кладбища в Авероне, были частями трупов людей, у которых остались живые родственники. Интерес к наготе ученые тоже проявляли: они уговаривали местных жителей обнажить перед фотоаппаратом их атавистические тела. Туристы толпами съезжались в нетронутые места Франции, чтобы успеть насладиться ими, пока их не испортили другие туристы. Ученые мчались в ее отдаленные места, например в Прованс, в Савойю, на Корсику и в лесистую местность Тьераш возле границы с Бельгией, чтобы покупать почтовые открытки и измерять черепа, хотя один исследователь предупреждал, что «антропометрическое исследование может оказаться трудным и даже опасным». В этом отношении колонии Франции были исследованы лучше, чем она сама. Основатель Антропологического общества Пьер Брока в 1879 году напомнил своим коллегам, что «до сегодняшнего дня антропологи описали и измерили больше негров, чем французов».
Во Франции основой этой молодой научной дисциплины были две противоречившие одна другой идеи. Первая: дикари из предместий промышленных городов – «опасные слои общества», так пугавшие средний класс, – имеют темную кожу и низкий рост не из-за плохих условий жизни, а оттого, что принадлежат к очень примитивным расам. Вторая идея: побежденные галлы стали основой нации и, несмотря на века вторжений и смешивания своей крови с чужой, преемственность поколений не прерывалась, и население Франции сохранило в себе неизменными основные черты своих предков.
Большинство антропологов понимали, что «чистокровных» французов не существует. Они знали также, что слова «галл» и «кельт» – лишь термины, в которые ученые заворачивают свое большое невежество, как в упаковочную бумагу. Но, к несчастью, некоторые из их незрелых теорий были весьма соблазнительны. Наполеон III, а позже маршал Петен и Жан-Мари Ле Пен использовали миф об импульсивных и тщеславных, но по своей сути порядочных галлах, чтобы продвинуть свой образ Французского государства. Предков-галлов можно было с гордостью противопоставить темнокожим лентяям – средиземноморским соседям Франции, но галлы, утверждали они, отличались и от варваров из-за Рейна с их строгим порядком и дисциплиной. Особенно важно было показать, что жители Лотарингии, которые сначала жили под угрозой немецкого вторжения, а потом, когда оно произошло, стали жить под немецкой властью, по своей сути – галлы.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
15. Открытки туземцев
15. Открытки туземцев …«Вокруг света за восемьдесят дней»: Anon. (1869).…туннель Мон-Сенис: Ch?rot, 323; Saint-Martin........тридцати трех сигар»: Merson, 210.…Итальянскому бульвару: Achard (1869), 86.…вагоне третьего класса: Anon. (1842), 96.…«От Парижа до Ниццы»: Gauthier de Clagny, 2.…«шести недель непрерывной езды
НА САН-ДОМИНГО ПОЛИНА ЗАВОДИТ ЛЮБОВНИКОВ-ТУЗЕМЦЕВ
НА САН-ДОМИНГО ПОЛИНА ЗАВОДИТ ЛЮБОВНИКОВ-ТУЗЕМЦЕВ Она любила экзотику. Доктор Кабанес 14 декабря 1801 года флагманский корабль «Океан», на котором удобно расположилась чета Леклерков, поднял все паруса и покинул брестский порт.На погрузочной пристани остался стоять
ЗАГАДКА ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКИ
ЗАГАДКА ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКИ Первая и пока что единственная в мире высокоширотная зимовщица Ерминия Жданко, исчезнув во льдах Арктики в 1913 году, подала о себе весть в 1928-м?Если бы за настоящие приключения давали «Оскаров», история с полярной шхуной «Святая Анна», наверное,
ИЗ ОТКРЫТКИ И Н. СМИРНОВУ 18 сентября 1928 г.
ИЗ ОТКРЫТКИ И Н. СМИРНОВУ 18 сентября 1928 г. Дорогой Иван Никитич, получил только что Вашу открытку от 5 сентября, всего 13 дней Прямо конвейер. Беспокойство Ваше насчет "полемики" вполне понимаю. Отношение мое к нему[Так в тексте -- Прим ред -сост] Вы знаете и понимаете, что
ИЗ ОТКРЫТКИ СТРАЖУ 24 ноября 1928 г.
ИЗ ОТКРЫТКИ СТРАЖУ 24 ноября 1928 г. Дорогой друг, получил интереснейшую стенную газету и "Октябрь" со статьей Серафимовича. Эти неудачники буржуазной беллетристики думают, что они призваны создать "пролетарскую" литературу. Они понимают под этим, очевидно, мелкобуржуазную
ЗАГАДКА ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКИ
ЗАГАДКА ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКИ Первая и пока единственная в мире высокоширотная зимовщица Ерминия Жданко, исчезнув во льдах Арктики в 1913 году, подала о себе весть в 1928.Если бы за настоящие приключения давали бы «оскаров», то история с полярной шхуной «Святая Анна», наверное
2. Предоставление бухарским евреям статуса туземцев
2. Предоставление бухарским евреям статуса туземцев В первые несколько десятилетий после русского завоевания края бухарскоподданные евреи, проживавшие в Туркестане и пользовавшиеся большими льготами по русско-бухарскому мирному договору 1873 года, не проявляли