Петру I — Екатерина II
Петру I — Екатерина II
Грязный лист слетает на круп коня. Липнет к чепраку. Срывается. Густые струи текут по плащу всадника, заливают лицо. Вытолкнутая вперед рука тонет в дымке промозглых сумерек. Копыта бьют по льющейся воде. Подойти, всмотреться… Зачем?
Есть памятники прославленные. Знаменитые. Знакомые настолько, что понятия «знаешь — не знаешь», «помнишь — не помнишь» к ним уже невозможно применить. Они разворачиваются в памяти в веренице лет, в обрывках твоей собственной жизни, слишком пережитые, чтобы сохранить отстраненность просто произведений искусства — экспонатов его истории. Разве здесь есть место для открытий, хотя бы взгляда заново, как в Медном всаднике, где все известно на память и заучено памятью, где каждое обстоятельство истории памятника давно напечатано и повторено бессчетным множеством тиражей. Кто не знает Медного всадника — чего мы не знаем о Медном всаднике!
Все так. Но странное чувство, растущее год от года, от встречи к встрече на развороте Сенатской площади — почему же в действительности ничто не хотело сходиться: замысел Фальконе, его планы, свершения и отклик на памятник ближайших потомков, Пушкина, Мицкевича, декабристов. Что видели в Медном всаднике современники и что живет в нем для нас. Единства не было, но и скульптура тревожила остротой внутренних противоречий, обойденных вниманием историков, исследователей.
Чем больше возникало недоумений, чем определенней они становились, тем очевиднее было и другое. Ответ — полный, частичный, всякий — можно было надеяться найти, только прочитав заново историю Медного всадника. Через новые документы — насколько удастся их в архивах открыть, через уже известные — если круг их расширить, подвергнуть новому сопоставлению и анализу. Работа на годы, в которой бесконечно медленно начинал вставать все тот же знакомый, но теперь уже и впервые узнанный образ.
Шел дождь. Укрывшись под одним плащом,
Стояли двое в сумраке ночном.
Один, гонимый царским произволом,
Сын Запада, безвестный был пришлец;
Другой был русский, вольности певец,
Будивший Север пламенным глаголом…
Гость молча озирал Петров колосс,
А русский гений тихо произнес…
А. Мицкевич. «Дзяды». 1832
Первый день в Петербурге. Как освобождение и как приговор. После волглых стен камеры-кельи в виленском монастыре бернардинцев. После семи месяцев заключения и допросов: славившийся «железной рукой» Новосильцов именем наместника Царства Польского искал участников студенческих обществ. Адам Мицкевич уже вышел из университетских стен. Только спасло его не это — упорное молчание товарищей.
Следствие оказалось в тупике: по всем показаниям непричастен, по духу — тут будущий граф, будущий председатель Государственного совета Российской империи Новосильцов не ошибался никогда! — виновен без снисхождения. Выход — срочная отправка в Петербург за назначением «по ведомству народного просвещения». В столице могли сами определить место и род ссылки гимназического учителя Мицкевича.
Семьсот пятьдесят верст. Без отдыха. В зябкой осенней поземке. И созвучием вихрю перебаламученных чувств, бессильных сожалений, тоски по потерянному краю — человеческая трагедия на невских берегах. 24 октября 1824 года… Первый день Мицкевича в Петербурге. Первый день Петербурга после наводнения. Крошево лачуг, заборов, немудреного скарба нищеты. Вереницы погребальных дрог. И надо всем, в свинцовом мареве готовых рухнуть на мостовую туч, взлетевший на скалу всадник. Торжествующий. Непреклонный. Неукротимый. Потом будет другой Петербург. Другие встречи. Откровенность дружбы. Восторги перед поэтическим даром. Полнота гражданского сочувствия. Но общность мыслей и чувств приведет Мицкевича и Пушкина в промозглых, захлестанных дождем сумерках к тому же всаднику. В пушкинских бумагах сохранятся тексты стихов Мицкевича — фрагменты третьей, оставшейся незаконченной части «Дзядов»: «Друзьям-москалям», «Олешкевичу», «Памятник Петру Великому»… Они увидят (смогут увидеть!) свет только в 1832 году, только в далеком Париже. И тень петербургского памятника ляжет отсветом на их строки. Отсветом строгим и точным — смысл самодержавия, судьбы России, Европы, человечества:
И русский гений тихо произнес:
«…Во весь опор летит скакун лихой.
Топча людей, куда-то бурно рвется,
Сметает все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз в разобьется.
Но век прошел — стоит он, как стоял.
Так водопад из недр гранитных скал
Исторгнется и, скованный морозом,
Висит над бездной, обратившись в лед. —
Но если солнце вольности блеснет
И с Запада весна придет к России —
Что станет с водопадом тирании?»
Для литературоведов в этих строках важны кавычки. В них — зерно споров о взглядах Мицкевича, его оценке и переоценке Петра. Мицкевича? Только почему бы пришло на ум поэту приписать свои мысли тому, кого он с первой встречи назвал «русским гением», и тем самым уйти от собственного суда и приговора? Почему в закавыченной речи здесь литературный прием — не знак единомыслия, за которым живой Пушкин? Пушкин накануне событий на Сенатской площади, полный чувствами тех кому в самом близком будущем предстояло на нее выйти.
И еще памятник. Что он здесь — повод для размышлений, случайный образ, слитностью с мыслями обоих поэтов превращенный в символ? О нем никто из исследователей в этой связи не обмолвился ни словом.
От ночи под одним плащом до «Медного всадника» — поэмы — пройдет без малого десять лет. Между встанут декабристы, неудача польского восстания. Суд Пушкина не сможет не измениться. Между символом самодержавия в лице Петра и исторической необходимостью петровских реформ для поэта ляжет острая грань — грань объективности. Она не останется незамеченной. Тем хуже!
Николай I в роли единственного цензора запретит публикацию поэмы. «Медный всадник» будет напечатан только после смерти поэта. А ведь в нем совсем новый поворот темы: противоборство маленького человека не делу Петра — памятнику. Может, точнее — человеческому образу, его единственным, подчас так трудно воспринимаемым поворотам. Они поразят в первой встрече воображение Мицкевича и неотступно пойдут за Пушкиным — непостижимым путем проникшие в бронзу императорского монумента живые черты живого человека.
Да, загадка Медного всадника. Не всегда осознанная, не всеми понятая и все равно задевающая каждого остротой неожиданности, взлетом слишком откровенных страстей. Памятник, который нельзя забыть. Разгадка — она конечно, существует. Но как к ней подойти?
Я ограничусь статуей героя и его изображу не в качестве великого полководца и победителя, хотя, конечно, он был и тем и другим. Гораздо выше личность созидателя, благодетеля своей страны, ее-то и надо показать.
Э.М. Фальконе — Д. Дидро. 1766
Смысл и обстоятельства — как и для чего сооружался Медный всадник, — может, начинать надо с них?
Конный памятник монарху. Формула прославления, слишком давно потерявшая личный характер. Со времен Рима — вообще полководец, вообще триумфатор, властелин, и в этом качестве очередное утверждение очередного имени. Титул, претворенный в бронзу и камень. Лучший пример — сам Петр.
Для полноты торжества на невских берегах ему нужен памятник самому себе. Конечно, в «римских» одеждах. Конечно, на коне. Из Франции вызывается известный своими монументами Карло Растрелли. Почти закончена отливка статуи. Но Петр умирает. Колеблется с ее установкой Екатерина I. Тем более не спешит окружение сына царевича Алексея — Петра II. Анна Иоанновна и вовсе надежно прячет опоздавший монумент: поставленный, просто кем-то увиденный, он будет работать против нее. И только Павел, которому надо утвердиться в своих правах на престол — будет ли конец разговорам, что подменили его при рождении! — отыщет затерянную в сараях отливку. Она встанет перед его дворцом с надписью — вызовом всем сомневающимся: «Прадеду — правнук». Пусть читают, видят, посмеют спорить!
В задуманном монументе тому же Петру Екатерина II не искала ничего нового. Наоборот — для нее важен примелькавшийся штамп. Как всегда, как у всех — единственный смысл обременительной затеи. И само собой разговоры: чем больше, тем лучше.
Узурпация власти, убийство двух коронованных предшественников и среди них собственного мужа, расхватанная толпой фаворитов страна — на престоле за это не приходится отвечать. Другое дело прикрыться высоким стремлением оправдаться народным благом. Тем более если ни по каким законам твоих прав невозможно найти.
Конечно, жена императора (пусть задушенного!) но ведь не венчанная на царство вместе с ним. Конечно, мать наследника (пусть сына своей собственной жертвы!) — но за этим следовали в лучшем случае права регентши. У всех на памяти было месяцами промелькнувшее регентство Анны Леопольдовны. А ведь той по сравнению с захудалой принцессой Ангальт-Цербстской, Екатериной II, с избытком хватало прав. Как-никак внучка царя Иоанна Алексеевича, племянница императрицы Анны Иоанновны, мать не какого-нибудь там наследника — от рождения признанного императором Иоанна Антоновича.
Екатерина располагала слишком немногим. Даже в наскоро сочиненных дневниковых записях она могла привести в свою пользу только нежелание Елизаветы Петровны видеть Петра III своим преемником да намекнуть о неких разговорах (не Елизаветы!) в свою пользу. К тому же рядом с этими разговорами существовали и другие — о высылке ее с сыном из России. Приходилось вспоминать слова одного из придворных, «что если б больной императрице представили, чтоб мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может…». Признание тяжелое, но за отсутствием иных посылок, вероятно, неизбежное. Что было, то было.

Ф. Рокотов. Портрет великого князя Петра Федоровича. 1758 г.
Оставались придуманные доказательства правоты, и одним из первых — памятник самому могучему, популярному, неоспоримому из предшественников. Как утвержденная в вечности связь: «Петру I — Екатерина II». Но одного. этого мало. В принятой на себя роли просвещенной монархини — чем не выгодный контраст относительно солдафонских и к тому же прусских увлечений Петра III или бездумного веселья елизаветинского двора— Екатерине нужно совместить действительную цель с декорацией: разговорами об идеалах государственности народной пользе. Это развитие темы ее знаменитой переписки с французскими философами. Поставить готовый памятник, некогда выполненный Растрелли, значило лишиться подобной возможности. Старый монумент остался незамеченным.
И вот летят собственноручные письма к Дидро, Вольтеру. Просьбы о советах, увлеченные дебаты, и в 1766 году почти восторженное согласие новоявленной русской императрицы на предложенную философами (самыми просвещенными, самыми свободомыслящими!) кандидатуру — руководитель скульптурной части Севрской королевской мануфактуры Этьен Морис Фальконе.
Но все-таки выбор был странным. По меньшей мере странным. Конечно, рекомендация Дидро и Вольтера. Но философы ценили и знали ход мыслей Фальконе, его убеждения и взгляды на искусство. Екатерина — только работы. А ведь среди них нет ни одного памятника, ни одной просто монументальной по характеру скульптуры, разве что несколько фигур святых для приходской церкви святого Роха в Париже.
Баловень и непременный участник парижских Салонов, Фальконе собирает лавры за купающихся нимф, кокетливых амуров, безукоризненных в своей совершенной красоте Пигмалионов, Аполлонов, Галатей. Они вызывают восторги, будучи исполнены в мраморе, тем более в хрупком и призрачном бисквите. Мадам де Помпадур, остановившись на кандидатуре Фальконе для Севра, — а говорят, это была ее идея, — не ошиблась. Но как представить себе в творчестве ее любимца место для императорского монумента на площади северной столицы? Или как раз это парижское прошлое Фальконе и давало нужные гарантии: привычная благопристойность решения, изысканность в духе вкусов Версаля, точное соответствие диктуемой им моде и… безликость. Так или иначе Фальконе получает приглашение из России заняться памятником Петру.
Соблазн создания первого в жизни художника монумента, конечно, заманчив. Условия, предложенные русской императрицей, великолепны. Напутствия друзей полны самых радостных надежд. А эскиз будущего памятника уже покорил Париж — Фальконе поспешил его широко показать. Как раз то, что нужно, и так, как нужно: скала, вздыбившийся на краю стремнины конь и невозмутимо повелевающий его порывом всадник. Сила. Уверенность. Спокойная благожелательность. Все определено в замысле скульптора: «Я ограничусь статуей героя… личность — созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, ее-то и надо показать…» Фальконе меньше всего задумывался над живым Петром, тем человеком, который когда-то существовал в действительности. Идеальный монарх — а речь идет только о нем — не вправе быть иным. Таково утверждение художника и его назидание монархам.
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А.С. Пушкин. «Медный всадник». 1833
Урок монархам? Екатерина не имела ничего против. Слишком старательно и самоуверенно создавала видимость «золотого века» «богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкия орды», как назовет ее Г.Р. Державин. И к тому же этот далеко не молодой скульптор от мадам де Помпадур — в какие формы он сумеет в действительности облечь свои пусть даже и слишком высокие мысли?
Да, Фальконе пятьдесят. Совсем немного для наших временных измерений, слишком много для жизненных масштабов XVIII столетия. Полвека нелегких и невероятных.
Сын швейцарского ремесленника, он смеясь отзывается на русское обращение «ваше высокородие»: ему действительно довелось родиться и жить выше всех — на чердаке. В двадцать лет полуграмотный скульптурный подмастерье, в сорок он автор перевода и комментариев к Плинию Старшему, лучшего перевода, по капризному мнению Вольтера. Еще увлеченный в своих работах непринужденной игрой рокайльных форм, где так осторожно, но упрямо начинает звучать эмоциональный ключ — намек на человеческое чувство, он размышляет над задачами скульптуры, над свойствами ее воздействия на человека, и в этих теоретических рассуждениях, трактатах, письмах значительная часть его творческого наследия.
С ним трудно — никто не знает, каким настроением вспыхнет Фальконе, от чего возмутится, чем увлечется. И с ним легко — так подвижен его ум, отзывчиво чувство, остер язык. «Жан-Жак Руссо от скульптуры» — как называют его друзья. Дидро скажет больше и точнее: «Вот человек, наделенный гениальностью и всеми качествами, совместимыми и несовместимыми с гениальностью… Сколько в нем тонкости, вкуса, изящества, какой он неотесанный и учтивый, приветливый и резкий, нежный и суровый, как это он успевает работать в глине и мраморе, читать и размышлять, какой он милый и язвительный, серьезный и шутливый, как он философичен — ни во что не верит и твердо знает почему».
Петербургский заказ — дело не материального расчета. Слава давно избавила Фальконе от нужды, а скопидомством он не отличался никогда. Речь идет о смысле прожитых лет. «Мне пятьдесят, и я не создал ничего, заслуживающего упоминания», — строки из письма к Дидро.
Можно отказаться от положения, должностей, высокопоставленных заказчиков, привычных условий и уехать в неизвестную страну на целых восемь лет — таковы условия русского контракта, — чтобы попробовать силы в новом и неизвестном. За восемь лет Фальконе брался разработать модель памятника и подготовить ее к отливке. Срок большой, но в этих щедро отмеренных годах вся мера ответственности и величина жизненной ставки художника. Монумент должен удаться! Лишь бы хватило времени, лишь бы ничто не помешало в каждой мелочи добиться вымечтанного совершенства. Кому, как не хлопочущему о контракте Дидро, понять скульптора. «Помни, Фальконе, ты должен или умереть за работой, или создать нечто великое» — его напутствие другу.
Писем много. Очень много. Восторженных. Нетерпеливых. Радостных. Настойчивых. Раздраженных. Разных. Часть их сохранили наши архивы. Часть — в государственных архивах Франции. Кое-что вошло в издания эпистолярного наследия знаменитых современников скульптора. Фальконе любил писать, не умел оставить про себя ни одной мелочи своих переживаний. Пусть сегодня эту россыпь трудно свести воедино — подчас получить фотокопии из музея в Нанси оказывается проще, чем найти время для поездки в знакомый каждому исследователю Центральный государственный исторический архив в Ленинграде или разобраться в нескончаемых описях дел императорского Кабинета. Все равно смысл происходившего можно восстановить.
Октябрь 1766 года. Петербург. После оживленной переписки между Петербургом и Парижем, неуемных восторгов и широких жестов Екатерины холодящая непреклонность придворного церемониала. Все напоминало спектакль. Рядом дворец, императрица. Но вместо встреч, разговоров снова многословные строки писем. Екатерина и тут предпочитала тратить время на переписку: так выгоднее смотрелись ее мысли, продуманная ловкость оборотов.
Вместо обещанного императрицей «родства душ» дистанция положений, все более откровенного равнодушия. Памятник делается, просвещенная Европа об этом знает — чего же еще? Чем дальше, тем явственнее: скульптор докладывает — Екатерина приказывает, теряя небрежно его письма, неделями затягивая неотложные ответы.
В Париже эскиз памятника вызывал восторги. В Петербурге восторгов почему-то нет. Наоборот, возникают разговоры о других вариантах (отчего бы скульптору о них не подумать?), о возможных оригиналах для подражания (отчего бы их прямо не повторить?). Разве не великолепен, например, римский памятник императора Марка Аврелия: торжественно шествующий конь и так же торжественно восседающий на нем всадник, словно благословляющий зрителей свитком законов в широко простертой руке. Порыв фальконетовского коня, крутизна скалы, противоборство обстоятельствам всадника — не слишком ли они многозначительны, сложны для толкования, попросту неуместны?
Правда, это почти всегда голос И.И. Бецкого, надоедливого старика, не должностного и не титулованного, приданного неизвестно зачем к строительству памятника. У Бецкого нет прямых административных прав, на него вполне можно жаловаться императрице. Фальконе жалуется. Екатерина соглашается. А толки идут своим чередом, назойливые, неотступные, унизительные.
В бесконечном каждодневном споре Фальконе не успевает толком разобраться, кто же он все-таки такой, этот злосчастный Бецкой.
Конечно, слухи. Только слухи. Но как упорно будут они возвращаться к матери — Екатерины II, ее давнишней ссоре с мужем, принцем Ангальт-Цербстским, не созданным, по-видимому, для семейных отношений, и к слишком тесной дружбе в Париже с молодым русским — Иваном Ивановичем Бецким. Дружба была прервана рождением будущей Екатерины. Принцессе пришлось вернуться к мужу. Бецкой заторопился в Петербург.
Что было в этом правдой: многое или ничего? Но с появлением Екатерины на престоле незаконнорожденный отпрыск семьи Трубецких, Бецкой, оказывается осыпанным царскими милостями. Не чинами и титулами — баснословными деньгами. Бецкому предоставляется на досуге заниматься вопросами просвещения, искусствами, и подчинен он не каким-нибудь там ведомствам — самой императрице.
Кстати, безжалостные взгляды современников успевают подметить и другое: Екатерина избегает появляться рядом с Бецким на официальных приемах. Не потому ли, что слишком похожа на него чертами лица?
Или дом Бецкого — с ним тоже все совсем не просто. Побочная дочь хозяина, Анастасия Соколова, доверенная камер-фрау Екатерины. Она живет у Бецкого, и там же проводит свободное от учения время сын императрицы — граф Бобринский. Для одной Анастасии Соколовой Екатерина снисходит становиться повивальной бабкой при каждых ее родах. Впрочем, она сама находит для Соколовой и мужа.
В этом полускрытом от глаз посторонних кругу свои отношения, свои счеты. И если Бецкому и никому другому поручалось наблюдение за Фальконе, значит, дело было особенно важным, а в нудных замечаниях старика оживала воля императрицы. Просто никаких открытых нажимов Екатерина не хотела: слишком тесно были связаны с постановкой памятника ее французские корреспонденты-философы.

К. Христинек. Граф Алексей Григорьевич Бобринский. 1769 г.
И снова смысл спора Фальконе — Бецкой. В нем явно стоит подробнее разобраться. Фальконе спорит до бешенства, до отчаяния. Для него дело не в самом Марке Аврелии. Как раз этот император как нельзя больше отвечает представлению французских просветителей об идеальном монархе. Но памятник, сам по себе памятник!
Как можно обращаться к его формам, скованным, в глазах Фальконе, мертвой формулой логики и расчета: ни естественного движения, ни намека на чувство, настроение. Не случайно Фальконе написал трактат именно об этом памятнике, именно на нем доказал, споря с Винкельманом, всю бездушность новомодных увлечений в искусстве. У них есть даже свое определение — классицизм. Фальконе не может принять классицизма с его прямыми отзвуками древних образцов и расчетливо выверенным ритмом символики.
Но Бецкой и те, кто за ним, не собираются спорить о тонкостях изобразительного языка. Для них все решается гораздо проще. Марк Аврелий — всеми признанный идеальный монарх. Так почему бы Петру всем своим видом не напоминать именно его? Внешнее подобие неизбежно наводит на мысль о подобии внутреннем: раз похож — похож во всем. Да, Фальконе спорит об одних формах. Но из этих форм — неужели он не отдает себе в этом отчета! — рождается иной образ, в конечном счете отвергающий всякое сходство с римским законодателем.
И ведь «бецкие» не ошибались. Это подтвердят пусть много позже, спустя полвека, записанные Мицкевичем слова Пушкина:
Нет, Марк Аврелий в Риме не таков,
Народа друг, любимец легионов,
Средь подданных не ведал он врагов…
И вот он с миром едет в Капитолий.
Но даже «бецкие» не предполагали возможности другой метаморфозы — метаморфозы памятника во времени. Что случилось с ним в глазах новых поколений, если одного взгляда на «лик Петра» стало достаточно, чтобы пушкинский Евгений из поэмы лишился рассудка? Что стояло за этим — фантазия поэта или способность человека иной эпохи прочесть то, что все-таки было заложено в образе?
Стефан Фальконе парижанин сочинил и изваял, Мари Анн Колло парижанка императору сходство сообщила, Антон Лосенко нарисовал в год 1770. Фальконе.
Надпись на предполагавшейся гравюре памятника Петру I
Новые кипы архивных дел — теперь уже история создания Медного всадника. Суммы ассигнованные, истраченные, невыплаченные. Наем рабочих, помощников. Перипетии с оборудованием мастерской. Пуды глины, гипса. Пробы бронзы. Бесконечная в своей повседневности бухгалтерия. И дрязги, такие же мелочные, въедливые, вросшие в каждый день. Помимо Бецкого, рассуждений о Марке Аврелии, непрочитанных и забытых Екатериной писем.
Творчество! Даже в оригиналах, с которых предстояло скульптору работать, он не был ни свободен, ни предоставлен самому себе. Какой там богатейший выбор прижизненных портретов Петра, на котором настаивают все историки искусства. Достаточно одного, и то не разысканного самим Фальконе, а выданного ему как предписание: Петр должен быть таким и только таким. Всякая фантазия, самостоятельные выводы художника заранее признавались неуместными.
Впрочем, по-настоящему это уже не имело отношения к Фальконе. Каждый справочник скажет, что голову памятника лепила Мари Анн Колло, ученица Фальконе, скульптор-портретист. Так было задумано с самого начала. Но странно — никто не задался вопросом почему так могло быть задумано.
Может быть, Фальконе вообще не лепил портретов? Но в списке работ, который он сам самостоятельно составлял, портреты есть, и их не так мало. Может быть Колло была здесь опытнее учителя? И снова нет В момент приезда в Россию ей всего восемнадцать лет, из которых она только два года училась скульптуре. Может все-таки Фальконе не уверен в себе? Но на это нет ни малейшего намека в его письмах. Напротив. Он готов все исполнить сам, да и как бы могло быть иначе. Значит остается непредвиденное.
И непредвиденное действительно случилось хотя обнаружить его сегодня, спустя двести лет, совсем нелегко Где-то неохотно, словно через силу роняет несколько скупых слов сам Фальконе в своих оставшихся неопубликованными записках. Где-то еще скупее оговариваются современники и чуть подробнее рассказывает в своих воспоминаниях внучка скульптора.
Три раза лепил голову памятника Фальконе — три раза наталкивался на неодобрение Екатерины Нет никаких объяснений по этому поводу нет. Просто не нравилось просто не подходило. И вот тогда-то впервые в связи с будущим Медным всадником появляется имя Мари Анн Колло. Появляется, чтобы остаться навсегда.
Просто ученица большого скульптора? Конечно и это, но только ли это. Перед отъездом Фальконе в Россию Дидро позирует ему в парижской мастерской Старые друзья, убежденные единомышленники. Фальконе слишком хорошо и давно знает Дидро. Дидро дорого увидеть себя изображенным рукой близкого человека. И когда уже сделаны последние штрихи, гневно брошенный молоток превращает портрет в россыпь осколков: Фальконе сравнил свою работу со сделанным одновременно с той же модели бюстом Мари Анн. Победа семнадцатилетней девочки слишком очевидна. Фальконе тут же дает слою никогда не браться за портреты: не его дело — не его призвание. И Дидро осторожно обходит молчанием вспышку друга. Редкая заслуга критика — он умеет оставаться объективным и с близкими людьми. От отсутствия Фальконе-портретиста искусство действительно не могло проиграть, талант же «маленькой Колло» был по-настоящему любопытен. Пусть всего год назад она бог весть какими путями («обстоятельства рождения и детства не выяснены», — туманно откликаются биографы) оказалась в мастерской скульптора.
Через год наступает отъезд в Петербург — вместе с Мари Анн. Родители, родственники, покровители — были ли они у Колло? Если и были — через много лет она будет ссылаться на необходимость поездки из Петербурга в Париж «по семейным делам», — для Мари Анн все слилось в лице учителя. С ним она без тени колебания оставляет Францию, Париж.
Рассчитывал ли Фальконе на сотрудничество Колло в памятнике? Ни в коей мере. Контракт касается одного Фальконе. Имени Мари Анн в нем нет, как нет с ней никакого договора вообще. Разве что туманное обещание русского посла, личного друга Фальконе и Дидро, Д.М. Голицына, найти в будущем способ оформить ее пребывание в Петербурге.
Петербург. 15 октября 1766 года. Анастасия Соколова одному из своих заграничных корреспондентов: «…Господин Фальконе приехал в наш город, наша государыня пригласила его, чтобы сделать статую Петра Великого. Он привез с собой свою воспитанницу 18 лет, это феномен. Не уступая ни одной из представительниц нашего пола, она преимущественно обращена к скульптуре. Они должны начать делать мой бюст…»
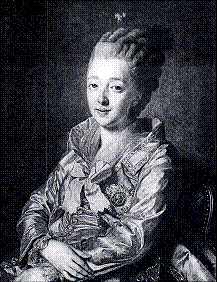
А. Рослин. Великая княгиня Наталья Алексеевна. 1776 г.
И вот Фальконе — шумный, нетерпеливый, стремящийся одним махом обрывать нити всех придворных интриг. И тень Мари Анн. В каждом письме скульптора к Екатерине упоминания: госпожа Колло кончила один бюст и готова начать другой, госпожа Колло уже может показать в мраморе медальон и начать работать над фигурой в рост, госпожу Колло задерживает отсутствие нужного материала. Анастасия Соколова, Генрих IV, великий князь Павел Петрович и его жена, Сюлли, Дидро, д’Аламбер, медаль в честь Григория Орлова, пресловутого спасителя Москвы от чумы 1771 года, бюсты Екатерины, и среди них один в подарок самому фернейскому патриарху — Вольтеру, портрет Фальконе… В ответ на шутливо покровительственный тон учителя по отношению к ученице полные уважительности ответы Екатерины. Она всегда рада видеть госпожу Колло, всегда найдет для нее новую работу. И ни одной строчки рукой самой Колло. Потому ли, что не знала придворного обхождения, потому ли, что им тяготилась, или просто, как потом всю жизнь, уступала место учителю, единственному человеку, которым бесконечно дорожила.
О Мари Анн говорят. В глазах современников она хороша собой — гибкая фигурка в глухом, плотно перехваченном косынкой платье и простом чепце на гладко зачесанных волосах. Прямой тонкий нос, высокий лоб и сосредоточенно испытующий взгляд больших темных глаз, без тени улыбки, почти тяжелый в своей пристальности. Двор удивлен трудолюбием Колло. Художников поражает редкая сосредоточенность и профессионализм. Окружающие привыкли к спокойной интонации и невозмутимой сдержанности. Она словно отстраняет от себя все, что не касается работы, и она одна способна смягчать взрывы доводимого до отчаяния учителя.
«Мне кажется, я знаю, чего хотят от вас. Разрешите мне сделать попытку со своей стороны… Может быть, мне удастся», — слова Колло, с которых началась работа над головой Петра. И кстати сказать, единственные слова Мари Анн, сохраненные памятью близких. Все привыкли слушать и запоминать одного Фальконе.
Ночь за работой, и Фальконе везет во дворец голову, вылепленную Колло. На этот раз «апробация» была полной: ничего не менять, все перенести самым точным образом в памятник.

Ф. Рокотов. Портрет великого князя Павла Петровича. 1761 г.
Случайный успех? Плоды откровенной симпатии Екатерины к Мари Анн? Или, судя по остальным работам Колло, совсем иное. Для Фальконе в образе идеального монарха портретность, точнее, характер значения иметь не могли. Идея [монумента] воплощалась прежде всего в композиции, ее внутреннем расчете и динамике. Таково наследие рокайля. Но для Колло живой человек, характер необходим. И дело не только в том, что она портретист по призванию. Это то стремление, которое приносит с собой классицизм, как, впрочем, порождает он целый разряд скульпторов, занимающихся только портретом. Знамение времени, но в России за ним стояла к тому же традиция интереса к живому человеку — портретному изображению. Рядом с бюстами Федота Шубина, полотнами Рокотова и Левицкого некий абстрактный «Петр для монумента» попросту не воспринимался. Не мог быть воспринят.
Но какие бы восторги ни вызывал первый набросок головы, он не удовлетворил Колло. У нее сложилось собственное представление о Петре, она слишком близко знала и замысел памятника. «Апробация»! Сколько месяцев и с какой настойчивостью Мари Анн будет искать этого равновесия: памятник — портрет. «Что мне известно об этом таланте, так это то, что он около года мучит меня моделью конной статуи, и весьма будет он счастлив, если сделает из нее что-либо не совсем дрянное; но надо всякому дать жить», — из письма Фальконе Екатерине от 10 октября 1775 года.
Может быть, можно было отозваться об усилиях Колло немного серьезней, может быть, хоть чуть уважительней. Но, независимо от того, оказалось ли задетым самолюбие Фальконе или нет, он и здесь сохранил верность своей безоговорочной объективности: «Стефан Фальконе парижанин сочинил и изваял, Мари Анн Колло парижанка императору сходство сообщила…»
…Виденный мною портрет Петра Великого кажется мне хорошим, приходите на него посмотреть: перемещать его мне бы теперь не хотелось.
Екатерина II — Э.М. Фальконе. 1775 г.
И все-таки какой же портрет непосредственно подсказал Колло ее решение? Известно, что он находился в мастерской Фальконе. Известно, что был для него единственным. Музейных экспозиций еще не существовало. Даже полотна, развешанные в дворцовых залах, никто не давал разрешения скульптору специально рассмотреть. Бумаги Нансийского музея больше никаких указаний не содержали-Ничего не удавалось найти и в петербургских дворцовых описях: когда и что именно было выдано для пользования скульптору. Тем досадней, что никаких иных оригиналов, как утверждают документы, вплоть до самой отливки Колло предоставлено не было. И здесь же один не совсем понятный эпизод.
В конце мая 1773 года до Фальконе доходят слухи об обнаруженном в кладовых дворца портрете Петра. «Подлинном» — что на языке художника означает несомненно написанном с натуры. Екатерина не думает ему об этом сообщать, и Фальконе пишет: «На днях узнал я, что ваше императорское величество нашли недавно портрет Петра Великого более схожий, чем имевшийся доселе. Если бы вам угодно было прислать мне его, то быть может сходство это можно было бы передать конной статуе, и госпожа Колло воспользовалась бы этим указанием…»
Екатерина не отрицает находки, но и не выражает желания предоставить ее скульптору. Он может посмотреть холст, но нет и речи о том, чтобы удовлетворить его требование привезти портрет в мастерскую: «Перемещать его теперь мне бы не хотелось». Поскольку Фальконе настаивает, дело кончается ничем. Новое изображение остается и для него и для Колло недоступным.
Правда, сделать в это время можно было уже слишком мало. Разве кое-где тронуть детали. Модель памятника закончена и показана публике еще в 1770 году. Тогда же состоялась доставка с Лахты его будущего постамента, знаменитого Камня-Грома, — событие, увековеченное специальной медалью с надписью: «Дерзновению подобно». Оставалось последнее — отливка. К ней Колло не имела отношения, как не должен был иметь отношения и Фальконе. Участие скульптора в этом заключительном этапе работ контрактом не предусматривалось. Обстоятельства решили иначе.
В целой Европе не нашлось литейщика, который бы согласился удовлетворить требованиям Фальконе: не составная — цельная отливка и вдвое более тонкая, чем принято, толщина стенок. Первое давало гарантию наиболее точного соответствия памятника модели, и главное — без швов и соединений отдельно отлитых кусков. Второе было обязательным, по расчетам скульптора, условием, чтобы фигура вздыбленного коня удержала равновесие и не отломилась.
Если литейщики с сомнением относились к первому требованию, то от второго категорически отказывались. У Фальконе оставался единственный выход — взяться за отливку самому. Постановка памятника тем самым отодвигалась на годы. Скульптору предстояло сначала изучить литейное дело и добиться первых удовлетворительных проб.
Приступить к окончательной отливке Фальконе решился только в 1775 году. И здесь после исключительно удачного начала, когда работа была близка к концу, произошло непоправимое. Заснул ночью дежуривший у литейной печи литейщик, огонь разгорелся и уничтожил верхнюю часть памятника: фигуру Петра, голову коня. В начавшемся пожаре Фальконе был ранен, потерял сознание. И только невозмутимое мужество артиллерийского литейщика Хайлова позволило спасти от уничтожения нижнюю часть памятника.
Все надо было начинать заново. Вернее — не все. Для самого Фальконе отдельные детали, зато для Колло действительно полностью ее труд.
Повторить старое? Для настоящего художника это невозможно. За годы работы накапливалось недовольство собой, своим решением, претензии к отдельным деталям. Но самое удивительное, что не столько Фальконе, сколько Колло спешит воспользоваться возможностью переделки.
«Ноги всадника совсем иные, чем были в форме. Протянутая рука поставлена иначе, чем в гипсовой модели, а следовательно и в форме. Голова героя лучше, чем в модели и форме», — пишет Фальконе год спустя Екатерине. Но он не преминет пожаловаться, как достался ему этот год. Госпожа Колло истощила бы терпение всякого: еще год бдений у скульптурного станка. Фальконе не может отказать в уважении усилиям своей ученицы, но и не скрывает, как докучает порой ее упорство, неудовлетворенность.
Впрочем, упорство Мари Анн известно. Удивительно другое. После бесконечного и беспрерывного реестра работ Колло — Фальконе по-прежнему ставит в известность Екатерину о каждой из них — пустота. Имя художницы исчезает из писем. На протяжении года ничего нового. «Конный монумент» и он один — это может прискучить любому корреспонденту.
Но в письмах есть и иная черта. Мари Анн словно досадливо отбрасывает все, что ей может помешать. Скульптуры Павла и его только что обвенчанной жены? Конечно же они будут сделаны. Потом. Со временем. Бюст д’Аламбера (Екатерина все еще играет в поклонницу французских энциклопедистов)? Она не может приняться за него сейчас. Потом. Когда-нибудь. Когда разыщет оригиналы. Другие заказы? Мари Анн не хлопочет о них. Больше того. Она начинает говорить о намерении отправиться в Париж — нехитрая уловка, чтобы все отнести ко времени своего возвращения оттуда.
Правда, Екатерина и не настаивает. Ведь это 1775 год. Отгремевшие раскаты пугачевских событий. Усилия Кучук-Кайнарджийского мира с турками, неотложного, спешного, лишь бы развязать руки для внутренних дел. И это княжна Тараканова — подлинная ли, мнимая ли дочь Елизаветы Петровны, вполне законная претендентка на русский престол в глазах доброй половины европейских монархов. Игра в меценатство становится для русской императрицы слишком обременительной. А Колло ее не только не побуждает. Она старается остаться в тени. Додумать. Доделать на свободе. Уйти в себя и в свой замысел.
Да, письма, одни и те же письма могут иметь для исследователя очень разный смысл — каждое в отдельности, в сопоставлении, в общем ряду или точно пересчитанные по дням. И вот именно тогда Колло по-настоящему входит в историю Медного всадника.
«Госпожа Колло, изображая имевшуюся у нее модель, сделанную шесть лет тому назад, присоединила все, что могла вспомнить из различных черт лица, движений, впечатлений, составляющих физиономию оригинала. И так, я думаю, что портрет похож», — это о портрете Дидро. Но это же и метод, которому, — единожды его приняв, — художник не в силах изменить никогда.
Петр I Мари Анн Колло. Сочетание необузданной воли и болезненной напряженности, силы и внутреннего противоборства, усилия во что бы то ни стало победить и глубокой усталости, властности и ума — не пресловутой мудрости, с которой приходят к человеку покой и умиротворенность. Петр весь в кипении страстей. От этого человека можно ожидать всего: великодушия, жестокости, прозрения, слепоты. Он способен на все, но какой для самого себя и других ценой!
Так можно прочесть живого человека — все дело в мере талантливости портретиста. Но живого человека не было. И жадный порыв Колло к работе от иного прозрения. Неотразимый в своей суровой красоте город — Петр его создавал. Ритм жизни — он его навязал. Размах дел — Петр стоял у их истоков. Люди, которые почти сами его видели, почти сами запомнили, — сорок лет со дня смерти не срок, чтобы. потерять ощущение человека, жившего рядом, тем более Петра.
И небольшая подробность. На этот раз в спешке восстановления едва не погибшего памятника Екатерина не могла отказать в найденном два года назад портрет»;. Вопреки первой, высокомерно раздраженной интонации отказа портрет Петра, именно тот, о котором шла речь, был отправлен в мастерскую обоих скульпторов. Теперь мне оставалось его только найти.
Получа сие письмо, скажи Ивану Никитину, чтоб он взял с собой, краски и инструменты, также и полотно, на чем ему писать персону государеву, приехал сюда немедля.
Кабинет-секретарь Петра I — И.А. Черкасову. 31 июля 1721
Всего только найти… Конечно, есть указания дли поиска. Несомненно происхождение из дворцовых собраний: трудно себе представить, чтобы такого рода царский портрет оказался в частных руках. Несомненно портрет прижизненный — написанный до 1725 года. К тому же отмеченный редким сходством, которое в отношении Петра давалось художникам достаточно трудно, — значит, написанный кем-то из близко знавших его мастеров. Все так, но как эти соображения практически применить?
Сотни полотен в десятках собраний. Портреты в рост и по грудь, в отливающих вороненой сталью латах и в бархатных камзолах, в сияющих белизной горностая мантиях и в суконных «полевых» офицерских мундирах, в жестяном плетении лавровых ветвей и в путанице редеющих, но все еще смоляных волос, — изображения Петра бесконечны в своем разнообразии. Точнее — в разнообразии выдумки художников. Сколько их писало Петра с натуры, попросту имело возможность видеть в лицо и сколько пользовалось чужими оригиналами для домыслов, иногда порожденных прозрением чувства, чаще недопонятостью, простой нехваткой необходимого мастерства.
Что-то было сделано при жизни Петра, большинство позже. Много, позже. Но холст XVIII века обманывает историка однообразием своего плетения — «зерна», красочный слой — глубиной и замысловатостью трещин на нем — кракелюр, манера письма ошибками: то ли ранний по времени художник, то ли недоучка. И едва ли не единственный принятый пока способ классификации — типы. Типы по их подражанию доподлинно установленным оригиналам известных по именам мастеров — француза Каравакка, голландца Таннауера, англичанина Кнеллера, других. «Своим» не повезло. Оригиналы русских художников остаются невыясненными, а вместе с ними и ряд подражаний им. А разве не интересно, кто, когда, почему больше привлекал для повторений? Это как волны в прибое менявшихся эстетических представлений, человеческого — общественного сознания. Так какой же из них?
Еще раз знакомый мундир бомбардирской роты Преображенского полка — он до конца остался любимым у Петра. Густо-зеленое сукно. Золотой позумент. Складки высокого воротничка сорочки, сколотого булавкой с изумрудом. И лицо. Нервное, в мелких отечных мешочках, готовое перекоситься тиком, взорваться безудержным гневом, бурным восторгом. Подвижные, будто подрагивающие под ниткой усов губы. Разлет напряженно поднятых бровей. Взгляд выжидающе настороженный, недоверчивый, почти враждебный в нетерпеливом повороте головы. Слишком человек, чтобы его представить себе монархом. И не в этом ли незадачливая судьба портрета? Он почти никогда не воспроизводился, почти никогда не оказывался в залах Русского музея.
А между тем это Иван Никитин. Любимец Петра. Первый и непревзойденный в глазах современников «персонных дел мастер». Не чьи-нибудь — только никитинские работы Петр хотел видеть, в Европе, непременно, любым путем, «чтобы знали, что есть и из нашего народа добрые мастеры». И только о нем, единственном из русских художников, достоверно известно, что писал Петра с натуры много раз и даже в какие именно дни и часы.
Все в этом холсте заучено на память, но… На обороте подрамника затертая до черноты старого дерева бумажная наклейка, еле уловимый, точеный рисунок французской скорописи. В переводе: «Петр I император России лично написанный с натуры происходит из Кабинета скульптур 954». И чуть ниже на другом листке: «Возвращен от мадам Фальконе 954». «Мадам Фальконе» — несостоявшаяся страница личной жизни Мари Анн…
В 1773 году без предупреждения и переписки в Петербурге появляется сын Фальконе, Пьер. Странные взаимоотношения, странный приезд. Пьер живописец, но отец незнаком с его мастерством. Фальконе готов просить о внимании к нему Екатерины, но открыто признается, что не знает, заслуживает ли его Пьер. Да и откуда ему знать — Пьер слишком долго жил в Англии, слишком молодым туда уехал. Награды Салона, восторги модных английских дам для Фальконе-отца не значат ничего. И как проба — портрет Колло, который Фальконе-отец просит разрешения представить во дворец.
Екатерина не в восторге, но и не отказывает. Пусть Пьер при желании попробует силы в ее собственном портрете. Само собой разумеется, позировать она ему не будет. Достаточно, если он увидит императрицу с галереи во время бала.
Опыт оказался бесполезным. Портрет не понравился, как, впрочем, и все остальные работы Фальконе-сына. Делать в Петербурге Пьеру было решительно нечего.
Спустя два года Мари Анн направляется в Париж под предлогом устройства неких семейных дел. Под предлогом, потому что настоящая цель поездки — публикация гравюры памятника, о которой мечтает Фальконе. Скульптор пишет, что вместе с ней едет на родину и Пьер. Состоялась ли эта совместная поездка, или Пьер продолжал безуспешные попытки задержаться в России, найти заказчиков, признание? Во всяком случае, по возвращении Мари Анн он в Петербурге. И в 1777 году совсем незаметно, без празднования и огласки происходит их свадьба. Свадьба, которая навсегда разделила двух самых близких Фальконе людей.
Через два месяца после венчания Пьер стремительно оставляет Петербург. Мари Анн остается. Она приедет в. Париж много позже, одна, когда Пьер навсегда переедет в Англию. Больше они не будут искать встреч.
И вот «мадам Фальконе»… Значит, полученный из дворца портрет оставался в мастерской Фальконе — Колло по крайней мере до конца 1777 года, когда художница приняла фамилию мужа. Значит, это и есть тот самый последний портрет, которому суждено было претвориться в образ Медного всадника. Достоверность наклеек — ее-то совсем нетрудно проверить.
Характер бумаги, характер почерков как точная подпись лет — 1770-1780-е годы. Так писали именно тогда — дробной россыпью еще очень четко читаемых букв. И то же с бумагой. Ее сорт — плотный, с кажущимся рифлением, лишь кое-где тронутым разводами водяных знаков. Он начал изготовляться в начале века, но характерный зеленоватый оттенок приобрел именно в эти годы. И другое — чему могли вообще служить совсем необычные наклейки.
В дворцовых кладовых встречались заменявшие инвентарные номера записи, в том числе и на французском языке. Но кто бы из хранителей или писарей стал подробно объяснять, что Петр император России, что данный портрет написан с натуры и к тому же происходит из некоего мифического «Кабинет скульптур». Вернее предположить другое.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава 1. А приписывали Петру…
Глава 1. А приписывали Петру… Все, что приписывается «гению Петра», появилось в России XVII, а то и раньше. Скажем, иностранных мастеров для строительства каменных храмов в Кремле приглашали еще в XV веке, после того как рухнул полувозведенный Архангельский храм. Что
Отношение народа к Петру
Отношение народа к Петру Во все продолжение преобразовательной работы Петра народ оставался в тягостном недоумении, не мог уяснить себе хорошенько, что такое делается на Руси и куда направляется эта деятельность: ни происхождение, ни цели реформы не были ему достаточно
ЕКАТЕРИНА II
ЕКАТЕРИНА II Мать Екатерины, Иоанна Елизавета, принадлежала к голштейн-готторпскому княжескому роду, одному из многочисленных княжеских родов Северной Германии, а её отец, Христиан Август — к другому тамошнему же и ещё более мелкому владетельному роду
Памятник Петру I на Сенатской площади (Медный всадник)
Памятник Петру I на Сенатской площади (Медный всадник) Это один из основных и первых символов Петербурга. И самый узнаваемый символ города во всём мире.Памятник Петру I на Сенатской площади с лёгкой руки Александра Сергеевича Пушкина получил наименование «Медный
Исаакиевский собор — выдающийся памятник Петру Великому
Исаакиевский собор — выдающийся памятник Петру Великому Наименование объекта. Здание Исаакиевского собора.Маршрут следования к объекту. По аллее Адмиралтейского сада подойти к южной границе сада.Остановка на маршруте. На площадке сада, расположенной напротив
ЯРЛЫК, ДАННЫЙ ОТ КЫПЧАКСКОГО ЦАРЯ УЗБЕКА ПЕТРУ МИТРОПОЛИТУ РОССИИ… (ОКОЛО 1313 ГОДА)
ЯРЛЫК, ДАННЫЙ ОТ КЫПЧАКСКОГО ЦАРЯ УЗБЕКА ПЕТРУ МИТРОПОЛИТУ РОССИИ… (ОКОЛО 1313 ГОДА) Вышнего и бессмертного Бога силою и волею и величеством и милостию Его многою Азбяково слово… Да никто же обидит на Руси соборную церковь митрополита Петра и его людей и церковных его, да
5. Карта мира, созданная в 1707 году Василием Киприановым и преподнесенная Петру I, изображает мир существенно по-иному, чем принятая сегодня историческая версия
5. Карта мира, созданная в 1707 году Василием Киприановым и преподнесенная Петру I, изображает мир существенно по-иному, чем принятая сегодня историческая версия 5.1. Василий Киприанов и Яков Брюс Работая со старыми документами и критически анализируя их, без оглядки на
419. ТАЙНЫЯ СТАТЬИ, ДАННЫЯ ПЕТРУ АНДРЕЕВИЧУ ТОЛСТОМУ (1702 АПРЕЛЯ 1)
419. ТАЙНЫЯ СТАТЬИ, ДАННЫЯ ПЕТРУ АНДРЕЕВИЧУ ТОЛСТОМУ (1702 АПРЕЛЯ 1) Статьи тайные, по которым, будучи при дворе салтанова величества, столнику Петру Андреевичу Толстому чинить со всяким радением, и наведываться втайне по сим нижеписанным статьям, данным в нынешнем 1702-м году
«Принадлежу не Петру, а Богу!»
«Принадлежу не Петру, а Богу!» Время как бы шлифует исторические события. Спустя десятилетия они теряют подробности, лишаются славных имен своих участников и в результате занимают всего лишь нескольку строк на страницах учебников или специальных изданий. Хорошо хоть,
А. Д. Меншиков – Петру II{13}
А. Д. Меншиков – Петру II{13} Санкт-Петербург, 8 сентября 1727 г. По вашего императорского величества указу сказан мне арест, и хотя я никакого вымышленного перед вашим величеством погрешения в совести моей не нахожу, понеже все чинил я ради лучшей пользы вашего
V. Похвальная Грамота (в списке) Государя Царя Михаила Феодоровича, Гетману Петру Конашевичу и всему войску Запорожскому, за их усердие и готовность к поискам над Крымскими Татарами, с уведомлением о посылке к ним в награждение денежного жалованья, и о прекращении такових поисков по случаю примирени
V. Похвальная Грамота (в списке) Государя Царя Михаила Феодоровича, Гетману Петру Конашевичу и всему войску Запорожскому, за их усердие и готовность к поискам над Крымскими Татарами, с уведомлением о посылке к ним в награждение денежного жалованья, и о прекращении такових
VII. Екатерина Черкасова – дочь Бирона (Баронесса Екатерина Ивановна Черкасова, урожденная принцесса Бирон)
VII. Екатерина Черкасова – дочь Бирона (Баронесса Екатерина Ивановна Черкасова, урожденная принцесса Бирон) Фамилия Биронов недолго оставалась на страницах русской истории: подобно такой же пришлой фамилии Годуновых, Бироны, с грозным «временщиком» во главе, слишком
ПЕТР ПЕРВЫЙ. ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ о том, как в яростной борьбе поднялся монумент в честь "Трехсотлетия Российского флота", атакованный со всех сторон и устоявший на отведенном ему месте. Есть у него и неофициальное название — памятник Петру.
ПЕТР ПЕРВЫЙ. ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ о том, как в яростной борьбе поднялся монумент в честь "Трехсотлетия Российского флота", атакованный со всех сторон и устоявший на отведенном ему месте. Есть у него и неофициальное название — памятник Петру. Вернемся в центр Москвы, в город
XI. Замѣчательнѣйшія постройки екатерининскаго времени. – Исакіевскій соборъ. – Мраморный дворецъ. – Таврическій дворецъ. – Памятникъ Петру Великому.
XI. Зам?чательн?йшія постройки екатерининскаго времени. – Исакіевскій соборъ. – Мраморный дворецъ. – Таврическій дворецъ. – Памятникъ Петру Великому. Сознавая политическое величіе Россіи и ея развивающееся богатство, Екатерина II стремилась украсить Петербургъ
XV. Императоръ Павелъ I. – Постройка Михайловскаго замка. – Памятникъ Петру I. – Упраздненіе городской думы и учрежденіе ратгауза.
XV. Императоръ Павелъ I. – Постройка Михайловскаго замка. – Памятникъ Петру I. – Упраздненіе городской думы и учрежденіе ратгауза. Вступившій на престолъ въ 1796 г. императоръ Павелъ I, будучи противникомъ роскоши и барской изн?женности, ввелъ въ гвардіи новые мундиры